Текст книги "Генезис и структура квалитативизма Аристотеля"
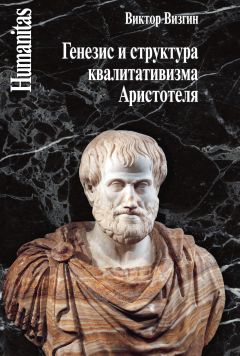
Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава третья
Качество и знание
§ 1. Соотношение математики и физики
В нашем анализе критики Аристотелем математической теории вещества Платона мы подошли к необходимости рассмотрения взглядов Стагирита на математику вообще и на соотношение ее с физикой в частности. Геометрическая теория Платона предполагает вполне определенное понимание математики, природы математических объектов, их онтологического статуса и познавательной функции. В рамках платоновского понимания математики конструкции «Тимея» оказываются вполне правомерными. Расхождения Аристотеля с Платоном лежат поэтому несколько глубже и не сводятся к простому рассогласованию во взглядах на вещество и его строение: одним из оснований этого расхождения теперь выступило их разное понимание математического знания.
Уже предварительный сравнительный анализ отношения к математическому знанию Платона и Аристотеля вскрывает любопытную парадоксальность позиций двух философов. Действительно, Платон подчеркивает принадлежность математических предметов к умопостигаемому бытию. Математика у Платона – это пропедевтика в науку об истинном трансцендентном бытии мира идей. «Это наука, – говорит о геометрии Сократ, – которой занимаются ради познания вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет» (Государство, VII, 527b). Итак, у Платона математические предметы образуют особый умопостигаемый мир, лежащий «на пути» от мира становления, мира чувственно воспринимаемых явлений к миру истинного бытия, идеальных сущностей. Аристотель критикует именно это изолированное (χωρισμός), т. е. трансцендентное самостоятельное существование математических предметов вне феноменального мира. Одним из основных аргументов, выдвигаемых Аристотелем против отдельного – отделенного от физических тел и явлений – существования математических предметов является то, что такое существование делает невозможным обнаружение их свойств в физическом мире. Он говорит: «Ясно также, что математические предметы не существуют отдельно; если бы они существовали отдельно, то их свойства не были бы присущи телам» (Метафизика, XIV, 3, 1090а 28–31). Это затруднение Аристотель считает основным: как можно объяснить передачу свойств от сущностей к явлениям при наличии разрыва между двумя мирами, если математические предметы существуют отдельно и самостоятельно? Такие способы соединения этих миров, как «приобщение» или «подражание», Аристотель отбрасывает, считая их «пустыми метафорами» (Метафизика, I, 9, 192а 27–28).
Ситуация оказывается весьма парадоксальной. У Платона математические предметы существуют вне физических тел, но они их самым решительным образом определяют и составляют их подлинную сущность. У Аристотеля же математические предметы погружены как их отвлеченные моменты, как абстракции, в сами физические тела, но зато совершенно инактивированы в их объяснительной функции, в их роли сущностей и детерминантов физического мира. Парадокс еще более обостряется тем обстоятельством, что Аристотель отвергает отдельное существование математических предметов во имя и ради объяснения свойств физических тел. Эти предметы являются для Аристотеля всего-навсего абстрактными математическими свойствами, т. е. посторонними для физики. Итак, парадоксальность этих двух позиций мы видим в том, что, изолируя математические предметы от физических, Платон энергично математизирует физику, Аристотель же, погружая математическое вглубь физического, дематематизирует физику. Парадокс состоит в уравновешивании каждой позиции ее противоположностью, отрицанием. Платоновский разрыв математического и физического миров уравновешивается сведением физического мира к математическому («в сущности»), а аристотелевское погружение математического в физическое, их «слияние», уравновешивается их реальным разрывом: математическое знание выносится за рамки физики, математические предметы не объясняют «поведение» физических тел[49]49
Такова основная тенденция аристотелевской концепция природы. Хотя Аристотель не так уж редко рассматривает количественное отношение объектов физики, однако в принципе количественный фактор у него оказывается подчиненным качественному, как мы это уже видели. Только в очень редких случаях количественный фактор определяет направление течения процесса (например, GC, I, 10, 328а 26–27). Характерно, что количественное соотношение рассматривается скорее в качественной форме (больше – меньше), чем в собственно количественной или числовой, как, например, у Платона.
[Закрыть].
Эту ситуацию, которую мы назвали парадоксальной, требуется объяснить. Констатация уравновешивания противоположных моментов в каждой из сравниваемых между собой позиций не есть еще объяснение. Мы интересуемся, конечно, прежде всего аристотелевской концепцией. Почему погружение математических предметов вглубь физического мира приводит к тому, что физика в результате дематематизируется? Почему это «сближение» оказывается самым серьезным разъединением физики и математики, которое, как считает Сольмсен [124, с. 261], историки науки вправе рассматривать как препятствие, поставленное именно Аристотелем научному прогрессу? Мы пока оставим в стороне подобного рода оценки позиции Аристотеля и рассмотрим его концепцию математики в плане ее соотношения с физикой. Это рассмотрение, конечно, не будет полным анализом этого сложного вопроса. Мы постараемся ответить только на поставленный нами вопрос: почему у Аристотеля происходит удаление математики из структуры физического знания, почему его позиция приводит к такой решительной дематематизации физики? Очевидно, что при этом мы надеемся в определенной степени раскрыть его нематематический подход, так как это размежевание физики и математики имеет самое непосредственное отношение к становлению и оформлению этого подхода.
«Погружение» математического в физическое у Аристотеля сопровождается ослаблением объяснительной функции математики в физике потому, что такое «погружение» оказывается разделяющим соединением математических и физических предметов. Поясним этот на первый взгляд парадоксальный тезис. Действительно, математические и физические предметы Аристотель рассматривает сквозь призму такой оппозиции или бинарной классификации: предметы, полученные абстрагированием («вычитанием», отвлечением), и предметы, полученные соединением, сложением. Математические предметы – это предметы, произведенные абстрагированием определенных свойств существующих природных вещей от всех их чувственно воспринимаемых качеств (τά μέν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσϑαι; О небе, III, 1, 299а 16–17). Физические же предметы – это предметы, которые по отношению к математическим выступают как продукты сложения, добавления (τά δὲ φυσικά έκ προσϑέσεως). Таким образом, абстрагирование, характерное для математических предметов, и отделяет их от физических предметов. Физика так же относится к математике, как одна математическая наука, геометрия, относится к другой – арифметике. Действительно, «наука, исходящая из меньшего [числа начал], – говорит Аристотель, – точнее и выше науки, [требующей некоторого] добавления, например арифметика по сравнению с геометрией. Под требующим добавления я понимаю то, что, например, единица есть сущность без положения [в пространстве], точка же – сущность, имеющая положение [в пространстве]; это [последнее] и есть добавление» (Вторая аналитика, I, 27, 87а 35–37). Используя современную оппозицию «абстрактное – конкретное», можно сказать, что физика оперирует более конкретными предметами, чем математика. «Математик, – говорит Аристотель, – исследует отвлеченное (ведь он исследует, опуская все чувственно воспринимаемое, например тяжесть и легкость, твердость и противоположное им, а также тепло и холод и все остальные чувственно воспринимаемые противоположности, и оставляет только количественное и непрерывное, у одних – в одном измерении, у других – и двух, у третьих – в трех…» (Метафизика, XI, 4, 1061а 28–1061b 8, курсив наш. – В.В.). Итак, согласно Аристотелю математик отвлекается от физических чувственно воспринимаемых качеств и от всего дискретного[50]50
По-видимому, математик, которого здесь имеет в виду Аристотель, это – геометр. Приведенное место из «Метафизики» нельзя истолковывать в том смысле, что математика, по Аристотелю, не имеет дела с дискретными объектами. Дискретными количествами, изучаемыми математикой, являются, в частности, числа (Категории, VI).
[Закрыть].
Однако абстракция не только от физических качеств и дискретности характеризует математику. Существенной характеристикой математики в ее соотношении с физикой является абстракция и от движения и материи[51]51
Правда, не от всякой материи: «Материя, – говорит Аристотель, – имеется у всего, что не есть суть бытия вещи и форма сама по себе, а есть определенное нечто» (Метафизика, VII, 11, 1037а 1–2). Будучи определенными вещами, математические предметы наделяются особой материей – умопостигаемой (ὓλη νοητή) (там же, 10, 1036а 9). Та материя, от которой абстрагируется математика, – это материя, воспринимаемая чувствами (ὓλη αίσϑητή), служащая материей для вещей физического мира (см. об этом далее).
[Закрыть]. Рассмотрим теперь этот важный момент. Соотношение физики и математики в этом плане специально исследуется Аристотелем во второй главе второй книги «Физики». Прежде всего Аристотель подчеркивает, что «природные тела имеют и поверхности, объемы и протяжение в длину, и точки, изучением которых занимается математик» (Физика, II, 2, 193b 24–26). Соединение математики с физикой обусловливается, таким образом, тем обстоятельством, что и математика и физика изучают в конце концов мир природных тел. Математические предметы, по Аристотелю, «погружены» в мир природных тел, а математик их извлекает из него и делает предметом специального анализа. Конечно, все геометрические фигуры представляют собой границы реально существующих природных, физических тел, но математик, подчеркивает Аристотель, занимается ими «не поскольку каждая из фигур есть граница физического тела» (Физика, II, 2, 193b 32). Математик отвлекается от физического существования тел, причем такое абстрагирование – законно и необходимо: «Мысленно фигуры можно отделить от движения: это действие безразлично и отделение не представляет ошибки» (там же, 193b 34, курсив наш. – В.В.). Но это отделение законно только как акт мышления, только как мысленное, но не такое, которое придает своим объектам внемысленное существование. Этот момент нам представляется центральным в аристотелевской философии математики.
В основе математики, по Аристотелю, лежит специфический познавательный прием, вполне законный при определенных условиях – при том условии, прежде всего, что математические предметы не выдаются за реально существующие, что им не придается статус действительного бытия, самостоятельного существования, отдельного от мира природных индивидов. Более того, этот прием очень продуктивен в познавательном отношении: «Лучше всего, – говорит Аристотель, – можно каждую вещь рассматривать таким образом: полагая отдельно то, что отдельно не существует, как это делает исследователь чисел и геометр» (Метафизика, XIII, 3, 1078а 21–23). Этот прием используют и философы, «которые учат об идеях», однако «они абстрагируют физические свойства, менее отделимые, чем математические» (Физика, II, 2, 193b 35). Математика выступает моделью для построения платоновской теории идей. Аристотель, однако, обращает внимание на то, что физические свойства, гипостазируемые в идеях, по своей природе менее отделимы, чем математические. Но этот момент ускользает от платоников. Ошибка платоников, по Аристотелю, коренится в том, что они не понимают абстрактной природы математических предметов и скроенных по их подобию идей и говорят о них так, как будто бы они существуют сами по себе, являясь самостоятельным бытием, причем более высокого ранга, чем тела и явления физического мира. Одни и те же естественные физические тела математики и физики рассматривают в разных аспектах, под разными углами зрения, в разных модальностях «постольку – поскольку»[52]52
Интересный анализ аристотелевской теории математики как теории, основанной на возможности определенного «постольку – поскольку» (Insofern), дает Виланд [144, с. 198–199].
[Закрыть].
Итак, мы можем констатировать, что Аристотель действительно сближает математику и физику в том отношении, что обе они, в конце концов, рассматривают одни и те же естественные тела. Однако математика их рассматривает постольку, поскольку они наделены протяжением и обладают величиной, т. е. поскольку они есть нечто количественное и непрерывное. В этом плане анализируя свой предмет, математик неминуемо отвлекается от движения. «Нечетное и четное, прямая линия и кривая, далее число, линия и фигура, – подчеркивает Аристотель, – будут существовать и без движения, а мясо, кость и человек – ни в коем случае, так же как нос называется курносым, а не криволинейным» (Физика, II, 2, 194а 5–8).
Обратим внимание на биоморфный характер физических объектов, упоминаемых Аристотелем в плане их сопоставления с математическими. Характерно, что и в других сочинениях, например в «Метафизике», сопоставляя физику и математику и используя в качестве показательного примера «курносость», Аристотель приводит в качестве типично физических предметов органические объекты (Метафизика, II, 7, 1064а 26–27). Аналогичное рассуждение мы находим и в VI книге «Метафизики»: «Если о всех природных вещах говорится в таком же смысле, как о курносом, например: о носе, глазах, лице, плоти, кости, живом существе вообще, о листе, корне, коре, растении вообще (ведь определение ни одной из них не возможно, если не принимать во внимание движение; они всегда имеют материю), то ясно, как нужно, когда дело идет об этих природных вещах, искать и определять их суть…» (там же, VI, 1, 1026а 1–4). Мы можем предположить, что сдвиг в трактовке физики у Аристотеля по отношению к Платону состоял в переориентации физики с математического на биологическое знание. Моделью физических предметов выступают органические объекты, в которых форма не существует без материи и движения. Подчеркнем эту взаимосвязь материи и движения, которая явно проглядывает, например, в только что приведенной цитате. Обладать движением и иметь материю – это для Аристотеля одно и то же: это означает принадлежать к физической действительности. Математические предметы могут быть отделены от материи физических тел и движения только в абстракции, производимой мышлением, но реально существовать вне чувственно данных природных тел они не могут.
Говоря о том, что математические предметы характеризуются абстракцией от материи, необходимо выяснить, какая именно материя имеется в виду. Прежде всего обратим внимание на универсальность категории материи и на ее конкретность: в любой предметной области для вещей каждого рода есть своя материя. Это понятие чрезвычайно гибко и богато, чем и гарантируется его универсальность. Действительно, Аристотель считает, что математические предметы наделены особой материей. Например, он задает вопрос, какая же из наук «должна исследовать материю математических предметов»? (Метафизика, II, 1, 1059b 15–16). Математические предметы – это числа, тела, плоскости, точки (Метафизика, III, 5, 1001b 26), это также «нечетное и четное, прямая линия и кривая (Физика, II, 2, 194а 1–2). Полной абстракции от матери в математике не происходит: происходит лишь абстракция от чувственной материи (ὓλη αἰσϑητή) или, как один раз ее называет Аристотель, от физической материи[53]53
Или «природной материи» в переводе П.С. Попова.
[Закрыть] (φυσική ὓλη) (О душе I, 1, 403b 17–18). Этой материи, которая, впрочем, также разнообразна внутри себя, Аристотель противопоставляет умопостигаемую материю (ὓλη νοητή). «Умопостигаемым, – говорит Аристотель, – я называю, например, круги математические, чувственно воспринимаемые, например – медные или деревянные» (Метафизика, I, 10, 1036а 3–5).
Характерной особенностью чувственно воспринимаемой материи является движение, именно этим – помимо доступности для чувственного восприятия – она отличается от умопостигаемой материи. «Есть, – говорит Аристотель, – с одной стороны, материя, воспринимаемая чувствами, а с другой – постигаемая умом, воспринимаемая чувствами, как, например, медь, дерево или всякая движущаяся материя, а постигаемая умом – та, которая находится в чувственно воспринимаемом не поскольку оно чувственно воспринимаемое, например, предметы математики» (там же, 1036а 8–12, курсив наш. – В.В.).
Понятие умопостигаемой материи у Аристотеля, однако, шире понятия материи математических предметов. Помимо обозначения материи математических предметов, «умопостигаемая материя» употребляется Аристотелем как обозначение рода в дефинициях вообще, как материя логических определений. «Одна материя умопостигаема, – говорит Аристотель, – другая – чувственно воспринимаема, и одно в определении всегда есть материя, другое – осуществленность, например: круг есть плоская фигура» (Метафизика, VIII, 6, 1045а 33–35). Род плоских фигур является в плане определения круга его умопостигаемой материей. И такое понятие умопостигаемой материи, очевидно, отлично от ее первого значения, как «математической» материи, т. е. субстрата математических предметов, в частности, круга. Этот субстрат для геометрических фигур есть протяженность или непрерывное (Метафизика, XI, 3, 1061а 35).
В связи с анализом понятия умопостигаемой материи как материи математических предметов (или просто математической материи) интересно рассмотреть критику Аристотелем платоновского понятия материи. Заметим прежде всего, что выражение «математическая материя» хотя и не встречается у Аристотеля, но вполне могло бы быть им образовано: здесь имеется полная аналогия с выражением «физическая материя», которое мы у него находим и которое служит синонимом чувственной материи, материи физических предметов. Аристотель, критикуя платоновское понимание материи как «большого и малого», говорит, что она «слишком математического свойства», т. е. слишком математична, чтобы быть подлинной материей как началом физического мира, для которого прежде всего характерно движение (Метафизика, 1,9, 992b 2). Математичность этой материи – притом явно чрезмерная – в том, что она не может объяснить движение, не может быть его источником. «Что касается движения, – рассуждает Аристотель, – то ясно, что если бы большое и малое были движением, эйдосы должны были бы двигаться; если же нет, то откуда движение появилось? В таком случае было бы сведено на нет все рассмотрение природы» (там же, 992b 6–8).
В XIV книге «Метафизики» Аристотель возвращается к критике платоновской материи, при этом его упрек в том, что она слишком математическая, получает дополнительное разъяснение. Здесь Аристотель обращает внимание на онтологическую значимость такой материи. Как соотнесение большого и малого эта материя оказывается сущностью в меньшей степени, чем другие категории, следующие в аристотелевском учении о категориях за сущностью. «Из всех категорий, – говорит Аристотель, – соотнесенное меньше всего есть нечто самобытное или сущность» (1088а 24). И далее он продолжает это рассуждение так: «А что соотнесенное есть меньше всего некоторая сущность и нечто истинно сущее, подтверждается тем, что для него нет ни возникновения, ни уничтожения, ни движения в отличие от того, как для количества имеется рост и убыль, для качества – превращение (ἀλοίωσις), для пространства – перемещение, для сущности – просто возникновение и уничтожение» (1088а 31–33). Таким образом, слишком математическая материя Платона, по Аристотелю, явно бесплодна в учении о природе, для которой характерно движение. «Учение же о природе, – подчеркивает Аристотель, – занимается тем, начало движения чего в нем самом» (Метафизика, XI, 7, 1064а 15).
Из этих рассуждений Аристотеля можно сделать и другой вывод, касающийся его отношения к математике. «Слишком математична» означает слишком неонтологична, т. е. слишком далека от ведущей онтологической категории – категории сущности. Математическое, по Аристотелю, касается определенных атрибутов физических сущностей, имеет дело с определенной проекцией подвижных физических тел – с проекций неподвижной, существующей лишь в мышлении, производящем такую абстракцию. Математические предметы – это скорее определения сущностей, их характеристики определенного рода, но не сами сущности. Эта мысль явно содержится в том сопоставлении понятия материи у Платона с досократическими учениями о разреженном и плотном, которое здесь, критикуя Платона, делает Аристотель (Метафизика, I, 9, 992b 5–7).
Итак, мы уже можем констатировать, что основной сдвиг в понимании математики, характеризующий позицию Аристотеля по отношению к позиции Платона, состоит в изменении ее онтологического статуса. Рассмотрим теперь эту проблему подробнее.
Платоновская материя как слишком математическая далека от сущности, от бытия и поэтому не может быть подлинным началом. Математика, таким образом, исключается Аристотелем из начал физического мира. Это означает полное переосмысление онтологического ранга математического знания, предмета математики. Нематематический характер аристотелевской физики ярко проявляется в понимании Аристотелем требования точности и строгости научного знания. Кстати заметим, что строгость и точность в греческом языке не различаются: ἀκριβές – строгость, точность, глагол ἀκριβόω означает точно знать, строго выравнивать, выстраивать вещи [13, т. 1, с. 69]. Отношение Аристотеля к математической точности (ἀκριβολογίαν τὴν μαϑηματικήν) определяется его пониманием природы математических предметов как нематериальных и неподвижных. Естественно, «материя» здесь берется как физическая материя чувственно воспринимаемых вещей. Математической точности нужно требовать не для всех предметов, а лишь для нематериальных. «Вот почему, – заключает Аристотель, – этот способ не подходит для рассуждающего о природе, ибо вся природа, можно сказать, материальна» (Метафизика, II, 3, 995а 15–17). Математическое знание наиболее строго, потому что математика отвлекается от движения: абстракция от чувственно воспринимаемой материи и абстракция от движения – это по существу одна и та же абстракция, превращающая предмет физики в предмет математики.
Строгость математики обусловлена также и ее простотой и логическим превосходством над физикой: математические предметы более первичны по определению (но не по сущности), чем физические предметы. Поэтому если в онтологической иерархии физические предметы стоят впереди математических, то в логической иерархии, в иерархии организованного по формальной высоте знания математика стоит впереди физики. «Чем первее по определению и более просто то, о чем знание, тем в большей мере этому знанию присуща строгость (а строгость эта в простоте); поэтому, когда отвлекаются от величины, знание более строго, чем когда от нее не отвлекаются, а наиболее строго, – когда отвлекаются от движения» (Метафизика, XIII, 3, 1078а 9–12). Формальная высота знания прямо связана с простотой и абстрактностью науки: «Наука, исходящая из меньшего [числа начал], точнее и выше [требующей некоторого] добавления, например, арифметика по сравнению с геометрией» (Вторая аналитика, I, 27, 87а 35). Арифметика абстрактнее геометрии, так как геометрия требует для своего начала положения в пространстве, а арифметическое начало – единица – «сущность без положения [в пространстве]» (там же).
Аналогичным образом Аристотель оценивает ранг науки, исходя из степени абстракции от материи: «Наука, не имеющая дела с “материальной” основой, – подчеркивает он, – точнее и выше науки, имеющей с ней дело, как, например, арифметика по сравнению с гармонией» (там же, 87а 34).
Итак, аристотелевские представления о математических предметах и тем самым о математике вообще можно резюмировать следующим образом, цитируя самого Аристотеля: «Математика есть некоторая умозрительная наука и занимается предметами, хотя и неизменными, однако не существующими отдельно» (Метафизика XI, 7, 1064а 30–33). Дальнейшее прояснение онтологического статуса математических предметов Аристотель начинает с постановки вопроса: «Каким образом они (т. е. математические предметы. – В.В.) существуют» (Метафизика, XIII, 1, 1076а 37).
Проблема способа существования, характера бытия математических предметов задается Аристотелем во всей остроте апории: с одной стороны, как он подчеркивает, математические предметы не существуют в чувственно воспринимаемых телах, но, с другой стороны, они не могут существовать и отдельно от этих тел (там же, 1076b 12). Критику существования этих предметов в самих чувственно воспринимаемых вещах Аристотель дает во второй книге «Метафизики» (998а 6–19). Ведь в этом случае, рассуждает он, пришлось бы допустить, что два тела могут занимать одно и то же место и отказаться от неподвижности математических предметов, раз они находятся в движущихся чувственно воспринимаемых вещах. Эта точка зрения выражает, по Аристотелю, позицию пифагорейцев, которые считают, что числа не существуют отдельно, а существуют в самих вещах как то, из чего вещи состоят (Метафизика, 3, 1090а 20–24). Несколько иначе та же самая проблема задается Аристотелем и в XI книге «Метафизики»: «Какими же предметами должен заниматься математик?» – спрашивает он. «Ведь, конечно, не окружающими нас вещами, ибо ни одна такая вещь не сходна с тем, что исследуют математические науки», но и ни один из математических предметов «не существует отдельно» (1059b 10–14).
Решение этой проблемы Аристотель вырабатывает на конкретном примере отношения между субстанцией и акциденцией, между сущностью (самосущим бытием) и привходящим бытием (бытием по совпадению). Этот пример («бледный человек») анализируется Аристотелем в плане установления определенной онтологической и логической иерархии и их сопоставления. «Не все, – говорит он, – что первее по определению, первее по сущности» (Метафизика, XIII, 2, 1077b 1).
Некоторое определение первее другого по определению или через определение (κατὰ τòν λόγον), если оно более общее: «Для уразумения через определение первее общее, а для чувственного восприятия – единичное» (Метафизика, V, 11, 1018b 32–33). Кроме того, «для уразумения через определение привходящее первее целого, например: “образованное” первее “образованного человека”, ибо определение как целое невозможно без части, хотя “образованного” не может быть, если нет кого-то, кто был бы образован» (там же, 1018b 34–36). Аналогично разбирается пример и с «бледным человеком»: «Бледное» есть часть определения понятия «бледный человек», и поэтому оно первее его по определению, обладает логической первичностью (λογῳ πρότερον). Но «бледное первее бледного человека по определению, но не по сущности: ведь оно не может существовать отдельно, а всегда существует вместе с составным целым» (XIII, 2, 1077b 6–7). Бледность как привходящее свойство (συμβεβηκός) присоединяется к человеку как сущности (οὐσία). Разобрав этот пример, который служит ему моделью для решения поставленной проблемы о соотношении математических предметов с сущностью (бытием), Аристотель заключает, что математические предметы «первее чувственно воспринимаемых вещей не по бытию, а только по определению» (там же, 1077b 13). Математические предметы уподобляются при этом акцидентальному атрибуту, привходящему свойству («бледное»), а чувственно воспринимаемая вещь, природный индивид выступает как сущность, как бытие («человек» в данном примере). Первичность по бытию (οὐσία πρότερον) означает, что вещи могут существовать отдельно, самостоятельно, «опираясь» на самих себя.
Итак, существование математических предметов оказывается более первичным, чем существование физических предметов по определению, т. е. более первичным в логическом отношении. Однако в онтологическом отношении их существование явно вторичного плана по отношению к существованию физических тел.
Но что же такое предметы математики – точки, линии, плоскости и т. д. – по отношению к подлинным сущностям как физическим телам? Какого рода привходящие свойства этих тел они образуют? На этот вопрос у Аристотеля имеется вполне определенный ответ. Разбирая апории пифагорейского учения о началах, Аристотель излагает свою концепцию математических предметов: «Все они, – говорит он об этих предметах, – суть деления тела или в ширину, или в глубину, или в длину» (Метафизика, 5, 1002а 20). Они не содержатся в телах, подобно тому, как изображение Гермеса не содержится в качестве действительной вещи в камне. Точки, линии, плоскости, фигуры – «следы» деления тел. Эти «следы», или границы, – результаты мысленного деления реально существующих физических тел, они не части тел, из которых тела слагаются. Поэтому математический подход к физике, развитый Платоном в «Тимее», оказывается, согласно Аристотелю, в принципе неправомочным. Нельзя из абстракций составить конкретно сущее физическое тело, ибо из того, что не имеет самостоятельного существования, не могут возникнуть сущности, физические индивиды. «В самом деле, – рассуждает Аристотель, – края не сущности, а скорее пределы (так как для хождения и вообще для движения имеется какой-то предел, то получается, что и они должны быть определенным нечто и некоторой сущностью. Но это нелепо)» (Метафизика, XIV, 3, 1090b 9–12).
Математические объекты аналогичны времени, а именно его «сечению» в «теперь»: «теперь» всегда кажется иным, хотя не может возникать и уничтожаться, не являясь вещью. Эта аналогия правомерна, так как если «теперь» есть сечение времени, то линии и плоскости – сечения тел. «Все они одинаково или границы, или деления», – говорит об этих математических предметах Аристотель (там же, 1002b 10). Не будучи вещами, математические объекты не подлежат изменению и становлению и не могут поэтому его объяснить, т. е. объяснить физический мир, так как движение – его основная особенность. Такое же понимание математических предметов мы находим и в трактате «О возникновении и уничтожении». Линии и точки, – говорит Аристотель, – есть пределы материи, «которая никогда не существует независимо ни от качеств, ни от формы» (GC, I, 5, 320b 18).
Противоположность математических предметов физическим телам особенно четко выявляется Аристотелем на примере с курносым носом (σιμόν), который очень часто используется им для демонстрации принципиального различия физики и математики. «Курносое» есть образец целого класса определений, указывающих на то, определением чего они являются. «Невозможно, – говорит Аристотель, – обозначать курносое, не указывая того, свойством чего оно есть само по себе (ведь курносое – это вогнутость носа)» (Метафизика, VII, 5, 1030b 30–32). Но такое значение «курносого» приводит к его двойному использованию.
Во-первых, математические предметы, такие, как четное и нечетное и другие, так же как и «курносое», указывают на материальный субстрат, хотя в случае математических предметов это будет особого рода субстрат или материя. «В отвлеченных предметах, – говорит Аристотель, – прямое воспринимается так же, как курносое: ведь прямая линия связана с плотным» (О душе, III, 4, 429b 18). «Плотное» здесь есть особого рода «математическая» материя прямого.
Во-вторых, курносое используется Аристотелем для подчеркивания противоположности между физической формой и чисто абстрактной – математической – формой. Пожалуй, это второе значение примера с курносым носом более часто используется Аристотелем, и именно оно служит ему моделью для демонстрации существенного различия между физикой и математикой. «Курносое» выступает как модель телесной, природной, физической формы вообще. «Ведь плоть не существует без материи, – говорит Аристотель, – а как курносое она есть вот это вот в этом» (О душе, III, 4, 429b 13–14). «Курносое» – модель конкретности физического: «Так как природа двояка, – рассуждает Аристотель, – она есть форма и материя, – то вопрос следует рассматривать так же, как мы стали бы изучать курносость, что она такое» (Физика, II, 194а 12–13).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































