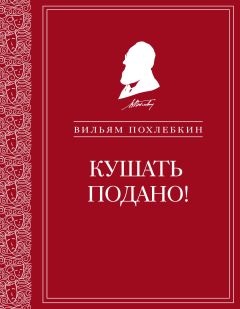
Автор книги: Вильям Похлёбкин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Если подходить чисто логически, то в «Пиковой даме» нет, собственно, даже места для эпизодического упоминания еды или питья. Зачем? К чему? Каким образом? Ведь речь идет о карточной страсти и игре, об одержимом выиграть большой куш Германне, о наивной Лизе, сидящей, по сути дела, взаперти у старухи-графини, о попытках Германна, дежурящего на улице, проникнуть в дом графини, – где уж тут может быть место для еды?
Но что делает Пушкин? Он четырежды внедряет в этот некулинарный сюжет кулинарный антураж! Как? А очень естественно. И весьма изобретательно.
Первый раз – еще до того, как, собственно, начинается фабула рассказа, когда еще неясно, в чем он будет состоять и, следовательно, когда можно в качестве зачина, в виде преамбулы, вставить любую, в том числе и не связанную с основным сюжетом, орнаментальную заставку. Вот почему Пушкин прямо начинает свой рассказ с… застолья.
Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился…
И эта заставка оказывается не просто поводом начать рассказ, чтобы познакомить с действующими лицами, а играет важную роль – проиллюстрировать душевное состояние счастливых и несчастливых игроков наиболее простым, ясным, понятным всем способом, без всяких длительных описаний.
Счастливые – ели, несчастные – нет, им было не до еды. Все ясно и… просто. Таким образом, Пушкин находит отличный прием, отличную «работу» для кулинарного антуража – быть индикатором душевного состояния.
С той же целью использует Пушкин кулинарный антураж и тогда, когда рисует Германна после похорон графини.
Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение.
Таким образом Пушкин как бы подчеркивает, что лучшего и наиболее естественного показателя, обнаруживающего истинное волнение, кроме как реакции человека на еду и питье, нельзя и придумать.
Во второй раз Пушкин использует кулинарный антураж как индикатор длительности, продолжительности… времени! И вновь оказывается, что психологически это наиболее точный индикатор!
…Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять – молодой офицер стоял на том же месте. <…>
…Она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала… и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было…
В третий раз Пушкин находит для кулинарного антуража новое, но более традиционное применение: он иллюстрирует с его помощью стесненное положение Лизы в доме графини в качестве приживалки.
Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара…
Наконец, в четвертый раз Пушкин указывает на еду, хороший стол как на составную, непременную часть нормальной, полноценной жизни счастливого человека. При этом в данном случае формулирует уже неоднократно получавшую у него выражение любимую мысль в более обобщенной и лапидарной прозаической форме: «…открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели (хозяину. – В. П.) уважение публики».
Интересно сравнить эту формулировку (повесть написана осенью 1833 г.) с более ранней, из IV главы «Евгения Онегина» (6 января 1826 г.) и из путешествия Онегина (18 сентября 1830 г.).
Как мы видели выше, Пушкин, объективно говоря, большую часть своего внимания уделяет русской кухне. На втором месте у него по числу упоминаний стоит, конечно, вино и водка, различные алкогольные напитки и уже на третьем месте французская кухня, подробнее всего представленная в «Евгении Онегине».
Точно так же в одном произведении, в «Путешествии в Арзрум», сосредоточены замечания Пушкина о «восточной кухне» – по сути дела, о разных национальных кухнях народов Юго-Востока империи: Прикаспия, Северного Кавказа и Закавказья.
Эти замечания свидетельствуют, что Пушкин был чрезвычайно высокого мнения о закавказской – грузинской и армянской – кухне, с которой он ознакомился по двум главным их мясным блюдам: грузинский шашлык и армянская баранина с луком (кчуч из баранины). В отношении шашлыка Пушкин не высказывает никаких особых эмоций: это блюдо было ему знакомо и прежде, он его неоднократно ел и в Кабарде, и в духанах Тифлиса, и в дороге, по пути в Турецкую Армению. Но кчуч произвел на него неизгладимое впечатление: «показался мне верхом поваренного искусства». Высокой оценки Пушкина удостоились и закавказские вина – кахетинские, кислые вина типа итальянского кьянти и карабахские – терпкие, насыщенные полусухие вина из местных сортов черного винограда. Эти вина «не терпят вывоза и скоро портятся, – замечает совершенно справедливо Пушкин, – но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских».
Таким образом, Пушкин еще раз подтвердил свой кулинарный космополитизм и способность к объективной оценке. Однако этот космополитизм имел все же свои границы. До тех пор пока любая национальная кухня напоминала своей вкусовой гаммой европейскую или русскую, Пушкин воспринимал ее без всяких предубеждений, но как только те или иные блюда выходили за рамки традиционного вкуса и казались либо слишком пресными, либо слишком необычными по составу компонентов, то тут поэт занимал такую же позицию неприятия или непонимания, как и всякий обычный русский человек.
Пушкин еще мог смириться с вяленой кониной, высококачественным сырокопченым изделием калмыков, казахов, киргизов и других степных народов, поскольку она представляла собой естественный, свежий, отличной сохранности продукт, но совершенно не мог вынести калмыцкого чая – кирпичного чая, сваренного в воде с молоком и со сливочным маслом, солью и перцем. Ему даже показалось, что этот чай был с… бараньим жиром, и он так ошибочно и записал в своих заметках. На самом деле это должно было быть, и несомненно было, сливочное масло из молока коров либо яков, но только никак не баранье сало, что просто технологически невозможно. Пушкину калмыцкий чай не понравился. «Не думаю, – пишет он, – чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже». И эта реакция отчасти понятна: вкус калмыцкого чая весьма своеобразен. Необходимо два-три раза кряду, ежедневно, попробовать его, чтобы раскусить, привыкнуть и пристраститься. У Пушкина же не хватило духу и на один раз: он просто проглотил со страха всю порцию, так и не распробовав вкуса, пораженный неприятно непривычным запахом этого чая. «Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа», – признавался впоследствии он.
Меньшее предубеждение проявил Пушкин в отношении пресного тындырного хлеба на Кавказе, который он называет «чурек» и который, по-видимому, представлял собой в Грузии тониспури, а в Армении – лаваш. Пленные турки никак не могли привыкнуть к черному русскому ржаному кислому хлебу, а сам Пушкин не мог выносить пресный лаваш. Но в этом случае то, что «не понял» его желудок, «поняла» голова: он осознал, что в отношении хлеба складываются стойкие национальные стереотипы восприятия, характерные для всей нации, веками употребляющей один определенный вид хлеба. И в этом отношении о вкусах действительно не спорят. «Это напоминало мне, – пишет Пушкин, – слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего, черного хлеба не допросишься!»
Подводя итог всему сказанному, приведем таблицу кушаний, блюд и напитков, упоминаемых Пушкиным в его прозаических произведениях, включая и те, которые мы специально не анализировали: «Историю села Горюхина», «Рославлев» и «Путешествие в Арзрум».
СПИСОК КУШАНИЙ И НАПИТКОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ПУШКИНСКОЙ ПРОЗЕ
КУШАНЬЯ
Продукты и блюда
• Сливки
• Тартинки
• Гусь с капустой
• Кулебяка
• Огуречный рассол с медом
• Щи
• Уха
• Уха стерляжья
• Осетрина
• Масло прованское
• Грибы, жаренные в сметане
• Грибы соленые
• Огурцы соленые
• Поросята жареные
• Черный хлеб
• Булки
• Пироги
• Караси
• Налимы
• Щуки
Сласти
• Орешки
• Пирожное бланманже
• Медовое варенье
• Клюква
• Брусника
• Черника
• Варенье
НАПИТКИ
Безалкогольные
• Чай
• Кофе
• Лимонад
• Квас
• Чай с ромом
• Кислые щи
Алкогольные
• Шампанское
• Водка
• Наливка (неподслащенная)
• Пиво
• Полушампанское
• Ром
• Пунш
• Вино
• Наливки (сладкие)
• Горское
• Цимлянское
• Вино французское
• Лафит
ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
Продукты и блюда
• Шашлык
• Баранина с луком по-армянски (кчуч)
• Чурек (лаваш, тониспури)
• Вяленая конина
Напитки
• Калмыцкий чай
• Кахетинское
• Карабахское
Другие сферы применения кулинарного антуража
В заключение необходимо сказать еще об одной роли кулинарного антуража, которую использует А. С. Пушкин и которая применяется, причем с успехом, только им одним в русской литературе.
Речь идет о философских и политических понятиях и взглядах, которые Пушкин для более резкого, более аттрактивного воздействия на читателя облекает в образную форму метафор, где мерой сравнительной значимости выступают… кулинарные понятия. Эффект достигается поразительный.
Во-первых, от неожиданности сопоставлений, взятых из двух противоположных и совершенно разновеликих и несовместимых сфер. Во-вторых, от чрезвычайной наглядности, понятности и вместе с тем глубины получаемых общественных, философских и политических сопоставлений. Открывается новый угол зрения. Пушкин как бы освещает уже давно знакомое явление более ярким лучом, отчего выступают такие контрастные грани этого явления, которые не могут быть добыты иным способом.
При этом Пушкин в каждом отдельном случае (в зависимости от ситуации), применяя разные виды кулинарных сравнений, находит самые разные краски в своей палитре политической критики – от пастели легкой иронии до плакатной туши резкого сатирического гротеска.
В таком порядке мы и постараемся выстроить примеры этого пушкинского использования кулинарного антуража.
Начнем с философских и «философических» обобщений, примененных в «Евгении Онегине». Здесь на первом плане сравнение жизни, жизненных коллизий с вином – чисто античная, а также галльская традиция: имеющая свой основой взгляд на вино как на своего рода полное «отражение биологической жизни человека»: от зарождения в виноградном соке винной микрофлоры до брожения юности и через мудрую зрелость к выдержанной и почтенной старости, стойкости. Пушкин мастерски продолжает эти древние классические традиции; кто не задумается над глубиной его обобщений, прочитав:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина…
Пользуется Пушкин подобными «античными» сравнениями и с целью легкой иронической критики в адрес собственного поэтического творчества:
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал…
Из той же близкой всем сферы алкогольных напитков Пушкин берет пример, чтобы доходчиво проиллюстрировать нелепость и глупость цензурных запретов своего времени.
«Ода «Похвала водке», – пишет он в одном из вариантов черновиков, – была запрещена, потому что пьянство запрещено божескими и человеческими законами. Спрашивается, каков был цензор и каково было – писателям!»
Если принять во внимание, что Пушкин имеет в виду стихи Василия Рубана, которые тот намеревался предпослать в виде предисловия к труду шведского ботаника Карла Линнея «Водка в руках философа, врача и простолюдина. Сочинение прелюбопытное и для всякого полезное» (Спб., 1790), и что это происходило в том же году, когда произошла расправа с Радищевым Екатерины II, давшей привилегию на производство водки только дворянскому сословию, то, конечно, станет понятным, почему именно этот пример Пушкин привел как высший показатель цензурного ханжества и лицемерия.
Другое историческое событие, происшедшее уже в иную эпоху, в период наполеоновских войн, также подало повод для «кулинарно-политического» сарказма Пушкина. Речь идет о приезде в Россию французской писательницы мадам де Сталь, в которой «русское общество», по выражению А. С. Пушкина, не видело ничего, кроме «пятидесятилетней толстой бабы, одетой не по летам». Но Пушкин весьма ценил ее как политическую деятельницу, писательницу и особу, проявлявшую личное мужество, в связи с чем он обрушивался на всех, кто позволял себе осмеивать, порицать или просто «шутить» по поводу мадам де Сталь, считая, что она, как «гостья России», как эмигрантка и политическая беженка, должна быть ограждена от всякой лицеприятной критики. Так, известна пушкинская отповедь А. Муханову, а также его саркастический отзыв в отношении московского дворянства в целом, когда оно принимало мадам де Сталь. И поскольку это касалось московских хлебосолов, то Пушкин не преминул использовать именно «кулинарно-политическую» терминологию и сравнения.
Когда мадам де Сталь только приехала в Москву, то, пишет в «Рославлеве» Пушкин:
…русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. <…> Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя NN, нежели беседой с madame de Stael.
Тем самым Пушкин подчеркнул низкий, приземленный уровень политического развития «фамусовской Москвы».
Вообще для саркастических, энергичных замечаний, брошенных в адрес великосветских кругов, которые поэт не терпел за их ехидство, злобу, коварство, прикрытые лишь показной учтивостью, Пушкин охотно употреблял кулинарную лексику:
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор…
Но не всегда Пушкин использовал сарказм и иронию. Порой он применял даже свого рода «кулинарно-политический» гротеск.
Так, в черновых набросках последней, ненаписанной главы «Евгения Онегина» поэт прибегает к весьма гротескному и резкому по своему политическому смыслу «кулинарному» сравнению. Оно относится к персоне Александра I и одновременно ко всей монархии, к России как государству:
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Это четверостишье можно понять и как намек на военное поражение России в коалиционных войнах 1805–1806 годов и еще более как намек на дипломатический и политический провал всей политики защиты феодальной Европы от наступления победоносной революционной Франции.
Во всяком случае, оно в чрезвычайно краткой, эффектной, образной форме удивительно емко обрисовывает всю историческую ситуацию первых лет после прихода к власти Александра I, участвовавшего в убийстве своего отца, Павла I, и потому именно занимавшего в это время не только весьма робкое внешнеполитическое, но и внутриполитически не менее «смирное» положение.
Как видим, «кулинарные» сравнения различной тональности помогали Пушкину передавать более образно, более рельефно и сильно те оттенки его политических оценок, которые просто не могли быть доведены до сознания читателей в обычной и, так сказать, «нормальной» форме, ибо это значительно ослабило бы их эмоционально-смысловой заряд.
Но Пушкин брал примеры из «практики застолья» не только тогда, когда стремился к наибольшей образности и доходчивости своих политических характеристик.
Иногда он просто на примере обычных бытовых ситуаций пытался зафиксировать свое личное отношение, а вернее, интуитивно возникающее у него чувство к тем или иным социальным тенденциям, которые проявлялись в обществе еще неясно, едва заметно, но тем не менее уже задевали, беспокоили и вызывали даже досаду или гнев поэта.
Так, в «Станционном смотрителе» он делает авторское отступление, где подчеркивает, что «долго… не мог привыкнуть к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде…».
Эту же мысль, но в более общей, отвлеченной и констатирующей форме Пушкин высказывал еще в «Евгении Онегине»[12]12
Глава 2-я окончена А.С. Пушкиным 8 декабря 1823 г., а «Станционный смотритель» написан 14 сентября 1830 г., то есть спустя 7 лет.
[Закрыть], где, повествуя о быте семьи Лариных, сообщал, что «за столом у них гостям носили блюда по чинам», а затем повторил ее в «Дубровском», где она характеризует деспотические порядки в доме Троекурова.
Но об отрицательной оценке этого явления Пушкиным в «Евгении Онегине» можно было судить лишь косвенным образом, учитывая, что это сообщение дается в контексте общего иронического отношения поэта к помещикам типа Лариных. В прозаическом же варианте Пушкин ясно говорит о своем личном отрицательном отношении к этому явлению русского барского хлебосольства и, кроме того, ясно объясняет, что же его в данном явлении возмущает. Дело, оказывается, не столько в самом порядке разноски блюд (по чинам), сколько в интерпретации этого установления, которую оно получает от холопов. «Разборчивый холоп», то есть мелкий исполнитель, раб, который тем не менее сам решает, кто, на его взгляд, на взгляд холуя, лакея, с его лакейских позиций, – важный или неважный, нужный или ненужный, полезный или бесполезный, значительный или незначительный в обществе и для общества человек. Вот что возмущает Пушкина!
Даже из контекста одной этой фразы такое понимание отношения Пушкина не вызывает сомнения. Так что «кулинарное» окружение проясняет позицию Пушкина. А это значит, что, только учитывая это «незначительное» высказывание, мы можем правильно, точно, с помощью самого Пушкина, исторически объективно разобраться в том крайне запутанном пушкинистами вопросе, каковы же были философские и общественно-политические взгляды Пушкина, или, если говорить более узко, более конкретно, как он относился к народу, массе и что понимал под «толпой» и «чернью» – «терминами», часто употребляемыми им в своих поэтических произведениях.
Дело в том, что в советском литературоведении существовали и поныне существуют две диаметрально противоположные точки зрения на политический облик Пушкина.
Первую можно было бы сформулировать словами известного шуточного (или полусерьезного?) стихотворения 30-х годов:
Пушкин, Лермонтов, Некрасов —
Трубадуры чуждых классов.
Эта точка зрения ведет свое начало от Писарева, «отрицавшего» начисто какую-либо «народность» и «революционность» Пушкина. И эта точка зрения нашла свое проявление в споре только что рождавшейся русской социал-демократии по поводу отношения ее членов и организаций к столетнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина в 1899 году. Так, в брошюре саратовской социал-демократической группы говорилось, что Пушкин «не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина». В то время как большинство друзей Пушкина пошло после декабрьского восстания 1825 года на виселицу, в ссылку, на сибирские каторжные рудники, в казематы Шлиссельбурга и Петропавловской крепости, сообщала далее эта брошюра, сам поэт «был награжден тридцатитысячной рентой и званием камер-юнкера». Вот почему авторы саратовского воззвания призывали рабочих «бойкотировать юбилей, устроенный буржуазией».
Вплоть до середины 30-х годов в советском литературоведении встречались те или иные стороны этой оценки А.С. Пушкина. Лишь с 1935 года, с момента учреждения Всесоюзной Пушкинской комиссии по проведению нового столетнего юбилея поэта, на сей раз со дня его смерти, отношение к Пушкину и его творчеству стало резко меняться: поэт был бесповоротно отнесен к числу революционеров, ярых противников царизма, наречен лучшим и вернейшим другом декабристов и т. д. и т. п.
Пушкинский юбилей 1937 года приобрел значение и характер всенародного национального праздника, в котором участвовала вся страна и который был осуществлен как правительственное торжественное мероприятие первого ранга. Впервые в Большом театре на торжественном заседании присутствовало в президиуме не только все Политбюро и члены ЦК, но и весь дипкорпус. Вступительную речь произнес нарком просвещения А.С. Бубнов. Он охарактеризовал Пушкина как гениального преобразователя русской литературы, русского художественного слова, великого гуманиста, затравленного николаевской Россией. «Пушкин наш!» – воскликнул Бубнов под громовые аплодисменты всего зала.
С этих пор, с февраля 1937 года, все факты из жизни Пушкина и все слова из его произведений интерпретировались только в духе вышеуказанных оценок. А поэт Безыменский представил Пушкина даже как «провозвестника сталинской эпохи», так «совместив» свое личное славословие с подлинными строками Пушкина:
Вполне понятно, что после этого все литературоведение, от школьного до академического, стало объяснять все пушкинские связи, слова и даже намеки и поэтические метафоры лишь в одном, «прогрессивном» направлении. Оказалось, что, ненавидя «толпу», чернь, «народ», он понимал под этими словами, оказывается, «аристократическую толпу», «аристократию» и даже «дворянство», «свиту царя». Такая трактовка противоречила прямому смыслу самых подлинных пушкинских строк, достаточно ярко выраженному в его известном стихотворении «Из Пиндемонти».
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот счастье! вот – права…
Здесь, собственно, изложена главная часть политического и идеологического кредо Пушкина: поэт ясно подчеркивает, что он не желает встать на ту или другую сторону, считая, что «обе хуже», что любая общественная система – и буржуазная, парламентарная республика и абсолютная или конституционная монархия – прикрывают свою истинную властную суть пустыми, оболванивающими массы словами. И если уж дело доходит до окончательного выбора из двух зол, то Пушкин всегда склоняется к тому, чтобы выбрать монархию. Именно эта позиция Пушкина, неоднократно зафиксированная в его произведениях, и создала ему в дореволюционные годы и в первые годы революции репутацию «друга царя и буржуазии».
Однако дело обстоит гораздо сложнее, ибо можно привести немало примеров из тех же произведений Пушкина, где он крайне едко, критически отзывается о конкретных персонах царей, и особенно об Александре I. Тут и «кочующий деспот», и «плешивый щеголь, враг труда», и призыв к «цареубийственному кинжалу», и многое другое, на что и опиралась группа сталинских (без кавычек!) пушкинистов, с цитатами в руках обосновывавших «народность», «революционность» Пушкина. Однако, как мы уже успели заметить из вышеприведенного материала, ни те, ни другие цитаты за и против царя, за и против народа, толпы или черни не способны сами по себе объяснить нам позицию и политическое кредо Пушкина в целом. Чтобы определить их, нам необходимо понять ход его мыслей, разобраться в них, а для этого прежде всего уяснить себе, что же конкретно не удовлетворяет Пушкина в монархии, а что – в буржуазном обществе.
В монархии (и это четко отражено!) Пушкина не удовлетворяла прежде всего персона монарха, вернее персона некомпетентного и неавторитетного монарха. Вот почему он положительно относится к Владимиру Красное Солнышко, к Ивану IV Грозному, к Петру I и с несколько меньшим пиететом к Екатерине II, но абсолютно лишен всякого почтения к своему современнику Александру I, этому «плешивому щеголю». Именно в сравнении с Александром I, к которому Пушкин критически непримирим, у него проскальзывают ноты симпатии к Николаю I. Почему? Да потому, что как царь Николай I, тоже современник и тоже близко знакомый Пушкину человек, просто-напросто более похож на царя: он строг, немногословен, сдержан, – иными словами, более соответствует своей должности, более компетентен в управлении государством, чем его предшественник.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ.
Не изменяй теченья дел
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Затягивай державные бразды…
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
Вот позитивный образ царя, вот те рекомендации его внешнего и политического поведения, которые дает Пушкин и которые он считает необходимым, непременным для монарха, желающего иметь почтение и уважение народа.
Этот образ, несомненно, ближе и к Николаю I, и даже к Сталину, чем к либеральствующему, кривляющемуся, рисующемуся и неуверенно управляющему государством Александру I, про которого Пушкин говорит, что тот потерял только время: впустую провел царствование. Более негативной оценки деятельности царя нельзя и придумать.
Для Пушкина как историка не встает вопроса о том, кто из двух самодержцев более приятен, более прогрессивен или более жесток. Такой эмоциональный, «дамский» взгляд на историю чужд Пушкину, который является историком в еще большей степени, чем Карамзин, то есть совершенно чужд «сантиментов».
Он рассматривает вопрос с точки зрения государственной целесообразности и соответствия царя своему месту и историческому предназначению. Поэтому в монархии он не одобряет то, что не соответствует этому строю, то, что его дискредитирует, а не монархию саму по себе как тип государственного устройства. Умный, зрелый, решительный, болеющий за отечество, страну, государство и его крепость монарх полностью находит его одобрение.
А теперь посмотрим, что же не устраивает Пушкина в буржуазной республике? Здесь ответ тоже ясен, даже еще яснее: болтовня парламентариев и демократия, та форма, та оболочка, под видом которой ведется вся государственная деятельность.
Так, с явным неодобрением Пушкин пишет, что
Осел демократическим копытом
Пинает геральдического льва.
Он вполне серьезно считает, что «не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны». Отношение к республиканизму, либерализму и демократии у Пушкина в принципе отрицательное, в то время как к монархии оно отрицательно только к ее слабостям, дефектам, к ее несовершенству как форме правления.
Однако все это вовсе не противоречит личному свободолюбию Пушкина. Дело в том, что его свободолюбие чисто дворянского свойства, и притом усиленное или помноженное на свободолюбие художника, творческой личности, писателя и поэта.
Вот почему исторически и психологически логично, объяснимо и понятно, когда Пушкин говорит: «Феодализма у нас не было, и тем хуже. <…> Феодализм мог бы, наконец, родиться как первый шаг учреждения независимости, но он не успел…»
Следовательно, свобода для Пушкина состоит в полной независимости и от монарха, и от народа, и от верхов, и от низов, каковыми бы они ни были – буржуазными, мещанскими или аристократическими. А его оценка монархии и самодержавия, их историческое и политическое неприятие заключается в том, что самодержавие в России, к сожалению, слишком бюрократическое, слишком тупое, слишком подвержено случайности появления во главе государства незначительного, слабого, некомпетентного человека: и в этом его главный дефект. Самодержавие не развило в господствующем классе дворянства вкуса к независимости, к свободе. Наоборот: боится его самостоятельности, держит его под надзором, как и не господствующие классы, – и это еще больший дефект русского самодержавия[14]14
Поразительно, что К. Маркс в своем конспекте книги Кошелева «Об общинном землевладении» обращает внимание на то же самое, замеченное только Пушкиным обстоятельство: «Разве все другие сословия не разделяют с крестьянами этого гнета?» – спрашивает Маркс.
[Закрыть].
Но Пушкин, как историк, понимает – от этого исторического факта уйти никуда нельзя. Надо решать все вопросы по улучшению России с учетом ее специфики. Брать же нечто противоположное самодержавию и монархии, то есть механически ориентироваться на ее конституционные противоположности – республику, демократию, либерализм – это совершенно неправильно, антиисторично и глупо. Ибо Пушкин-диалектик видит в этом величайшую искусственность, величайший формализм в подходе к решению вопроса о судьбах России. Именно здесь он расходится с декабристами-западниками.
«Поймите же и то, – восклицает он в споре с друзьями, – что Россия никогда не имела ничего общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизо из истории христианского Запада!»
Если мотивы, можно сказать, вынужденно-позитивного отношения Пушкина к монархии в России и все его оговорки на этот счет теперь нам понятны и в них мы не можем усмотреть «реакционности», а должны видеть лишь объективную логику мышления Пушкина, считающегося с конкретной историей и историческими условиями России, то с отрицательным отношением к демократии, либерализму и республиканизму нам ясно еще не все.
То, что Пушкин отвергает эту триаду как тесно связанную с западноевропейскими формами исторического развития, это понятно. Но одно западное происхождение еще не может объяснить то, что Пушкин считает эти формы политической деятельности совершенно неприемлемыми в России. Ведь и в истории России существовало вече и в России имела место община, то есть формы общественной организации власти, а не личной. Почему же Пушкин считает этот путь неприемлемым, в чем та причина, по которой он не допускает возможности такого развития, не верит в ее реальность? Причины эти опять-таки в специфике российских условий.
Одну из этих причин Пушкин объясняет так: в России нельзя вводить никаких демократических мер, ибо они все и всегда будут ошибочны. Например, указ об экзаменах для всех с целью улучшить образование – мера как будто бы, по видимости, хорошая, справедливая, а главное – демократическая, призванная поднять уровень всеобщего образования, и правительство Александра I ее ввело. Нет, говорит Пушкин, вот это-то и есть механически перенесенное западничество, голое заимствование западных образцов без учета русских условий.
Мера эта, пишет он, «слишком демократическая, а потому и ошибочная». И объясняет это парадоксальное, как будто бы, умозаключение следующим образом: «…Так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороной». Но это одна причина. Взяточничество и злоупотребления, которые, как подчеркивает Пушкин, в России всегда были и будут следствием расширения демократии, являющейся у нас синонимом бесконтрольности, не могут, конечно, быть причиной отказа от ликвидации монархии и введения республики. Есть и другая, более серьезная, по Пушкину, причина, понять которую мы можем только с помощью расшифровки той его «кулинарно-политической» сентенции, которой мы вынуждены были предпослать столь обширное введение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































