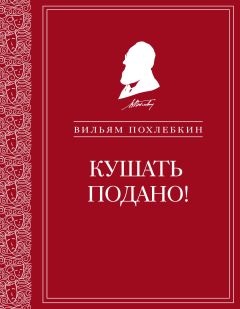
Автор книги: Вильям Похлёбкин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В окончательном тексте, как известно, названы лишь два конкретных продукта: форели и шампанское. О первых вспоминает Фамусов, о втором – Чацкий, Загорецкий, Репетилов. В черновиках же реплика Фамусова включает, кроме форелей (на них он был зван), также и отрицательную характеристику московской кухни – сетование на обильное использование ею мучных, грибных и кислых блюд, которые считались прежде источником несварения желудка. Фамусов перечисляет их: «грибки и кисельки, щи, кашки в ста горшках». Но позднее Грибоедов пришел к выводу, что в устах Фамусова должна остаться лишь самая положительная характеристика московской кухни, ибо его «объективный», или, как теперь бы сказали, «сбалансированный», отзыв о ней был не типичен и ослабил бы тот эффект, то значение, которое приобретал кулинарный антураж для характеристики Фамусова и всего московского дворянства. Что же касается неоднократных упоминаний в «Горе от ума» шампанского, то сопоставление этих реплик достаточно ясно показывает, что Грибоедов отразил в гротескном виде свое отрицательное отношение к этой стороне московской и петербургской светской дворянской жизни, характерной не только для гвардейской и писательской «богемной» среды, но и для солидных бар, злоупотреблявших этим заморским напитком.
Грибоедову, ставшему свидетелем того, как в шампанском «утонули» многие его коллеги-поэты, было странно наблюдать это явление из своей кабинетной тиши, и поэтому он решил воспользоваться своей пьесой, чтобы отразить это больное место русской жизни.
Чацкий клянет общество, где шампанским поят на убой, а представители этого общества, в свою очередь, обвиняют Чацкого, что он пьет шампанское стаканами, бутылками, бочками. И слух, что Чацкий сошел с ума, так как спился, кажется всем нормальным, естественным и понятным, несмотря на то что это меньше всего похоже именно на Чацкого. Но общество судит по себе, а для него «пить шампанское бутылками» в 20-е годы XIX века казалось уже естественным, обычным.
Так, Грибоедов и в этом эпизоде использует упоминание шампанского для почти общественных обобщений. То же самое относится и к использованию драматургом всего остального кулинарного антуража: он всегда выстроен в пьесе так, что бьет по важным целям. В этом отношении кулинарный антураж Грибоедова занимает совершенно особое место в русской драматургии.
Продукты и блюда
• Грибки
• Кисельки
• Кашки
• Щи
• Форели
• Фрукты
Напитки
• Чай
• Бургонское
• Шампанское
Конечно, по количеству «единиц» и по их конкретности кулинарный антураж в пьесах Грибоедова крайне скуден, беден. Но если отвлечься от чисто количественных показателей и посмотреть, что стоит за скупо упоминаемыми драматургом «пищевыми объектами», то станет видно, как в самое малое он сумел вместить многое в смысле того, что позволял читателю и зрителю додумывать самому.
Обращает на себя внимание то, что Грибоедов всю еду упоминает только во множественном числе. И это сохраняется как в черновиках-вариантах, так и в основном тексте пьесы. Именно это и дает возможность зрителю-читателю сразу мысленно представить все многообразие той или иной кулинарной группы, вызвать всех ее представителей в своей памяти.
Грибки – это значит все основные виды столовых грибов, использовавшихся в московской кухне: белые, рыжики, грузди, печерицы (шампиньоны) – в сушеном, жареном, соленом виде. Иными словами – дюжина вариантов, как минимум, не считая других, неблагородных грибов.
Кашки в ста горшках. Это не было преувеличением, как может показаться ныне. Каш в 20-х годах XIX века в московской кухне было много: черная (ржаная), зеленая (из недозрелой ржи), гречневая, полбяная, пшеничная, ячневая, перловая, овсяная, пшенная, сорочинская (рисовая), смоленская, гурьевскяя, манная, гороховая, чечевичная. Итак, свыше дюжины каш, если не считать еще технологические разновидности каждой из них – крутая, размазня, кашица.
Кисельки – имеются в виду, во-первых, русские мучные кисели: ржаной, овсяный, пшеничный, гороховый. Во-вторых, только после Отечественной войны 1812 года стали входить в моду в России у дворян западноевропейские ягодно-фруктовые кисели на крахмале (в то время только на мондамине, привозимом из Франции). В Москве стали делать кисели: клюквенный, брусничный, земляничный, клубничный, вишневый, малиновый, ревеневый, черничный и яблочный. Так что Грибоедов с полным правом упоминал о них только во множественном числе – ведь всего киселей было более дюжины!
Щи – в то время оставались единственным общенациональным блюдом как у богатых, так и у бедных. Разница была лишь в том, что у бедных были щи пустые, а у богатых, у дворян самые разнообразные: свежие, зеленые, репяные, рахманные, богатые, постные (с грибами), кислые суточные, щи с бараниной, щи с солониной, щи с говядиной, щи со свининой, щи сборные и, наконец, щи серые (из молодой капустной рассады). Таким образом, и здесь – свыше дюжины блюд.
Подведем итоги: 48 каш, 13 киселей, 14 щей, 12–20 разновидностей грибных блюд – всего 95, то есть фактически 100. «В ста горшках» – Грибоедов не ошибся! Но вычеркнул эту строчку из окончательного варианта. Почему? Возможно, он предполагал вначале (музейный автограф – второе действие, первая сцена) дать сжатую и притом насмешливо-пренебрежительную характеристику русской кухни, подчеркнув при этом ее главную отрицательную черту, как полагали в то время, – тяжесть и трудноперевариваемость ее мучных и кислых блюд.
Об этом все время говорили и даже писали французские повара, работавшие в России, которым были действительно в диковинку русские каши, поскольку французская кухня, как и все южно-европейские, их не знает вовсе. Однако в Англии и Ирландии овсяная каша – главное национальное блюдо; в Скандинавии каша – тоже овсяная или полбяная и ячменная – древнейшее ритуальное, священное блюдо. То же самое и у финнов, карел, где перловая каша – основное национальное блюдо. На севере Европы у всех народов потребление каш естественно и вызвано главным образом своеобразием климатических условий, в которых каши служат непременным оздоровляющим средством. Точно так же, как и щи в России.
Грибоедов, как типичный «западник», дипломат, имел, разумеется, предубеждение к «тяжелому» «деревенскому» русскому столу. Однако позднее, ознакомившись в Грузии с местной кухней, не чуждой каш как замены хлеба (гоми, кукурузная каша), а также, видимо, попробовав многие армянские каши в Персии и Армении (ариса, похиндз, зернушка), Грибоедов понял, что употребление каш – интернациональное явление и тесно связано с питанием людей в экстремальных климатических ситуациях и поясах: либо в сыром и холодном климате, либо в сухих субтропиках и при высокогорье. Здесь каши помогают жить, здесь без каш не обойтись. И это было первой причиной, почему Грибоедов снял критику «грубости» русской национальной кухни из уст Фамусова.
Вторая причина была не менее принципиальной. Поскольку «Горе от ума» было, в частности, направлено против подражательности иностранцам, то было бы непоследовательно и противоречиво осуждать русские национальные нравы, кухню в том же самом произведении, в котором с таким пафосом говорилось:
Ах! если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Вот почему Грибоедов в конце концов остановился на варианте, где Фамусов, с одной стороны, хвалил московское хлебосольство (не говоря о его составе, о кухне), а с другой, – конкретно упоминал лишь одно блюдо – форелей. Выбор этого блюда был сделан Грибоедовым неспроста. Во всяком случае, вовсе не потому, что это слово хорошо подходило по рифме. Рифму Грибоедов мог бы придумать любую.
Дело в том, что Грибоедов достигал упоминанием именно этого блюда сразу нескольких, и притом разнородных, целей, что было вообще характерно для всей его пьесы и что сразу же заметил Пушкин, которому эта многоплановость, эта многоцелевая установка комедии не понравилась. Он прямо сказал, что в «Горе от ума» «ни плана, ни мысли главной, ни истины» нет, но тут же оговорился, что там много ума и что единственное умное действующее лицо – сам Грибоедов. А потому «драматического писателя должно судить по законам им самим над собою признанным», и, следовательно, раз Грибоедов сам счел что-то необходимым, значит, с этим надо считаться, с этим следует мириться и не осуждать.
Мы же подчеркнем, что это надо еще понять и разъяснить. На конкретном упоминании форелей такую многоплановость Грибоедова показать легче всего.
Форели в 1821–1824 годах были модным блюдом среди русской аристократии. О них, кстати, позднее упоминает и А. С. Пушкин в «Евгении Онегине».
Когда Фамусов говорит, что
«К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели»,
то, следовательно, он должен пойти на званый обед, где главным блюдом будут форели.
Это вовсе не означает, что будут подаваться только форели. Там может подаваться несколько, даже десятки, блюд, начиная с закусок, супов, жаркого и кончая разнообразным десертом. Но главным, центральным блюдом, которому отводится роль демонстрировать щедрость хозяйки и достижения поварского искусства ее дворовых, будут форели, то есть нечто новое, то, что данная хозяйка – данный хлебосол – своим гостям еще не предлагала.
Обычай звать на какое-то центральное блюдо существовал в России с начала XVIII и сохранился до конца XIX века. Так, звали на осетра донского, на стерлядь сурскую, на икру уральскую, на семгу беломорскую, на рыжики каргопольские, на балык астраханский, на наважку мезенскую, на омулька байкальского, на шемаю азовскую, а также на гуся, индейку, поросенка с кашей, то есть либо на какое-нибудь торжественное блюдо, либо на такое региональное, производимое далеко, которое не всегда привозилось для продажи в Москву, а доставлялось откуда-нибудь с оказией, специально для данного хозяина.
Форель очень подходила для такого званого обеда. В Москве ее не было. В Петербург эту рыбу обычно привозили из Финляндии и Эстонии (с водопадов Кивач и Нарвы), но в Москву доставляли чаще всего из усадеб крупных вельмож, разводивших форель в своих поместьях, если те имели порожистые речки. Само приготовление форели не было свойственно русской кухне. Отваривали ее в виноградном сухом вине (бургонское, шабли) или, за неимением его, – в шампанском. А подобную роскошь мог себе позволить далеко не всякий дворянин. Вот почему форели считались изысканным блюдом французской кухни. Так что московский хлебосол Фамусов, идя «на форели», становился на платформу именно того смешения французского с нижегородским, против которого восставал в своей пьесе Грибоедов. Упоминая форелей, драматург тем самым подпускал тонкую шпильку под Фамусова, «разоблачал» его показной русский патриотизм.
Но одновременно, называя форелей, Грибоедов как бы вспоминал для себя самого то, что было ему близко. Ведь форелей он ел в тифлисских духанах, где их тоже, как и во Франции, варили в вине (кислом грузинском) и где они назывались по-другому – ишхан, но по вкусу были такими же. Это единственное конкретное блюдо во всей пьесе Грибоедова, и названо оно именно потому, что напоминало автору Кавказ.
Таким образом, даже простое упоминание форелей далеко не столь просто по своим задачам, как это может показаться первоначально. И это характерно для всей пьесы.
Если спросить теперь, можно ли представить себе на основе всех пьес драматурга «обед Грибоедова», то придется на это дать только отрицательный ответ. Такой обед нельзя составить. Форели с кашей или с щами несовместимы. Но в то же время щи с кашей и кисель он отрицал. Значит, остаются одни только форели с шампанским? Но это не обед. Это блюдо для гусарской пирушки. Значит, Грибоедов, найдя себя в кабинетной работе дипломата и писателя, получив мощный бытовой тыл в лице грузинской родни[10]10
Грибоедов, как известно, был женат на грузинской княжне Нине Чавчавадзе, родственной царской династии Багратидов.
[Закрыть], смог совершенно отгородиться от всяких бытовых, в том числе и обеденных, забот, поручив это дело целиком женской части своего дома, как это и принято на Востоке, чего не мог позволить себе московский, русский барин – будь то Фамусов или любой граф или князь, который должен был, по крайней мере, лично заказывать обед своему повару, беседовать, дискутировать с ним на кулинарные темы. А это предполагало большую кулинарную осведомленность. Грибоедов же был освобожден с 1817 года от подобных забот совершенно. Вот почему из всех кулинарных воспоминаний у Грибоедова остались в памяти лишь воспоминания гусарской юности. Отсюда и форели, и шампанское, как единственно конкретные кулинарные реалии в его знаменитой пьесе.
А. С. Пушкин
1799–1837
О творчестве А. С. Пушкина написано так много, что литературоведческая Пушкиниана практически необозрима, и в ней, как считается, уже не оставлено белых пятен. И все же пока не было попытки серьезно посмотреть на то, как Пушкин вводил в свою поэзию, прозу и драматургию кулинарный антураж, какое уделял ему внимание, какую отводил роль и, главное, с какими целями использовал.
Литературоведы, как правило, не будучи специалистами в области истории кухни и гастрономии, попросту не могли оценить Пушкина в этом отношении и даже, больше того, – не способны были понять, что и здесь, в этой, казалось бы, малости, гений остался гением.
Пушкин не только проявляет поразительную осведомленность в вопросах современной ему кухни, не только точен, безошибочен в деталях, но и живо интересуется этой тематикой, оттачивает свою кулинарную лексику (что особенно заметно при сравнивании черновиков с окончательными текстами) и обнаруживает подлинную глубину профессиональных суждений, а также использование кулинарного антуража во всех жанрах своего творчества.
Вот почему у Пушкина нельзя отделять кулинарный антураж в поэзии от прозы и драматургии: они нерасторжимы. Выделив один какой-либо жанр, мы совершенно не увидим целого, целостной картины.
Можно сказать, что А.С. Пушкин по многообразию форм использования кулинарного антуража и по количеству кулинарных лексем не только не уступает никому из русских классиков, включая Н.В. Гоголя и А.Н. Островского, но даже оставляет позади узкоспециализирующегося на кулинарной поэзии своего современника В.С. Филимонова, ибо те, превосходя, разумеется, Пушкина по частоте употребления кулинарного материала, совершенно не могут состязаться с ним в утонченности и разнообразии форм подачи, в легкости и органичности введения «кулинарных» инкрустаций в текст, в сюжет, в окраску психологической характеристики и тем более в… политическую полемику и политическую сатиру.
Мы остановимся в первую очередь, разумеется, на драматургии Пушкина, но не ограничимся ею, а привлечем также пушкинскую поэзию и прозу.
Из драматургии А.С. Пушкина, с точки зрения нашей тематики, интерес представляет лишь «Борис Годунов» как главное, основное произведение этого рода, полностью законченное, отработанное автором и притом посвященное русской жизни. Все остальное, а именно: «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость»), «Сцены из рыцарских времен», «Анджело» и, наконец, незавершенная «Русалка», во-первых, по своим сюжетам совершенно не относятся к русской тематике, а во-вторых, практически лишены кулинарного антуража и потому, естественно, должны быть исключены из нашего рассмотрения.
В скобках можно лишь заметить, что, по всей вероятности, и сам Пушкин старался в нерусских сюжетах как бы избегать тех деталей, о которых он не имел ясного представления и о коих не мог самостоятельно судить, а потому опасался сделать какую-либо недостойную своего пера ошибку. Это весьма примечательно для его взыскательности ко всему тому, что он писал. Лишь в исключительных случаях Пушкин доверял специалистам там, где ему необходимы были какие-то чисто этнографические штрихи из нерусской жизни. Так, работая над «Русланом и Людмилой», он искал через своих друзей, живших в Финляндии (Лидия Закревская, А. Муханов, Е.А. Баратынский), какое-либо финское имя для колдуньи – подруги Финна. Однако в то время в Финляндии были распространены лишь шведские личные имена, а простонародных финских имен «интеллигентные» друзья Пушкина и сами не знали, да и контактов с настоящими финнами у них не было. Отсюда произошло следующее недоразумение: через третьи-четвертые руки кто-то из круга Закревского узнал вместо женского финского имени финское название женщины – naine (найне). Пушкину его сообщили, разумеется, с неправильным произношением и неточным написанием. Так произошла пушкинская Наина – колдунья, имеющая какое-то восточно-фантастическое, а вовсе не финское имя.
Аналогично обстояло дело и с упоминанием в «Русалке» жареного петуха как «украинского блюда». Пушкин контаминировал слышанное или даже виденное им во время пребывания в «проклятом городе Кишиневе» молдавское ритуальное блюдо «рэсол» (заливной петух)… с украинской свадебной «курочкой» и пирогом-курником: получился «жареный петух», которым кормят молодых там, на «Украине», за которую тогда принимали и Новороссию, и Бессарабию, не делая разницы между украинцами и молдаванами.
Но таких ляпов, хотя и базирующихся на каких-то подлинных данных, у Пушкина очень мало, едва ли не два-три. Тем не менее он предпочитал вообще не зависеть от того, чтобы ему приходилось через кого-то узнавать о тех или иных этнографических деталях. Вот почему его «русские», то есть целиком основанные на русском материале произведения совершенно свободны от каких-либо неточностей, а «нерусские» он старался любыми деталями, любым национальным антуражем не переоснащать.
«Борис Годунов»
1825
«Борис Годунов» не обозначен автором как трагедия, но пьеса близка к этому жанру. Особенно в сценах, где действует сам Борис. Именно в этих сценах Пушкин подает кулинарный антураж в форме широкого обобщения, в почти абстрактно-высокой, торжественной форме, устраняя тем самым бытовизм – приземленность, которая связывается со всяким упоминанием еды или застолья. Практически этот оригинальный и совершенно не бросающийся в глаза, почти неприметный «легкий рисунок свинцовым карандашом», каким Пушкин набрасывает кулинарный антураж, проявляется следующим образом.
В картине «Кремлевские палаты» только что избранный на царство Борис дает распоряжение боярам:
…сзывать весь наш народ на пир,
Всех, от вельмож до нищего слепца;
Всем вольный вход, все гости дорогие.
По сути дела, здесь в широкой, эпической, обобщающей форме звучит то самое приглашение к столу, которое использовалось традиционно драматургами как прием завершающий, прерывающий театральный акт. Однако пушкинское приглашение к столу звучит из царских уст и обращено к боярам как приказание через них, опосредствованно, осуществить приглашение, а потому дается в инфинитивной форме, да еще в третьем лице; само же застолье именуется не конкретно «обедом» или «ужином», а пиром – особым торжественным видом застолья. Этим усложнением формы достигается отрыв от «земли», утонченность, абстракция конкретного в высокоторжественном. Такова грамматическая форма. Но ей под стать и сама лексика.
Пир – это весьма своеобразное застолье. С одной стороны, оно не имеет точно фиксированного времени в течение суток, как это имеют завтрак, обед и ужин, про которые можно всегда точно сказать, когда они происходят, и потому по ним определяется время и в жизни, и в пьесе. С другой стороны, само по себе время, отводимое на пир, чрезвычайно протяженно – ведь история знает не только пиры, происходившие несколько часов или даже суток, но и непрерывные многонедельные пиры. Таков, например, семинедельный пир, устроенный в 1429 году великим князем литовским Витовтом, пригласившим почти всех монархов Европы на торжество по поводу обещания папы римского присвоить ему королевский титул, а Литве статус королевства. И в то же время заведомая длительность пиров неопределенна. Никто не может сказать, сколько продлится тот или иной пир: ни его хозяин, ни гости, – ибо в ходе застолья всегда что-нибудь случается, что стихийно влияет на продолжительность пира.
Вот эти-то свойства пира: неопределенность, продолжительность, стихийность – все, что невозможно определить, предугадать и конкретизировать, и использует Пушкин, чтобы ввести оторванный от приземленности, бытовщины возвышенный кулинарный антураж даже в трагедию. Поэт дает его в сильно преобразованном, обобщенно-эпическом виде, используя торжественные грамматические и лексические формы, и этот прием делает такой кулинарный антураж вполне уместным даже в трагедийном жанре.
То, что это у Пушкина не случайность, а определенный прием, подтверждает и следующая картина, «Келья в Чудовом монастыре», где летописец Пимен, а также чернец Григорий, будущий Самозванец, также упоминают о пирах:
Пимен
Мой старый сон не тих и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан… <…>
Григорий
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Как видим, перекличка здесь явная: пиры, пировать повторяется как рефрен, причем в таком контексте, который настолько строго выдержан в высоком лексическом стиле – трапеза, бои, ратный стан, – что в нем пиры и пирование как бы «отрешаются» от всякого конкретного кулинарного смысла и превращаются в некий возвышенный образ недосягаемой или прошедшей мечты.
Другим примером эпического, обобщающего характера, какой у Пушкина принимает трагедийный кулинарный антураж, служат слова Бориса в его знаменитом монологе в картине «Царские палаты»:
…Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить… <…>
Я отворил им житницы…
Здесь вновь мы видим искусное сочетание обобщающего и расплывчато-абстрактного понятия довольствие с высокостильным конкретным житницы.
Интересно, что летописец под 1601 годом отмечает, что царь Борис отворил для народа бесплатно «царские амбары». Пушкин, стало быть, совершенно сознательно находит и применяет более высокостильное слово, чем в летописи, – житницы.
Пушкин употребляет в «Борисе Годунове» и другой прием: он рассеивает в репликах действующих лиц отдельные изолированные упоминания названий напитков. Он как бы сочетает (а может быть, и противополагает?) абстрактно-обобщенные упоминания застолья с конкретными упоминаниями кулинарных реальностей, которые образуют даже не кулинарный антураж, а лишь как бы его… пунктир.
И несмотря опять-таки на неприметность этого пунктира, он звучит контрастом к высокой царской лексике.
В сцене «Корчма на Литовской границе» Пушкин заставляет своих героев произносить такие соответствующие этому месту слова, как водка, вино, и вместо житницы – хлеб.
Это чувство стиля чрезвычайно характерно для Пушкина, который выдерживает его и далее: на ужине в доме Шуйского последний говорит о вине, а его гость, Афанасий Пушкин, упоминает еще пиво и мед.
Если попойка в корчме, устроенная беглыми монахами, указывает на их низкое, «подлое» происхождение, то застолье у Шуйского, где употребляют более утонченные и более дорогие алкогольные напитки, символизирует уже подлость этого царедворца, для которого вино, пиво, мед лишь «сладкие», «коварные» средства для развязывания языка своих гостей и для проникновения в их мысли.
Эту же символическую роль указания на коварство играет и упоминание токайского вина в сцене разговора Мнишека с Вишневецким в Самборе («венгерское, душистый ток, струя как жир густая»).
После этого эпизода, начиная со знаменитой сцены у фонтана и до конца пьесы, никаких, даже самых малейших, упоминаний кулинарного свойства ни в обобщающем, ни в конкретном виде уже нет. С этого момента ведь начинается борьба, и политическая и военная, то есть героика, патетика «Бориса Годунова» – и историческая, и художественная.
Таким образом, если в первой четверти пьесы Пушкин употребляет возвышенную, царскую терминологию, а во второй четверти по контрасту конкретную и по значению низкую, касающуюся только алкогольных напитков, то во всей второй половине пьесы нет абсолютно никаких кулинарных слов.
В целом же кулинарный антураж, примененный Пушкиным в «Борисе Годунове», носит чрезвычайно условный характер. Он сводится в конкретной своей части лишь к алкогольным, крепким напиткам. Во-первых, это объясняется историчностью пьесы и стремлением не только Пушкина, но и других драматургов в исторических пьесах упоминать лишь алкогольные напитки, как «вечные», «внеисторические», а не те или иные блюда, чтобы избежать всяческих ошибок. Во-вторых, в напитках Пушкин был, можно сказать, специалистом, и это он доказал, как мы увидим ниже, в «Евгении Онегине».
Наконец, в-третьих, алкогольные напитки это единственно удобный театральный, сценически оправданный способ имитировать питье и еду при помощи самой примитивной и всегда находящейся под рукой бутафории, и потому именно напитками любой драматург в первую очередь заполняет в своих пьесах те лакуны, которые отведены под кулинарный антураж.
Однако есть и четвертое, наиболее вероятное оправдание для применения только алкогольных напитков как единственно конкретных кулинарных образов в «Борисе Годунове». Пушкин ни на минуту не забывал, работая над своей пьесой, национального своеобразия России в ту эпоху, которую он изображал в «Борисе»: это была эпоха наибольшего расцвета пьянства, о чем мы имеем свидетельства таких очевидцев, как иностранные дипломаты и путешественники Герберштейн, Мейерберг и Олеарий, отмечавшие «циничность бесед за трапезой, пирами, даже в Кремле», и «ужасающее пьянство, как мужчин, так и женщин, а нередко и детей». «На пиру женщины, – писал Олеарий, – пришедшие даже с детьми, напиваются до потери сознания и в таком состоянии валятся спать прямо на пол вповалку с мужчинами. <…> Пьянство и разврат царят и среди паломников, ходящих на богомолье, являющееся зачастую лишь прикрытием для совершения противоестественных пороков». Герберштейн повествует о чудовищной русской ругани, которая «царит и среди бояр и среди народа. <…> Даже малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать, уже имеют на устах эти слова…» Однажды на глазах Олеария «из кабака вышел совершенно голый человек, пропивший свою одежду, сорвал, шатаясь, в придорожной канаве пучок собачьей ромашки и, закрыв им свою наготу, весело, с песнями отправился домой».
Пушкин, как официальный царский историограф, не мог не знать всех этих фактов той эпохи и, как великий художник, он, естественно, попытался отразить их в обобщенной, сдержанной форме.
Скупое упоминание Пушкиным разных алкогольных напитков тесно связано с конкретными действующими лицами, называющими эти напитки, и служит их социальной характеристикой, социальным знаком, символом.
Хозяйка корчмы – вино (хлебное вино, эвфемизм водки).
Варлаам (старый монах) – водка (народный жаргон).
Шуйский (боярин) – вино (заморское, виноградное).
Афанасий Пушкин (боярин, старинный вотчинник) – мед (питный мед), пиво (домашнее).
Мнишек (польский магнат) – венгерское (токайское).
Лаконичность, сдержанность в обозначении характера лиц через характер напитков – поистине глубочайшая и символическая, и эта лаконичность предстает уже как вполне продуманный литературно-драматургический прием.
Так что та односторонность, «бедность» или «примитивность» в наборе кулинарного антуража в «Борисе Годунове», которая бросается в глаза спервоначалу, при ближайшем, более пристальном рассмотрении вполне оправдана и более чем искупается оригинальностью применения и изяществом введения этого антуража в ткань пьесы, тесной внутренней психологической связью его с сюжетом, действующими лицами, с эпохой и с общим замыслом, идеей произведения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































