Текст книги "Mater Studiorum"
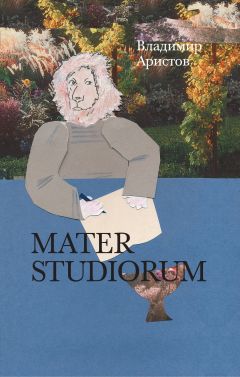
Автор книги: Владимир Аристов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
7
В следующей лекции хотел он продолжить свой запутанный рассказ о смыслах и связи математики, музыки и гармонии, но не знал, как подступиться и с чего начать. И решил начать с простейшего, но основного инструмента – пифагорова монохорда.
На ходу, идя на лекцию (хотя и студентом, в профессора он должен был превратиться позже, в университете) он пытался представить, как будет говорить, и даже представлял в лицах реакцию студенток на его слова. Он вспомнил, что в конце прошлой лекции, когда он уж собрался совсем убежать, одна из студенток, сидящая ближе всех к нему в аудитории, довольно громко произнесла:
– Вы похожи на одного актера… только не помню, как его зовут.
Он вздрогнул, – почудилось ему, что она хочет намекнуть на его не очень хорошие способности как актера, при перемене из образа студента в профессора. Но быстро собрал свои мысли и чувства и произнес примиряющее:
– Все люди чем-то похожи друг на друга… все люди – братья и сестры.
– Я не хотела бы быть вашей сестрой, – загадочно сказала студентка.
– Да, не нужно фамильярности… – пробормотал он тогда и почти выбежал из аудитории.
Сойдя сейчас по лестнице в подземный переход, где он обычно переходил улицу, услышал он привычный струнный звук. Пожилой музыкант, сидевший всегда близко к середине перехода, обычно играл на гитаре монотонно, хотя и виртуозно, «Прощание славянки». Но на этот раз было нечто другое. Он увидел издали, что какая-то женщина подошла к музыканту, и тот после ее слов стал исполнять что-то знакомое, но забытое. Да это же «Домино» – сообразил он через несколько шагов, романс или песня конца 50-х, звучавшая везде и всюду, из всех уст, и часто вечерами в ресторанах, что он помнил по каким-то кинофильмам. Он бросил свою лепту в кожаный подол и спросил:
– В какой тональности вы играете?
– В ми миноре.
– А можете сыграть «Домино» в до миноре?
Тот вначале не понял:
– Можно в любой тональности, – но потом улыбнулся и, подправив микроусилитель, начал играть, спросив на прощание:
– Вы музыкант?
Он не ответил и ушел вперед, сопровождаемый ностальгически-томной мелодией, и уже выходя по ступеням на свет, подумал, вспоминая слова из песни – это кажется, был перевод с французского – «Домино, Домино, а ведь ты же был Домиником…». Да, «Доминик», пробормотал он про себя, происходит от «Доминус дей» – «День Господень».
Ему показалось, что он знает теперь, как начать лекцию, но что будет потом, – о чем будет говорить дальше, все еще было в тумане. По пути он вспоминал ту последнюю фразу девушки о похожести его на актера. Можно было ее трактовать и так, что он только напоминает актера, но в своих устремлениях не достиг такого состояния. В чем был скрытый упрек. Актер по профессии играет разных людей, но выйдя из роли, переходит в иную роль – самого себя. Пусть он хранит в себе предыдущие роли, – а часто наверняка так, хотя некоторые из актеров с отвращением, наверное, свои прошлые превращения вспоминают, но они находятся в одном новом состоянии помимо того, что им надо иногда играть самих себя. В его случае все было серьезней. Он должен был играть, почти исполнять, три роли: ученика, учителя и себя самого. Думал он, что в своей непомерной жадности размноженности или умноженности жизней ему бы хотелось играть многих людей – если не всех, это отдавало бессмысленным утопизмом. Но как только речь – внутри него – заходила о конкретной возможности – он мысленно с ужасом отступался. Смог бы, например, он сыграть подземного музыканта? С кожаным фартуком для подаяния, которое лучше назвать вознаграждением? Нет, к этому он был не готов. Правда, считал, что если нужда заставит, то и на такое он решится, но ведь он спрашивал сам себя, смог ли бы он сыграть именно этого человека, как бы совпав с ним, не вытесняя его – и физически тоже – с его насиженного места в подземном переходе, – не вытесняя его из него самого, но присутствуя в нем. И отвечал сам себе, что нет, не может. Пока нет.
Он подошел к дверям университета, но войти ему мешали два студента, что-то громко обсуждавшие. Они словно бы не замечали его. Но он не стал их раздвигать руками, а остановился, ожидая. Он подумал тут же, что вот сейчас не смог бы совпасть ни с одним из них. Подошла студентка и стала рядом, спор стал смолкать, и один – одинокий студент, наконец, как-то горько усмехнулся и сделал шаг назад, словно бы только сейчас заметил его. Он сделал шаг вперед, и уже входя в двери, увидел, что отступивший студент поднял правую руку над своей макушкой и, сложив пальцы, сделал как бы перетирающее движение щепотью. Уже идя по коридору, он догадался о смысле жеста: тот показывал, что посыпает голову пеплом. И понял, что в таком движении он совпал на мгновение с отчаявшимся студентом.
Переодевшись, как подобает профессору, правда, парик как-то в этот раз сел на голову неровно, и, идя к белой аудитории, он подумал о различии слов «актер» и «артист». Синонимы они в узком смысле. Но если он пока актер никудышный, и все держится только на общественном договоре, все хотят видеть в нем того, и другого, и третьего, то артистизма ему уж точно не хватает. Он пока не профессор-артист.
Начал он лекцию словами будничными, но тем более, наверное, неожидаемыми:
– Давайте для начала – это займет семь секунд – пройдемся по основным нотам гаммы. Пожалуйста, произнесите вслух, но лучше та, у которой – музыкальный слух.
Ну, конечно же, вызвалась тут же Скукогорева и, сопровождаемая другими, более тихими голосами, произнесла, пропела ноты отчетливо и красиво. Ira молчала.
– Смысл этих слогов помните?
Так как никто не ответил, то он продолжил:
– «До» в поздней интерпретации, конечно, это начальный слог «Dominus» – «Господь», «ре» – «rerum» – материя, «ми» – «miraculum» – «чудо» и так далее. Все это хорошо известные факты, вы их знаете, быть может, лучше меня. Но важно их сопоставить со всей историей музыки, астрономии, философии. И тогда в реальности вы услышите, почувствуете, даже узрите внутренними глазами музыку сфер.
– And heaven with diamonds, – отозвался насмешливый, но несколько звенящий от волнения девичий голос.
– Ну, небо в алмазах все же для более поздних времен, а древние слышали и видели музыкальные хрустальные сферы. Понятно, что то не был нам известный хрусталь, который был раньше почти у всех, хрусталь, поддающийся огранке и, кстати, треугольные грани называются как раз алмазными. То был хрусталь-кристалл-лед, ибо по-древнегречески «кристаллос» – «лед». То был горный хрусталь нерушимо-холодный, линзами, изготовленными из него, можно было прижигать раны и возжигать олимпийский огонь. Греки полагали, что хрусталь – особый вид льда, который невозможно растопить солнцем. Поэтому сферы планет, поющие, звучащие сферы созданы из такого незыблемого льда. Сквозь прозрачные сферы ясна прозрачная музыка.
Тут он на экране показал слайд – никогда прежде он ничего не демонстрировал так отвлеченно – лишь иногда рисовал что-то на доске – схему пифагорова монохорда.
– Вы понимаете, что это более поздний рисунок, Пифагор не знал латыни и не пользовался ею. А здесь звуки, соответствующие сферам – на рисунке окружностям – своих планет обозначены, например, «Proportia tripla». Видите, мы опять подошли к пропорциям. Мы сказали, что одной из наших главных тем будет «Пропорция и сияние» – «Consonantia et claritas» – этот девиз незримо пронизывал все Средневековье. Это основа эстетики в этике Августина и Псевдо-Дионисия – союз между пифагоровским, да и платоновским понятием стройности мира, пропорции и неоплатоническим представлением о свете. Свете как основе красоты. Тут можно вспомнить слова Леонардо о том, что глаз обнимает красоту мира, он и начальник астрономии и космографии, он дает советы всем искусствам и направляет их. Зримое – но и музыкальное тоже – значит существующее.
Он сделал паузу, протянул руку в поисках невидимого стакана с водой, чтобы смочить горло, и, надеясь, что никто не обратил внимания на его странный жест, продолжал:
– Вы видите на этом позднем изображении – по сравнению, конечно, с пифагорейскими временами – доску об одной струне – это и есть монохорд, – божественная рука из облаков натягивает колок, на дощечку нанесены деления с современными названиями нот, рядом подобающая звуку планета и сфера со своим латинским названием. Для Пифагора, а затем и Платона музыка и число были едиными, и астрономия появилась в согласии, в гармонии с ними. Вы знаете, наверное, о системе Птоломея, или Птолемея. О его «Альмагесте» – сильно искаженном переводе нашем с арабского, – что значит «Великое построение». Но помимо «Альмагеста» с его геоцентрикой и хрустальными сферами, Птолемей создал трехтомный труд о гармонии. Замечу, что понадобилось много веков, чтобы уже в гелиоцентрической теории Кеплер написал свою «Harmonicum Mundi» («Гармонию мира»). Так же, как через не одну тысячу лет Декарт воссоединил – конечно, на новом уровне – уже не арифметику, но алгебру и геометрию. Для древних греков арифметика и геометрия были едины. Вы слышали, возможно, о треугольных и квадратных числах. То, что нельзя было пощупать руками или мысленным взором, то, что нельзя было измерить, не представлялось реальным. Поэтому и треугольник, составленный из кругов, был реален. И треугольные числа были последовательно 1, 3, 6, 10. Гармония монохорда для Пифагора была гармонией Вселенной. Возвращаясь к тому, с чего мы начали: следующая нота «фа» трактуется сейчас как «familias planetarium», что значит семейство планет, семь планет, то есть солнечная система. В кратких названиях нот – происхождение их, возможно, вам известное, – отпечатались отголоски представлений древних. Это начальные слоги гимна святому Иоанну от слов соответственно «Ut», «Resonare», «Mira», «Famuli», «Solve», «Labii», «Sancte». В дальнейшем «Ut» заменили на более благозвучное «Do», что, как я говорил уже, связывают с именем Господа.
Тут он приостановился и прикрыл даже на несколько секунд глаза. После столь обильного цитирования рука опять невольно хотела потянуться за стаканом воды, которого не было, так что он приостановил ее. Он успел подумать – и его настроение упало – подумать в несколько секунд тишины, что вот он выступает как чистый переписчик сейчас перед слушательницами, и они – правда, немногие из них – записывают то, что он говорит. Он сейчас – простой фонограф, который воспроизводит чужие слова, и их учит тому же, правда, иногда незримая игла соскакивает с дорожки и дает сбой. Или движется, себя повторяя, по тому же кругу. Словно подземный музыкант, с помощью которого кто-то исполняет одну и ту же мелодию, может быть, в до миноре. Но в сбое, в ошибке, в случайном искажении голоса может скрываться большая ценность. В нем можно разглядеть и вырастить новый, непредвиденный смысл. Все это он произнес про себя. Но вслух, конечно, им не сказал, словно предполагая, что по его едва уловимому движению век и ресниц они могут догадаться, что сам он называл себя рупором, громкоговорителем, который передает своим голосом чужие мысли, проточным перекрестком, по которому бежит полая вода, и заставляет верить на слово, что все происходило именно так, как написано в книгах, что не было всеобщего сговора полагать с какого-то времени, что все было именно так. Он понимал, что сейчас как никогда он невидим и неопознаваем, потому, что то, что он узнал буквально только вчера или даже сегодня утром, он тут же передает слушательницам, но где же он сам – он сам холоден, прозрачен и невидим, как линза горного хрусталя, правда, весьма сомнительной чистоты.
8
Во время занятий здание казалось бы совсем опустелым, если бы не голоса тех, кто непрерывно спешил по коридорам – тех, кто, так он назвал их про себя, создавал мгновенье и был виден в этот миг, – бухгалтеры, секретари, секретарши, вахтеры, в то время как студенты и преподаватели были неприметны в своих скрытых помещениях.
Стены здания ему казались многозначительными своими слоями отпечатавшихся на них взглядов, некоторые из стен хранили мемориальные доски, но все предназначалось для долгого времени, а кто же запечатлеет настоящий миг с его неуловимостью, с его безымянностью – он думал, что они, секретарши, и есть те, кто своим несомненным явлением в открытых кабинетах и коридорах сохраняют секреты.
Никто об этом не задумывается, все знают их по имени, редко по фамилии, – ведь фамилия – нечто родовое и долговременное, а имя их Нина или Мила – имя мгновенное, настолько же, насколько насущное и несомненное. Их позабудут, когда они переведутся, допустим, через год в другое место. Но это останется – мемориальное мгновение.
Он заходил иногда в канцелярию, когда требовалось подписать какую-нибудь бумагу или поставить фиолетовую печать, хотя он стремился сократить официальные общения, ведь все сделал за него тогда Осли – и аттестат его поместил туда, минуя некоторые формальности, и безоговорочно утвердил его в должности профессора. Но ему приходилось заходить иногда в некоторые кабинеты и иногда ожидать в приемных, и он видел новые временные панели на стенах, в комнатах, где проведен ремонт, на тех древних стенах, которые сохраняли в себе некоторые молчаливые геологические слои.
Сейчас, идя на лекцию, почему-то вспомнил он тех партийцев и представил себя на мгновение лектором с большим стажем, который сейчас в реальности где-то вспоминал эту аудиторию и с отвращением думал, наверно, что входит в белые овальные пространства некий самозванец без партийной принадлежности.
На этой лекции он забыл, о чем говорил на предыдущей, – ведь столько произошло на неделе, так много нового он узнал как студент, столько новых мыслей родилось и роилось старых, что чувствовал он себя перед дверьми аудитории профессором-новичком.
Он часто, хотя и кратко – времени у него почти не было – думал о той несомненной власти, которая дается кем-то учителю над учеником, о скрытой жажде власти тех, кто идет в учителя. Пытался он, как мог, заглушить в себе тягу повелевать, ведь отчасти он и подался в студенты, чтобы смягчить такое стремление, – много лет он сдерживался, но сейчас все-таки вырвался на простор, и, когда бывал лектором, мысленно превращаясь в себя-студента, с ужасом взирал на себя-профессора с горы аудитории.
«О чем мы говорили в прошлый раз, напомните, – обращался он к близсидящей студентке, – последнюю фразу хотя бы, так я пойму, присутствовали ли вы на той лекции».
«Так вы говорите – о Лейбнице, – благодарил он девушку-студентку за подсказку, – сразу видно, что вы были прошлый раз», – говорил он, чувствуя двусмысленность своего высказывания, потому что невольно все же ставил под сомнение свое присутствие на той памятной некоторым девическим умам лекции.
«Да», – он быстро и лихорадочно пробежал все, что было связано с лейбницианством, и вспомнил о триаде и тетраде, и о тривиуме и квадривиуме, он хотел даже предложить всем студенткам поделиться, разделиться на грамматиков, риторов, философов и богословов, но вышло бы, он понимал, в высшей степени неуместно, поэтому вдруг неожиданно для себя самого он сказал:
– Приведу вам одно древнекитайское высказывание. Один монах спросил Дуншаня: «Что такое Будда?» Дуншань ответил: «Три цзиня льна». Именно льном он в тот миг занимался. Так же и мы скажем о Лейбнице именно то, что мы думаем о нем и его мыслях именно в данный момент.
Но его высказывание, призванное затянуть время и вроде бы не говорить по существу, вернуло неожиданно его в какой-то из прежних каналов, и он вдруг стал говорить почти с того места, на котором закончил на прежней лекции, а на самом деле на лекции другой. При этом он вдруг обнаружил и отметил непроизвольно, что расположение студенток в аудитории странным образом поменялось. Он подумал, не начали ли они какую-то игру – нелепая, в общем-то, мысль, – пытаясь на что-то намекнуть своим расположением в белой аудитории.
«Итак, мы стали говорить о странном устремлении мысли, – и Лейбниц был один из важнейших адептов, а до него и Паскаль, что способствовали превращению числа в металл, в материю, уходу нуля вслед за единицей в машину. Ведь с тех пор началась гонка за быстродействием металлических, а потом электронных, но важно, что вполне материальных носителей абстрактных идей – самой абстрактной, казалось бы, – идеи числа. Многим идея понравилась, но большинство этого просто не заметили».
Вертоградский остановился, приостановил речь и взглянул в глаза аудитории. Немногие глядели на него ответно. Некоторые явственно пережидали время, – время лекции надо перетерпеть – читалось в их согбенных и склоненных фигурах. Но нельзя заинтересовать чужим, – думал он, – можно лишь своим, но незнакомым.
«Но я думаю, что мы должны учиться у машины, – вдруг неожиданно для себя продолжил он. – «Учись у дуба, у березы…» – вспоминая слова поэта – научиться можно у любого предмета, а здесь мы можем учиться у машины, как считать, мы можем поставить цель через нее вернуть новое идеальное – то будет новое лейбницианство».
Снова он посмотрел в белую аудиторию, и теперь, хотя и первый раз была смутная тревога, ему казалось, что чьи-то глаза пристально смотрят ему прямо в глаза. Но он не мог сосредоточить свой взор, он видел множество взоров, которые отчасти были скрыты, – по ним проходила мгновенная рябь улыбки, запечатленного удивления или скуки.
И сейчас он видел внимательный взгляд Iry – вчера, когда он скромно что-то писал на семинарских занятиях, впервые она все же удостоила его поворотом своей головы, но он изобразил смирение и не поднял глаз, хотя сквозь опущенные ресницы видел ее мгновенный и грозный взор. Вспомнил он опять, что в первый день, не зная ее настоящего имени и фамилии, пытался предугадать их: мгновенно высветилось у него то сочетание – Катя Горичева, и он еще раз понял, что так явилось разделенное слово «категория».
Он вспомнил и это, и вдруг сказал в пустую гулкость аудитории, кой-где смягченную девичьими платьями: «Попробуйте на время, хотя бы на мгновенье забыть свое имя. Достаньте зеркальце, – здесь он сделал паузу, словно бы ожидая, что все раскроют свои сумочки, но никто не шелохнулся, – загляните в его глубину». Тут он перевел дыхание, но продолжал: «Взгляните и не пугайтесь, – попробуйте увидеть себя новую, – нет, слова неточны, и не «в первый раз», как вам подскажет банальность – слово «первый», который вы затаите в себе – само слово будет вам мешать – потому что нет здесь никакого числа и исчисления, словом «новый» мы можем лишь на что-то намекнуть. Просто попытайтесь увидеть себя, – удержитесь на грани ощущения знакомого и незнакомого. Так же и на вещи взгляните вокруг. Тогда без излишнего – то есть имени – вы не будете делить внешнее на привычные части, – тогда вы действительно «внешнее», «окружающее» (кавычки неизбежны, но мало помогают) сможете познавать, деля все заново, но помня, неизбежно помня, как мир был уже поделен, не надо отрешаться от прежнего деления мира на предметы, – так мир будет возрастать в своих смыслах, с благодарностью помня о прежних именах.
Приближаясь к концу лекции, он вдруг вспомнил об одном иероглифе, о котором узнал на последнем уроке китайского, и не смог не начать говорить о нем: «Если над иероглифом «нюи» – то есть «женщина», – замечу, что «и» произносится в третьем тоне, что значит с понижением и затем с повышением, так вот, если к этому знаку сверху приписать иероглиф «э’р» – «нападать», то мы получим иероглиф «шуа», «а» опять же произносится в третьем тоне, – и такой иероглиф означает уже «повторять». Надевать парик или женское платье означает «повторять» – вы знаете, – хотя никто не высказал никакого признака знания, – что в древнем Китае женщины не могли появляться на сцене, поэтому мужчины играли и женщин, надевая женское платье, парик и маску».
Сказав это, он взглянул в аудиторию, – все слушательницы пробудились от сна и смотрели на него широко открытыми глазами неподвижно и молча.
– Тогда такая девушка могла бы сказать «Я давно уже не мальчик», – тихо, лениво, но отчетливо произнес чей-то девичий голос.
Он сбился и торопливо сказал: «Вы должны повторить иероглиф как часть мира, ибо мир себя постоянно воспроизводит, повторяйте его, то есть иероглиф, а значит и мир, постоянно, как молитву, чтобы он непрерывно звучал в вас и был зрим вами».
Лекция подошла к концу, и он понял, что почти ничего не успел сказать слушательницам. Ему показалось, что он сказал даже меньше, чем в прошлый раз. «Буду действовать методом исчерпывания, – сказал он сам себе, – буду уменьшать сказанное, пока не сведу на нет, это и будет, может, решением проблемы о недостижении нуля».
Все же оставалось несколько минут, и он, словно торопясь, но и стесняясь сказать самое важное, проговорил почти скороговоркой: «Лейбниц жил внутри предыдущего тысячелетия. Нынешнее едва началось – прошло совсем немного лет, но люди словно об этом забыли, – что понятно, они опасаются и не понимают подобных масштабов. Век сопоставимее с их представлением о размерах времени. Они словно не понимают, в чем может быть новая суть нового тысячелетия. Причем они постоянно говорят об особенности наступившего века. Но век для них – не синоним вечности – что за дикое слово? Стоит вам его произнести – от вас отшатнутся. Перефразируя прозаически слова поэта, сказавшего «Подымите мне веки-века», скажем, что познание… истинное начинается с масштаба тысячелетия. Помните, что вы находитесь не в стенах этого почетного здания, а в третьем тысячелетии, привыкайте там находиться и не бойтесь. Когда я ехал сегодня на лекцию на троллейбусе, то видел сандалию, застрявшую в железном водостоке, она, то есть сандалия, нелепо торчала, встав, можно сказать, поперек горла железной, чугунной, точнее, решетки в земле асфальта, – какой-то человек, возможно, студент, так спешил, что путь свой продолжал об одной сандалии. Видел ли я это? Да, я ясно это видел в сознании. Можно добавить, – и в своей памяти. Но не в твердой – то есть окаменевшей, памяти, но в живой, постоянно обновляемой, пополняемой, но и воспроизводящей прежнее, – тем самым возрождающей постоянно саму себя – и тем живой – нашей памяти». Вертоградский не стал уточнять, что тот, кого он назвал ехавшим на троллейбусе, был он-студент, спешащий в свой Гум.-университет, в частности и на свою лекцию, и, закрыв глаза, увидевший то, о чем он сейчас рассказывал студенткам. Хотел он еще что-то добавить, чтобы связать воедино все свои последние фразы, но подумал, что, может быть, со временем кто-нибудь из них, а, может быть, даже он сам догадается, зачем он все это говорил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































