Текст книги "Mater Studiorum"
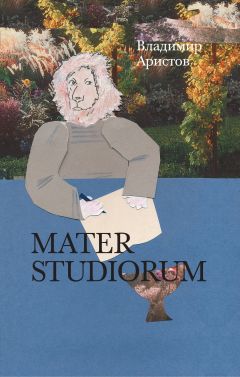
Автор книги: Владимир Аристов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
12
Неведомо откуда взявшаяся фраза кружилась у него в голове последнее время: «Полая вода, бесполая любовь», отгонял он ее, – совершенно нелепое сочетание, хотелось даже ему сказать «совершенное в своей нелепости», и удалось вроде бы, и все же где-то летало оно поблизости. Задумал он на следующей лекции заняться разбором платоновского «Пира», то есть знаменитого диалога под названием «Пир», но понял, что не готов, и не только в силу незнания. Но потому, что не хватит сил ему, чтобы погрузить всех слушательниц в платоновское солнце, и стоит ли даже пробовать, разве чтобы ощутить привкус исчезнувшего винограда, кислоту его и в чужом пиру похмелье. Подумал он даже, что можно было бы устроить нечто вроде театра на лекции – получасовое представление, то есть поручить студенткам и совсем редким студентам среди них разыграть диалог, но кого назначить Диотимой, он все равно не знал.
Грустил он оттого, что чувствовал, что курс его, найденный наконец и избранный, был наверное доктринальный, курс лекций получался слишком отвлеченным, и слушательницы не знали, наверное, буквально, что сказать. Возможно, поэтому в белой аудитории теперь царила тишина – такая, как он думал, царит лишь в больнице в тихий час. Почти никто не перебивал его, как раньше, не было слышно теперь тихого, но различимого птичьего гомона юных женских голосов. Готовясь к лекции, пытался он, по своему обыкновению, насытить свою слишком идеально выстраиваемую прямую линию чем-то из живой окружающей жизни – пытаясь обволакивать ее деталями, как электрический провод оболочкой. Понимая, что детали, которые он собирал вокруг – по способу «куда глаза глянут, куда рука потянется», – такие детали могут отвлечь его от генерального направления, но надеялся все же студенток развлечь и хоть на минуту отвлечь их от их завороженного состояния. Часто он и не знал, зачем прочитывает что-то, какие-то отрывки никак не укладывались в русло лекции, но все же он аккуратно иногда выписывал нечто из книг. И вот сейчас, понимая, что это его отвлекает, да и неизвестно, войдет ли даже каким-то упоминанием в будущем, он все же последовательно выписал строки из какого-то рассказа 20-х годов недавно исчезнувшего столетья. Речь там шла о молодой комсомолке, которой велели снять икону в ее избе, и когда на следующий день пришли проверить, то оказалось, что она выполнила требование, но вместо того, чтобы повесить на это место портрет вождя, – что подразумевалось, – она повесила зеркало. Это настолько поразило проверяющих, что один из них в изумлении и ярости назвал ее красной ведьмой. Рассказ, кажется, так и назывался, но установить было точно невозможно, он обнаружил лишь одну пожелтевшую страницу из того журнала. Он полагал, что блуждая в своих поисках, придаст больше жизни своим застывающим в неукоснительной непреклонности воспоминаниям, – воспоминаниям не столько о мыслях и чувствах, но словно бы о самой памяти, словно свою нерушимую память давнего времени он наконец приоткрыл, но застыл при виде ее в радостном и вдохновляющем недоумении.
На следующий день в первый миг он ее не узнал, Ira пришла на семинар в темных очках – наверное, ее ослепило яркое осеннее солнце, которое усилилось в своем блеске первым выпавшим снегом, но снег почти растаял, а боль в глазах все же – даже и у него – осталась, он сам во время занятий прикрывал ненадолго глаза. Но на его лекцию она пришла уже без очков, однако три другие студентки были – впервые – в темных очках, словно она, сняв свои, размножила их и раздала своим покорным послушницам, как он их назвал, правда, он не смог точно увидеть, все ли они из ее «уоконного кружка», – так он назвал тех девушек, которые собирались временами у окна и шли покорно за Iroi, впрочем, несомненно, красавица Скукогорева была одной из тех, кто скрылся за темными очками.
Может быть, он подумал, Ira специально раздала им словно бы темные повязки, чтобы не было видно их спящих глаз? Они в своей отрешенности вдруг вызвали у него образ некой троящейся Фемиды. Которая не видит. Но кто в непроницаемо-прекрасные глаза самой Фемиды смог взглянуть? Ее глаза скрыты в своем глубоком желании правды.
Идя на лекцию, он думал совсем о другом и почувствовал вдруг, что, возможно, идет на последнюю свою лекцию, – почему он так подумал и что это значило, он не знал. Был он весь сейчас в своей памяти и благодарил Мнемозину, но почему-то строками «лишь музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах».
Он подумал о том, что, наверное, именно этого он неясно желал – проникнуть и вернуться в то время, из которого он безвозвратно ушел, но сейчас вдруг то прежнее так пришло к нему, подступило и нахлынуло, что он просто не смог справиться с ним, – вторая волна его жизни словно превысила первую и влюбленность только подтверждала.
Теперь он мог бы соединиться, воссоединиться с тем прежним – ради этого он, наверное, не отдавая себе отчета, и пришел в здание университета, но как совершить в реальности такой шаг, он совершенно не представлял, да и страшился его. Он все более, как ему казалось, заходил в отвлеченности в своем курсе, но сопротивляться тоже не мог.
Терапией здорового послеобеденного сна – а его лекция происходила как раз после большой перемены, перерыва – вот чем ему представлялась теперь его миссия. Фарфоровый румянец на юных девичьих лицах после его лекции показывал, что они пробудились к новой жизни хорошо отдохнувшими и усвоившими все под гипнозом.
Сам он на своей лекции научился временно и прерывисто отсутствовать, и хотя произносил многочисленные слова, но пребывал в разных краях прежних своих времен и, видя прямо перед собой светило ее лица, мог внезапно переместиться на улицу в юную весеннюю ночь и почувствовать вкус газированной воды, выпитой из граненого стакана.
Все несколько последующих лекций он кружился вокруг своего тезиса «любимое нами – знакомое» и платоновского знания как узнавания и припоминания и его же эйдоса как единственно истинного эстетического объекта, но уж зима совсем приблизилась и глянула в глаза, а он был далек от раскрытия своей жизненной ситуации.
Помнил он непрерывно о той загадке, которую она ему задала, но не знал, как ее разрешить, надеясь все же на что-то чудесное, что поможет ему, потому что он хотел, чтобы только она поняла наконец все, но разрушать свои роли и образы он прямо не хотел, потому что считал, что создал их не случайно, а следуя своему пути.
13
Но медлить и продолжать по-прежнему было уже нельзя. Ira сказала ему, что деканат прямо ее спросил (так ли было это на самом деле, он не знал), почему только один студент, а именно он, не был ни на одной лекции профессора Вертоградского? Хотел он ей ответить, что он был единственный, кто действительно был на всех лекциях. Но не стал, не потому только, что знал, что и она точно была на всех. Но и потому, что сомневался, а пребывал ли он сам на своих лекциях, или все же в ее словах была некая горькая доля правды. И когда она передала ему вопрос декана (был ли такой вопрос, или она усилила только намек) «Хотелось бы знать, где он в это время находился?», то он чуть было не ответил ей: «Мне тоже бы хотелось знать».
Приближалась его тринадцатая по счету лекция, и все шло к тому, что будет проверка, и тогда ситуация может разрешиться совсем не так, как ему хотелось бы. Действительно ли деканат был так уж заинтересован в неукоснительном его посещении лекций или она сгустила краски, было непонятно.
Но понял, что надо что-то предпринимать. Само число «тринадцать» вначале его тоже смутило, но он даже перекрестился, чтобы отбросить свои суеверные страхи. За окном был уже снег, и все равно время его подводило к решению. Тема предстоящей лекции ему была неясна, но что, как он полагал, было и к лучшему.
Не зная, что делать, надеялся он опрометчиво на вдохновение. Все казалось ему, что во время лекции придет к нему прозрение, и сможет он познать то, что не приходило к нему-студенту. Но готовился к этой лекции своей по-особенному. Чувствовал волнение невероятное и прикрывал глаза, мысленно репетируя, но что, он не знал.
Никогда так влажно не жег его позор накладной профессорской бороды, и трогал он в то же мгновенье, – почти в то же, – юный, оголенный, как галька, подбородок. Когда он вошел в аудиторию, то увидел их всех, неподвижно и даже покорно и послушно смотревших на него и следящих глазами за каждым малым его движением. Он начал привычную слегка монотонную речь и все открыли тетради, но записывали, словно бы в одном движении, не отрывая глаз от него самого. Себя-студента он не увидел в аудитории, но вдруг мысленно перенес себя на переднюю скамью. Студент исчез, но он знал, что он сможет появиться сейчас опять и все его увидят, как видят сейчас его-профессора. Он сделал едва уловимое движение глазами в сторону белой двери, и он видел, что все тоже завороженно повернули туда лица. И вот он-студент вбежал запыхавшись в аудиторию и бросился на переднюю скамью недалеко от Iry. И все увидели его-студента, он-профессор сам увидел его своим внутренним взором, и он устремился к нему, и вдруг почувствовал, что видит его и в реальности. И он-студент вдруг увидел его-профессора. Он продолжал говорить и при этом чувствовал, что и записывает слова лекции за собой. Он понял, что так быстро – разве только мысленно – так быстро перелетает из одного образа своего в другой, что оба они здесь и для всех.
Это настолько его поразило в какой-то момент – это происходило словно бы помимо или даже поверх его воли, что он ощутил не только восторг, но даже и гнев – хотя непонятно на кого. Сдержал свой гнев сквозь очки и, шатаясь, едва уловимо в мысленном своем мареве перелета от одного себя к другому, понял, что только твердостью духа может смирить и соединить распад, он должен был в своей лекции перейти к ключевому «Consonantia et claritas» – «Пропорция и сияние», но неожиданно его стала смущать просека, разделявшая уходящий вверх амфитеатр белой, белевшей аудитории. Он пытался взглядом преодолеть ее. Он даже смещал свое лицо, чтобы раздел, разрыв, словно бы двух страниц, не проходил сквозь его лицо. Лицо не менялось, но лишь слегка колебалось, как пламя, когда он совершал мгновенные, невидимые другим перелеты и был студентом в светлой рубашке и одновременно профессором и писал то, что говорил, нет, ему казалось, что записывал даже раньше то, что произносил с заснеженной – так ему чудилось – белевшей кафедры в замкнутой огромной и несколько темноватой аудитории. Он оглянулся на вход или на выход – и ему показалось в этот миг, что прямоугольник светового контура двери исчез в тот же миг. «Гармонии эти, световые гармонии мира, подобные волнам», – произнес он обычную свою, несколько нелепую фразу, которую он иногда вставлял в ясную речь, чтобы взбодрить замирающую аудиторию, и тут его словно грубо подхватили под мышки, под эти горячие влажные, тлеющие пятна под пиджаком и галстуком, и грубо бросили на студенческую скамью, где он был повернут лицом к самому себе и увидел стекла своих очков, за которыми глядели в него и справа от него огромные, неподобающе восторженные почти знакомые глаза, и ощутил тот же восторг, словно бы укол пера самой бумаги, и мысль его излилась на бумагу, которая на мгновение стала прозрачной и небесно-синей, след его ручки был ясен и белый, как и след невидимого самолета, и то, что он хотел высказать словами, стало невыразимо предметно и ясно, словно втянулось сквозь острие авторучки обратно в руку, которая наполнилась беглою жизнью мысли. И он увидел свои говорящие губы, которые почти неслышимо, потому что другие, по-видимому, слышали, только для него тихо, как колыбельную, шептали мирные эти слова. И он увидел боковым, – словно сквозь поперечный слой очков, – зрением далекое – светлое кружево, на рукаве, – той самой, той самой ли студентки, студенточки, и он знал, что это кружево, словно облако, видит сейчас его. Он обычно учил их раскованности речи самим строем своей речи. Но сейчас он был словно мотылек в коридоре перелетов. И скованностью своей он не мог ничего им иного, кроме внешнего не им придуманного строя и кроя речи, ничего передать. И он чувствовал вместе со всеми, вдвоем здесь он был неразделен, но всеми пятнами людей, брошенных по ступеням аудитории, что он в ботах и чоботах, дробно – со всеми – то была не работа мысли, но работа ног, шатунов и ударов, дробно спускается вниз по железному трапу, поправляя полы бушлата, отделяя черный бушлат от поручней, которые загородили по бокам выход, только вниз, где невидимо было, но пахло какое-то море, и при том он говорил так же разделенно правильные слова и знал, что это был сон вовне, сон, который явился перед всеми, а не только ему одному. Все видели и смотрели этот дробный сон. Все слышали, как работает и отдается в стенах этот ритм, хотя вроде бы все было об одном и том же, и неоткуда было взяться волнам. Лишь один – он сам – старательно записывал за собой свои же произнесенные слова, подчищая свои же следы ошибок. «Итак, ясность, – он говорил, – но не изначальная пустая ясность, которая означает отдельность и, следовательно, отделенность от всех мысли, которая пугается своего одиночества и тут же репрессирует других, пытаясь своей властью мнимо осветить свое одиночество, но ясность созданного, согласованного всех вспышек других мыслей, всех вершин деревьев, занявшихся, горящих уже в предрассветной тьме». Ему казалось, что его вынесло вовне, и он был вне себя. «Consonantia et claritas», заклинательно повторяя, запуганно взглядывая из-за очков в высоту амфитеатра аудитории. Он искал Iru и не находил. Не успевал он и студентом оглянуться вокруг, он в раскрытой рубашке – успел лишь развернуть он ворот рукой, только взглядывал он на лектора, на себя самого, не слыша себя, потому что голос также, казалось, пламенно трепетал, как и облик, одно лишь – он успевал быстро записывать слова на бумагу, но не конспект слышимого, но словно конспект для говорящего, так, что с трудом разбирал он свои записи сквозь очки. Перед ним разворачивалась гора, ему казалось, что студенческий пейзаж был сегодня несколько иной, чем обычно (и даже тогда, когда, давно уж, сколько недель прошло, с этой горы амфитеатра резко и яростно прозвучали слова Iry, и он тогда потерялся, и не мог ничего сказать, и хотелось тогда ему бежать, сорвав ненавистную бороду), его товарищи и подруги сидели как-то отдельно, они образовывали группы, но это были какие-то молчаливые пятна, они вслушивались в его несвязную вскрикивающую речь напряженно, словно присутствуя на идущей внизу на сцене древнего театра драме, и не столько ждали финала, сколько не могли прервать напряжение такого времени, текущего в этой аудитории, даже сестры – одна из них была, как и всегда, в небрежно наброшенной словно бы тельняшке, и их приятели обычно шумные, – ничего не произносили. Тишина в аудитории стояла полная и гулкая, и ни звука, кроме своего голоса, он не слышал. «Пропорция и сияние», – в который уж раз он произнес, но странно, никто не смеялся, как обычно, когда он путался и сбивался на повторы. Все были в гипнотическом сиянии, и уже не смеялись, как раньше, но улыбались какой-то общей единой улыбкой. Необходимость быть, необходимость быть в двух местах сразу не мешала ему, как ни странно, оставаться и третьим – неужели самим собой? – как тогда, когда он встретил Iru в сумерках в университете, выходя из своей грим-уборной, – рядом с лестницей, которая никуда не ведет. Время, казалось, убывало с каждым его словом, и при том ему надо было успеть сказать в измеренное его же словами время, чтобы успеть. Что успеть? И это слышали слушавшие, и тоже старались быстро и полно записать, будто от того, как они сумеют все запечатлеть, зависит их жизнь. Ему словно бы некуда будет деться после окончания лекции, кроме как в себя самого, но здесь виделась отнюдь не та свобода, которую он обычно предвкушал перед окончанием лекции, – так, вероятно, актер, как бы он ни был занят игрой, чувствует, что после окончания он сможет выйти на асфальт вечерней улицы под звездным небом, пусть даже звезды и не видны в сиреневом московском небе – ему будет куда податься, но сейчас он чувствовал, что спектакль нескончаем, но сам он закончится в замкнутом двухголовом теле своем. Он помещен был в него, оно уже не вдохновляло, он словно попробовал войти в домовину, во гроб и теперь хотел только одно – вырваться, вырваться, чего бы это ни стоило. Но он не знал как. Ему казалось, что это зависит от того порядка и тех слов, которые он сумеет произнести. Повторяясь и отклоняясь произвольно, он вспоминал, что термин этот «claritas», есть, кажется, у ареопагитиков, но больше не помнил ничего.
Вдруг что-то пролетело в воздухе мимо глаз, и он понял, – скосив глаза, что то был знакомый уже бумажный голубь, запущенный откуда-то с самой верхотуры, темневшей в высоте аудитории. Он мог бы по обычаю возмутиться, – такие голуби обычно означали недовольство и скуку аудитории. Но здесь в абсолютной тишине аудитории, он не обманулся, это был чей-то доброжелательный знак, который был послан, может быть, даже Iroi, хотя ведь Ira всегда сидела впереди. Голубь лег на край кафедры, и он заметил, что сделан он из газеты с английскими буквами. Одно слово, одна фамилия прочитанная краем глаза, вызвали в нем какие-то новые ассоциации. И он почувствовал, что вышел из прежней зацикленности, хотя и вошел в новые, но иные дебри. «Льюис Мамфорд» и «Макс Пикард» замелькали в сознание какие-то случайные казалось бы имена, но с обильными цитатами из них – или то был в гипнотическом сне написанный им самим или кем-то ясно написанный новый текст. «Откуда нахватался-то», – думал он-студент, быстро конспектируя за профессором, который в этот миг, как ему показалось, как-то по-особенному сверкнул в его сторону очками. «Или знал?» – думал он. С ужасом он заметил, что пишет левой рукой, причем писал он этой рукой не менее бегло, чем всегда, как будто то была его обычная правая, так же, с такой же скоростью, как окружавшие его студенты и студентки-левши. «Мы же не зеркальны, – с некоторой быстрой тоской подумал он, – почему же тот на кафедре у доски рассуждает и машет правой, а я левой?» «Где зеркало, где граница, ее же нет», – успевал он проговорить про себя, перелетая в каком-то кинематографическом трепете словно бы незримых крыльев, который был явствен для его ушей, а для других не слышен. «Раздробленность, тождественность одинаковых атомарных частей, – вот что пришло на сцену, на смену прежней, пронизывающей все цельности, – так говорил или приблизительно так писал Макс Пикард» – мнимый, да был ли такой и кто это, он не знал, – едва успевал произносить профессор, едва улавливая быстро бегущие строки конспекта, которые приносил ему он-студент, «почему это написано с другим наклоном, – кажется, – да, левой рукой», он взглянул в свою сторону, – «и кто такой Макс Пикард, и кто такой Льюис Мамфорд?». Он не успевал подумать, но надо было уже произносить имена и цитаты, и впитывать, и воспроизводить, и говорить в уши студенток, закрытые локонами, не снижая для себя самого непонятного драматизма. «Книгопечатание, правдоподобная, – именно, именно, только подобная правде, – живопись, фотография, ксерокс, искусство копии – так или приблизительно так писал Льюис Мамфорд – все это лишь способствовало атомарному дроблению в человеческом обществе. Все это точный частичный слепок частичного дробления и функциональности стандартизации в труде, во всей промышленности нового времени с ее нивелирующим порядком».
Вдруг он увидел себя, пишущего на доске, словно бы со стороны, и увидел свою руку, которая одновременно писала что-то в студенческой тетради, и вот тут же, почти тут же, потому что он не уловил перехода, он увидел себя-студента, склонившегося над тетрадью, – впервые увидел себя, сидящего на студенческой скамье в белой аудитории, пока правая рука видящего все же чертила мелом на доске какие-то знаки, и вот он уже видел себя оттуда и опять из глубины женской студенческой стройной толпы, он видел себя и глазами лектора Вертоградского и одновременно студента, он понял, что так быстро перелетал из одной сущности в другую, что никто этого не замечал, он сам не замечал этого перелета – или он был в коллективном сне, который сам всем внушил – но он видел себя и тем, и другим, и внушая что-то себе-студенту, в то же время – почти в то же время – видел поправки, которые невольно делал в тетради, и он-профессор поправлял вслед за собой на доске. Никто ничего не замечал, но и обычный гул в аудитории тоже прекратился, все усердно, в неком монотонном усердии следили за профессорскими руками и внимали ему как никогда – то был его час, – сон в безвременном времени, и он, перелетая из образа в образ, – или сам он только себе внушил это, чувствовал необыкновенную легкость, хотя ему казалось, что некое едва уловимое дрожание заметно в фигуре профессора, словно бы не совсем четкий контур был, и он-студент успевал понимать, что это было несомненно связано с некоторой неточностью попадания в контур своего образа его-профессора, когда он возвращался из студента. Никто не отрывал глаз от своих тетрадей, все писали, словно бы видели все происходящее внутренними очами, и только один раз, повернувшись в сторону, он-студент вдруг увидел, что лишь одна студентка ничего не пишет и смотрит напряженно и неподвижно на профессора. Он понял, что лишь она одна бодрствует и что-то различает. Легкость его движений и речи хотя и была несомненной, все же стала понемногу не совсем такой и прежней, он чувствовал, что напряжение, которого раньше не было, появилось, и словно бы какая-то тяжесть даже зародилась в той окрыленности, которую он даже не ощущал – просто она была. Он впервые посмотрел на часы на руке – что далось ему нелегко – слова еще лились, но с какими-то перебоями и сбоями, он увидел, что время лекции, к счастью, подходит к концу, и не понимая, как закончит и разрешит ситуацию, он, не договорив несколько минут до конца, в последний раз рухнул на студенческую скамью, понимая, что больше уже к доске не вернется, увидев все же, как профессор, не закончив фразы на доске, кивнул как-то нелепо и словно бы выбежал или исчез из аудитории, в дверях растворившись в светлом контуре. Он-студент не мог уже ничего делать, рука его не шевелилась, он чувствовал невероятную усталость. Все встали как-то разом и почти бесшумно вышли из аудитории, и лишь он, опустив голову на лежащие перед собой руки, не мог пошевелиться и не мог прийти в себя, хотя стал сейчас опять одним.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































