Текст книги "В садах Эдема"
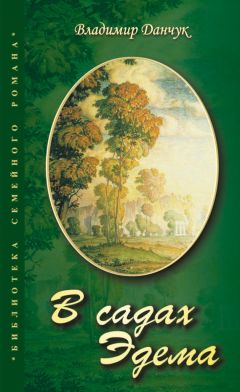
Автор книги: Владимир Данчук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Вера в Бога есть предание, переходящее от отца к сыну, полученное непосредственно первым сыном от первого Отца, т. е. первозданным человеком от самого Создателя. Грехопадение окружило это предание своим мраком, из очевидности оно перешло в область откровения, от ума к вере…
Иначе нельзя поверить, как произвольно, т. е. не по убеждению, а по добровольному принятию. Но не всякий верит, кто желает верить. Вера, высочайший акт человеческой свободы, есть в то же время и высший дар Божией благодати… Если я потому только поверю откровению (или, точнее сказать, приму откровение), что буду убеждён в его истине, то буду иметь не веру, а только убеждение. Что очевидно, то не требует веры. Очевидность есть, так сказать, непосредственное знание…
Счастлив тот, кого жизнь заранее приучила к покорности, кто в младенчестве получил привычку принимать с благоговением волю родителей и ей предаваться безусловно, кто мало по малу мог понять всё благо спасительной строгости, кто из детских лет перенёс в юношеские лета эту привычку признавать неотрицаемость верховной власти, которая из образовательной, приготовительной родительской обращается в спасительную, искупительную Божию – в то время, когда он вступит на дорогу самостоятельной, деятельной жизни, для страшных встреч и тяжёлых борений…
Будет ли младенец судить и осуждать своего отца, который подвергает его трудному лишению и строго наказывает? Со слезами приняв наказание, младенец через минуту ласкается к отцу своему и, не мысля о наказании, вдвое чувствует к нему привязанность, тайно понимая его всегдашнюю любовь в его минутной строгости…
„Будьте подобны младенцам, ибо их есть Царство Небесное”, – сказал Спаситель, указывая на детей, Его окружающих. Что значит это слово? Что есть жизнь младенца? Незнание закона – следственно, невинность перед законом;
безусловная покорность отцу и матери – „да будет воля твоя”;
любовь к родителям – „да святится имя Твое, да придет Царствие Твое”;
беззаботность о завтрашнем дне – „хлеб наш насущный даждь нам днесь”;
незлобие – „и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»;
незнание зла и бед житейских – „не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого”.
Младенец есть, неведомо самому ему, тот человек, который выражен в молитве Господней. Но Спаситель говорил не младенцам, а уже совершеннолетним, знающим закон; Он требовал от них, чтобы они были с этим знанием таковы, как младенец в своём незнании; что в младенце незнание, то в знающем должно быть смирение, то есть вера, надежда и любовь, взятые вместе».
Замечательно. Но я встречал более глубокое толкование слов Христа «будьте как дети»: дети нуждаются в отце…
Столь же замечательно и просто сказано о свободе: «Что есть свобода в высшем смысле? Совершенное подчинение воле Божией всегда, во всём, везде и ничему иному. В сей подчинённости заключается свобода от зла, от судьбы, от людей».
И о плоти: я тоже считаю «плоть» более полным понятием, чем «тело».
13.03.85
Катались на санках с горки. Одна ехать до сих пор боится, усаживает меня, забирается ко мне на колени, кричит «поехали!» и тогда уже хохочет во весь наш стремительный путь. Если же упадём, то совсем изнемогает от смеха.
Поднимаемся в гору, Лизанька вдруг настораживается, принюхивается:
– Мёдом пахнет…
– Да ты что? – я недоверчиво втягиваю воздух. – Ничего не чувствую.
– Пахнет! – говорит она утвердительно и, размышляя:
– Может быть, тут дупло где-нибудь есть?
Возвращаемся из храма.
– Отесинька, а как молитва начинается «…и Матерь Бога нашего»?
– «Достойно есть».
И она поёт во весь голос, держась одной ручкой за мой палец, а другой размахивая в такт. Встречные, явно не понимая слов, ласково улыбаются поющей девочке.
Кстати, и Символ веры она знает уже наизусть и верно и уверенно подпевает со всеми в храме. Бабушки чуть не плачут от умиления.
Чугунов читает Розанова и выписал для нас поразившее его место; «Сумерки просвещения» мы с Олечкою читали давно, ещё в те времена, когда мысли о родительстве даже в голову нам не приходили; похоже, пора перечитать… Мысли Василия Васильевича, безусловно, справедливы… Но как-то не хочется «жить с ними»… Мы так счастливы с нашими малышами, что и подумать тяжело о какой-то суровости. Может быть, нас это и не коснётся:
«Семья – богата ли она, или бедна – в себе самой, в сфере своего особого труда (который дети лишь наблюдают) несёт свои отдельные печали и радости; у детей пока – одни обязанности, и строгая за них ответственность перед этой трудящейся, озабоченной семьёй. На них лежит дом, и только; они – не счастие, не красота семьи: пусть эта тайна будет понятна им гораздо позже, пока в их сознании должно быть, что они трудны семье, и за это трудное должны чем-нибудь вознаградить её… Дети возможно долго не должны быть выводимы из своего родного гнезда, чтобы, согревшись здесь непритворною любовью, узнав хоть что-нибудь не в ложных отношениях, были способны и в последующую жизнь внести какую-нибудь прямоту, хоть грубую, и что-нибудь тёплое…»
Несомненно, это «опыт веков» – так росли не только русские семьи, но и семьи вообще. Когда я говорю это «вообще», я представляю себе именно народное море семей – в долинах Франции, в лесах Германии, среди холмов Англии или в безбрежных дебрях Средне-русской равнины…
В «Настольной книге священнослужителя» нашёл странное толкование: оказывается, в России престольными праздниками Софийских храмов являются или праздник Рождества Богородицы, как в Киеве, или день Успения Ея (в Новгороде, Москве и Вологде) – «понеже Та (т. е. Богородица) есть Церковь одушевлённая Премудрости и Слову Божию, София именуемая».
Но ведь София, т. е. Премудрость Божия – это же Логос, Слово Божие, Христос?
24.03.85
Были в Москве – четыре дня; брали с собою Лизаньку. Я почти не выходил от Щукиных: беседовал с Володей, слушал его песни, разбирал библиотеку. Оля с Танечкою каждый день исчезали в магазины (потратили 200 рублей). Нас навестили Гоголев, Саша Новиков и Михаил Павлович. Удивили нас Лизанька с Леночкою: их было не видно и не слышно – так самозабвенно играли друг с другом и, вопреки обыкновению, очень тихо. В поезде я попытался узнать, чем же они занимались, но Лизанька только пожимает плечиками: играли!.. Вернулась она с насморком. Иванушку тоже нашли простуженным. Вчера я уже был на дежурстве.
Взяла ленточный метр и пыталась измерить себя: долго прикладывала один конец к голове и ловила свободный. Наконец, подошла:
– Отесинька, помоги!.. Подержи вот тут, на голове… Сколько я стою?
Подошла к маминьке с самодельной книжечкой из листочков, которую смастерила сама. Говорит со значением:
– А знаешь, что один святой писал о незнании Бога?
– Что, душа моя?
– Незнание Бога – от гордости и всех грехов!
Оля уже написала Танечке: «…Вот мы уже и дома… Иванушка сразу нас всех узнал и заулыбался. Все наши домашние заботы показались нам такими далёкими, мы уже успели забыть о них, пока жили у вас. Володя сегодня дежурит, мы остались одни и решили написать вам. Лизанька рисует поезд, на котором мы возвращались в Самару…
Вчера вечером ходила на всенощную. Трамвай застрял на половине дороги, и я долго шла пешком до храма и всё вспоминала вас. Мне кажется, вы переменились, ваше тяготение к дому и уединению стало сильнее, и от этого вы сами и ваш быт – и милее, и теплее. И ещё, милая Танечка, с тревогой думаю о твоём здоровье…
Получили письмо от Чугунова – они собираются в деревню – и так затосковали. Его Господь благословляет на этот труд. Нам же – другое, что ли, суждено? Но с какой отрадой и грустью мы вспоминаем то пастушеское лето! Неужели не повторится?
Да хранит вас Господь, милые.
Ждём ваших писем с нетерпением (и в гости).
Низко кланяемся и целуем.
Оля, Володя, Лизанька, Иванушка».
Прочитан последний, 12-й, том Жуковского; с огорчением узнал, что издание неполное: «ряд писем» и «отрывки из дневников»; странно, кто им мешал собрать всё и издать академически?
Июльская запись 1805 года: «Что со мною происходит? Грусть, волнение, в душе какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюблённым в ребёнка? – / бедному Жуковскому 22 года, Машеньке Протасовой лет 10–11/ – Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении её! Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала! Ребёнок!..»
Из московских новинок – немногое: «На высотах духа» Большакова (о делателях Иисусовой молитвы в монастырях и в миру; Брюссель, 1974) и без выходных данных сборник небезызвестной Зои Крахмальниковой «Надежда. Христианское чтение». Чтение интересное: воспоминания миссионера архимандрита Спиридона, беседы иеросхимонаха Амвросия Оптинского, среди прочего он пишет:
«…крещение по нужде может совершать и мирянин во имя Отца и Сына и Св. Духа. На этом основании Православная Церковь признаёт и крещение протестантское; но она сие крещение, как и своё собственное, утверждает другим таинством – миропомазания…» /Печать Духа Святаго/.
Далее: письма преосвященного Феофана Затворника и «Шесть чтений о таинстве покаяния» священника Валентина Свенцицкого (друга Флоренского), он цитирует Булгакова: «На Балканах, у сербов особенно, исповедь совсем вышла из употребления, а у греков причащаются без исповеди. Конечно, это следствие общего религиозного одичания». Что-то даже не верится…
Сборник завершают записки С. Фуделя (по редкости фамилии думаю, что это сын того Фуделя, священника, который переписывался с Розановым, заслужив восхищение Василия Васильевича, и натолкнулся на вполне розановскую мысль: «Сила детства – сияние нерастраченного пола»).
В словесности художественной чтение вышло чисто случайным: Гарина-Михайловского я купил для полноты библиотеки и по дороге домой заехал в ОВО – узнать насчёт работы для Олечки; бригадир тут же схватился за меня:
– Слушай, срочно нужен сторож на склад – некому дежурить. Останься, я тебя сегодняшним днём оформлю…
Я только и смог отпроситься на полчасика – предупредить Олечку – и сутки просидел в грязной и прокуренной сторожке за Гариным… «Детство Тёмы» для Лизаньки ещё рановато.
А в Москве, нечаянно оставшись один в квартире, открыл Киплинга и, не отрываясь, залпом прочитал «Маугли» (наконец-то по-русски).
28.03.85
Иванушка стоит, перебирая ножками, на залитом солнцем подоконнике (я держу). Лизанька – в кресле играет в «машину» и едет в Суздаль. С нею сидят два медведя и кукла Аничка. Вещей везёт немного – «чемодан» (подставка под телефон) и три одеяла. От нечего делать я пою Иваше песенку. Лиза меня прерывает:
– Отесинька! раньше, когда ты меня укладывал, то садился рядом и пел мне про «Ноченьку». А почему сейчас не поёшь?
– Ты уже большая девочка, Лизанька, – с сожалением говорю я.
Пришло письмо от Щукиных; Танечка пишет: «…с каждым разом расставаться всё тяжелее, всё роднее становитесь вы для нас. Когда поезд вас увозил от нас, Володечка говорил: да почему мы не вместе! хватит расставаний! Так сокрушался. И у меня так тяжело было на сердце. Гоголев даже прослезился и всё говорил о Лизаньке… Милые вы наши друзья, мы вас так любим. Леночка долго плакала о Лизаньке. Дома тихо, и вас нет, и так вас не хватает…
Кланяйтесь батюшке с матушкой… Храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Целуем вас нежно.
Володя, Леночка, Таня».
Из Москвы я привёз машинописную копию странной книги, называется «Иисус Христос» (1824) – написала её Екатерина Э., уроженка Вестфалии, католическая монахиня, в юности получившая высшее образование университетского типа, а в монастыре занимавшаяся образованием духовным; вся книга состоит из записи «духовных видений», которые явились результатом такого образования – необычайно чувственных… до неловкости.
Зато батюшка порекомендовал мне епископа Иустина – «Заповеди Господа и Бога нашего Иисуса Христа» – преполезнейшее чтение:
«В наших катехизисах подробно говорится только о 10 заповедях Ветхого Завета; а из заповедей Нового Завета упоминаются только 9 обетований о так называемых блаженствах… Много заповедей, данных и примером, и изречённых устами Господа нашего Иисуса Христа, но они почему-то не собраны воедино…»
И он перечисляет 25 заповедей «общеобязательных» и 25 заповедей частных (например, о постоянстве в молитве, о пище духовной, об исповедничестве, о жажде духовной, о хранении души для жизни вечной и т. п.). Мне кажется, что гимназический курс «Закона Божия» надо было бы начинать с изложения этой книги; ветхие заповеди уж очень общи и грубоваты (для народа жестоковыйного), новозаветные – конкретны, наглядны, совершенно не обидны для самолюбия и более воспитательны (т. е. в прямом смысле – питательны).
И два слова преп. Нила Синайского: «О молитве» и «О восьми лукавых духах» (машинопись с издания 1858 года).
29.03.85
«Какие заботы похищают всё твоё время, Миша? Уж которую неделю от тебя нет ни строчки. Семья? институт? или – проза? В последнем случае – рад.
На три дня мы выезжали в Москву – воспользовались отпуском тёщи, и она с трепетом пасла Иванушку в эти дни. Песни Щукина показались мне свежи и чудесны по-прежнему, беседы Гоголева – ещё более глубокомысленными, ласковое гостеприимство Танечки – райским. Навестил нас и Михаил Павлович, и в нём я заметил перемены, любезные моему сердцу. Хотя Володя Гоголев и пробовал принять с ним насмешливый тон, но ты же знаешь – его ирония всегда добродушна, и только по неловкости (от недовоспитанности) может сделаться острой.
Чугунов пишет, что уже подрядился пастушить; известие сие заставило жестоко повздыхать нас с Олечкою, но мы вынуждены и это лето провести в городе – Оля беременна (помолитесь о ней). Роды, если Господь помилует нас, в Октябре… В ожидании прибавления моего шумного семейства, я устроил Олечку сторожем, и мне предстоят беспокойные месяцы „между двух работ”. Я уже побывал на новом месте, и это свидание с миром, с радостью мною забытым, было нерадостным. Я всё забыл, от всего отвык, всему разучился; душа моя наполнилась шумом, и я на деле познаю теперь разницу, что определил в уме – между миром „у церковных стен” и миром внешним, или, пользуясь евангельским выражением, „кромешным”… В эти полгода, что я проработал возле храма, всякое со мною случалось, но вот такого „трамвайного дребезжания” внутри я давно уже не переживал… Какой чужой мир! насколько чужой мир бурлит за церковной оградой!.. Признаться, я пока просто „выбит из колеи”.
Литературные мои занятия ограничиваются чтением; муза моя всегда была ленива, а эту зиму уж точно проспала – у неё грация медведя. Я прочитал 12 томиков Жуковского, заглядывал в письма Карамзина; теперь ношу домой увесистые фолианты Самарина; на очереди Батюшков, Баратынский, Тютчев… Пушкин хвалил Ишимову – я разыскал её в нашей библиотеке и заказал на следующую неделю. Между делом, т. е. большей частью по ночам, читаю духовную литературу (и среди прочего огромный том – он мне кажется инкунабулой – „Толкования на Евангелия” блаж. Феофилакта Болгарского, на церковнославянском языке).
А в транспорте… В этой области словесности („транс портной”) я сделал открытие: давно уж видел в иностранном отделе библиотеки болотно-зелёные томики Карла Мея, но всё не решался заглянуть в них, помня репутацию автора как „писаки для задней лестницы” (Hintertreppenroman или, проще говоря, бульварных романов). И всё же… ещё в неблаженной своей юности я слышал об этом авторе – помнится, им зачитывались чеховские гимназисты. И я посчитал своим долгом познакомиться с кумиром подростков того времени – это им предстояла гражданская война.
Милый ты мой, как я вчитался! Читал, смакуя, растягивая удовольствие… Стыдобушка! Это то, что обозначают обычно словом „чтиво”, но исполнено это чтиво такого несокрушимого простодушия, такой прямолинейности и открытости, такого беспощадного следования сказочному принципу, что мне невозможно было не поддаться обаянию этой литературной наивности… Последний том дочитывал с сожалением: так привык к каньонам, саваннам, к радостям кочевой жизни, к непоколебимым достоинствам героев… Вот и качай головой, вот тебе и Аполлон Мусагет с хороводом муз, вот и немец с замашками шарлатана (в своё время его популярность обернулась литературной „панамой”). У нас его не издавали – во времена третьего рейха Мей считался апологетом арийской расы. А я часто вспоминал тебя над его страницами – если бы Мей попался тебе в руки в том же возрасте, как и Джек Лондон, и Александр Грин! С твоим живым воображением, с твоей неистощимою изобретательностью, с детской верою в благородные идеалы и сказочность своей судьбы, ты бы нашёл других героев и другие сюжеты для своих первых рассказов…»
01.04.85
Вчера намеревались свозить детей к обедне, я даже отпросился с дежурства, чтобы помочь Олечке, но едва мы вышли – поднялась такая метель, что Лизанька не могла устоять против ветра… Не поехали – вернулись.
Иванушка передвигается по периметру кроватки!.. Но вот как – я ещё не видел: ставлю его в один угол, и он, счастливо улыбаясь мне, колышется на своих облачных ножках; только отвернусь, забуду про него на минуту и уже обретаю его в другом углу – так же колышется, с тою же улыбкой следит за мною. Прямо призрак, а не мальчик! И ведь не уговорить, чтобы повторил свой фокус на глазах – на за что!
Оля написала Новиковым: «Саша, по последнему письму и нашей короткой встрече в Москве, представился мне очень счастливым и совершенно поглощённым заботами и радостями вашего маленького семейства. Это отрадно видеть. Один русский писатель говорил, что семья должна начинаться с глубокого уединения, где поначалу не должно быть не друзей, ни гостей… И так хорошо это совместное чтение акафистов и Псалтири – да поможет вам Господь, милые.
Детки наши быстро и незаметно подрастают. Лизанька философствует, недавно сообщила мне, что один святой сказал: незнание Бога от гордости и всех грехов. Иванушка по-прежнему ручной мальчик, и удивительно, если он десять минут просидит в кроватке один…
Танечка, сказала мне про твою, Ирочка, маму, что она подвизается теперь в храме. Мы очень удивились такой скорой перемене в душе и в мыслях и очень рады за вас.
Поздравляем вас сердечно с совпавшими праздниками Благовещения и Входа Господня в Иерусалим. Желаем вам крепости духовной и упования на Господа нашего Иисуса Христа в будущих ваших испытаниях…»
А я получил послание от Миши – мы разминулись письмами, поэтому его строки ещё дышат, затухая, прежними обидами. Впрочем, интереснее другое: он был в алтаре во время службы… Я тоже, когда попадаю на дежурство в самый храм (редко), бываю в алтаре, но – в неслужебное время, когда, например, проверяю лампадки после закрытия храма и запоры алтарного входа. И боюсь именно того, о чём писал Гоголь после поездки ко Гробу Господню и о чём пишет Миша в своём письме:
«Пришёл на службу, стоял возле распятого Спасителя и с усилием пытался молиться. Подошла алтарница и сказала, что настоятель приглашает меня в алтарь. Я лишь раз как-то давно и не здесь был в алтаре, а потому и три поклона положил лишь после того, как мне долго пытались объяснить это. Настоятель назвал меня по имени, благословил и вывел на клирос, велел читать псалмы. И я читал, словно жевал песок… Снова был введён в алтарь, где настоятель – прекрасный и чуткий пастырь – ласково говорил со мною, объяснял, что нужно почаще бывать в храме и вливаться, наконец, в приходскую жизнь, помогать на службах. В алтаре стоял долго, читая поминания (родительская), смотрел на проплывающие в солнечном луче золотые пылинки и изнемогал от близости престола…»
Но дальше идёт характерно романтическое: «Веришь ли, я давно уже тяготился тем, что меня узнают в храме, что мне кивают служители, здороваются прихожане, даже „за ручку”, даже с поцелуями, что на меня особенно смотрит настоятель и другие батюшки, а иногда выносят большие просфоры и антидор. Мне бы навсегда остаться незамеченным, неузнанным, прихожим человеком, которому уступили место где-нибудь в тихом углу…»
03.04.85
Бабушка принесла сливочное масло в пачках:
– Неси маме, Лизанька! Хорошее масло, крестьянское…
– Крестьянское! – запрыгала Лиза. – Крестьянское масло! Хорошее! Ведь это хорошее масло, да? Самое лучшее! Потому что мы ведь тоже христиане, да?
Бабушке не под силу выпутаться из этой этимологической ловушки, и она соглашается:
– Да, да!.. Ты неси маме, неси…
Олечке Лиза недавно поведала ещё одно открытие:
– Маминька, а ты знаешь, от какого слова «библиотека»? От слова «Библия»!
Сидим у стола. Оля хвалит Лизаньку:
– Ты знаешь, она почти бегло читает! Не по слогам, а так – словами.
Лизанька заглядывает мне в лицо из-под руки:
– Хочешь, почитаю? Вот, смотри! Смотри!.. Вот, хочешь, я эту книгу прочитаю?
– Да эту, наверное, не сможешь… Тут сложно.
– Ну и что? ну и что? Прочитаю!..
Но спотыкается уже на второй букве:
– А… это как?
– Это буква «ха».
Она продирается дальше:
– Ах… ахма… ахмаб…
– «Ду», – поправляю я.
– Ахма-ду… Нерусское какое-то слово! даже я прочитать не могу.
– Татарское слово, Лизанька.
– Как же так? как же так? На Руси – и татаре?
Всё меня восхитило в этой фразе: и «Русь», и «татаре».
Иванушка на милую просьбу маминьки: «Помаши, Иваша, отесиньке!» – машет мне ручкою и улыбается. Улыбается он, впрочем, всегда.
05.04.85
Читают с маминькой сказку о золотой рыбке. Лиза недоумевает, рассуждает:
– Старуха, что ли, погубить хотела рыбку? Она хотела, чтобы рыбка ей служила… А ведь рыбки на суше жить не могут. Ведь это же – губь!
Я же читаю Гёльдерлина – по совету Гоголева. И недоумеваю, что в этой книге («Гиперион») могло привлечь внимание нашего «московского Сократа»? Мистика дружбы? Но она окрашена в такие античные тона («сколько раз я забывался в его объятиях!»), что… право слово, просто не может вызвать сочувствия в душе мужчины. Склонность к античному пантеизму?.. У Розанова, кстати, тоже есть эта «забывчивость» по отношению к древнему Израилю или ещё более древнему Египту.
Мне трудно судить, настолько ли он гениален, как об этом пишут, но несчастен он был вполне. Родился в 1770 г., учился в Тюбингене вместе с Гегелем (изучал теологию), они вместе приветствовали французскую революцию, но потом Гегель принял к сведению изменение мира, а Гёльдерлин так и не смирился с тем, что человечество не облачилось в стилизованные романтизмом одеяния эллинизма. Свой роман начал писать в 1792 году, первая часть вышла через четыре года в известнейшем издательстве книгопродавца Готта, в 97-ом – вторая. Был влюблён в жену банкира, она повторила судьбу его героини Диотимы – умерла от любви… Он остался жить отшельником, подрабатывая в качестве домашнего учителя, в полной неизвестности, хотя его ценили Шиллер и Шлегель. Но не хотели знать читатели – любители элегически окрашенного классицизма к тому времени вымерли. Близкие временами замечали в нём признаки помешательства… Но язык романа – чистоты удивительной. Гёльдерлин – элегик, но в отличие от прославившихся элегиями Гёте, Шиллера, Батюшкова, Жуковского и Ламартина, не упоминая уж об Овидии и Тибулле, он элегик всеобщий – ему не подошёл мир, в котором приходится жить, он бы хотел существовать в другом человечестве, скроенном по его мерке, ибо сам себя он вполне устраивает.
7.04.85, Благовещенье и Вход Господень в Иерусалим
Лизанька меня причёсывает.
– Может, хватит? – морщась, говорю я. – А то опоздаем.
– Нет, не хватит. Я хочу, чтобы ты красивым был. Я тебя царём сделаю. Будешь, как царь Салтан.
Отправил Мише длиннющее письмо, вот самое существенное: «Не узнаю тебя, Миша, с годами ты становишься всё капризнее… Что касается цитат, неожиданно тебя обидевших, скажу: у тебя ложная система отсчёта – цитату ты принимаешь, как выпад клинком. Прежнее, юношеское восприятие довлеет над твоим новым бытием. Оттого и пишется у тебя так бездумно: „собственные слова наши не имеют прежней цены и достоинства”. Нет в „прежних словах” ни цены, ни достоинства! Слова наши ценны и достойны не нами. Оттого так важна и так существенна роль цитат в речи, на высшей ступени достоинства речь наша должна стать языком Писания. Опять, скажешь, трактат? опять „обухом по голове”? Как же быть, душа моя? Я так хочу объясниться. И я так корпел над цитатами, переписывая их с клочка на клочок, радея о пользе и понимании. Ведь у нас с тобою общие авторитеты! Приводя слова святого, показывая основание своего мнения, я тем самым как бы говорю, что это – и твоё мнение, что, по сути, мы едины и разнимся только и именно „своими словами”, гордой своей собственностью, а в смиренной высоте авторитета мы едины, мы в понимании и любви… Прежнее мировосприятие застит от тебя новый мир, где отношения между словами, явлениями и людьми существенно иные. Поэтому я так горячо ратую против словесных твоих ошибок – они суть свидетели, что мгла и похоть прошлого не отпускают тебя. Если ты не согласен со мною, давай поспорим, подискутируем – приводи свои аргументы, и ты увидишь, как быстро мы разберёмся в своих недоразумениях и ошибках (я ведь тоже „не семи пядей во лбу”, просто я раньше пришёл к этому, больше прочитал и, может быть, более запутался – у тебя взгляд свежее, как у всякого неофита)…
„Из друзей мы превратились в приятелей”, – пишешь ты с обидою. Но тут-то что обидного? Друг ты мой скорбный, это же глубокомыслие школьных сочинений! А я ведь специально разделил это слово дефисом, дабы ты не принял его в обыденном смысле. Слово-то какое: „приятель”! в самом звуке – уже объятие! „Приятелище сирых” – о Богоматери. Значит, я „иму” тебя, принимаю, „имею” в себе („ять” – принимать, усваивать себе, делать собою), как „имеют” друг друга муж и жена, „плоть едина”. Слово „друг” показывает иной аспект этого любовного единения, как и в браке слова „дружина”, „супруг – супруга” показывают, что это единство не доходит до личностного неразличения, или безразличия, сохраняя ценность каждой личности).
„Ты весь в теории, – пишешь ты дальше, – а древо жизни вечно зеленеет”, „у тебя нет опыта детства”… Миша, это обманные болотные огоньки бесплодной атеистической романтики. Из того, что я учусь открывать в явлениях жизни и словах, их описывающих, смысл более глубокий, чем это явствует из их обыденного течения, ты вывел заключение, что я – „весь в теории”. Может быть, тебе, „зелёному древу”, это и утешительно, но это иллюзия. Олечка замечательно сказала: „Мне кажется, его томит тоска по родному…” Не истолкуй эти слова в бытовом смысле: мол, тоска по родственной душе – нет, но тоска по родной стихии, в которой родная ей душа и сама становится порождающей. Наши души, выхолощенные современностью, забыли свою родину и томятся по ней зачастую неясною тоскою. Имя же ей – Православие, православная культура.
А богатство „детского опыта”, на которое ты пытаешься опереться и в своём нравственном стоянии, и в художественной работе, боюсь, насквозь иллюзорно – это иллюзия вечности, иллюзия земного бессмертия и вера в волшебную палочку, которая обязательно вот-вот найдётся. Это ли опора для любви и труда? Конечно, эти иллюзии – потухающий отблеск памяти о теплоте и всемогуществе материнских рук, но истинное богатство детства, его непреходяще ценный опыт – в чистоте…
И, увы, не вечно зеленеет „древо жизни”: Гёте имел в виду бесконечную жизнь человечества – куда как утешительно для каждой трепетно теплящейся жизни! И ложно к тому же. Пафос фразы – превыше всего наличная жизнь; отнюдь – божественная мысль о жизни выше её исторического земного воплощения, природная жизнь недостойна замысла о ней, лишь смерть Искупителя служит оправданием её длящегося увядания (чтобы „восполнилось число”). И в самой жизни нет ничего самоценного, ибо всё живёт и живится не собою; жизнь сама в себе не имеет оправдания, истинное основание мира, истинная жизнь его – это слово о нём (т. е. „теория”, по твоему выражению). Эта цитация весьма для тебя показательна, т. е. вообще для „подвига неофитства”, ибо религиозному пониманию жизни противопоставляет абстрактное бессмертие – пустой, диссонирующий символ из парадного ряда иллюзорных ценностей атеистической культуры.
Я пишу с такою важностию, а тебе, небось, до смерти скучно… Виноват, каюсь. Но вот о Бунине… всё-таки. Наверное, он тебе кажется мудр… Есть в культуре, в её декадентском, „изсыхающем”, секторе этот соблазн „земляной” мудрости – так сказать, художественный слой интеллигентского сознания, в отличие от его философского уровня „вечно зеленеющего древа”, но это „зеленение” не имеет своего слова, словесной жизни, это в буквальном смысле художественный вампиризм, изнуряющий душу, его притягательное мерцание обманчиво, его словесный магизм оборачивается оплотнением слова, в котором гаснут искры разума, и в душе возникает, заполняя собою всё, безмолвная, бессловесная растительная жизнь…»
14.04.85, Светлое Христово Воскресенье
За обедом. Лизанька с какой-то затаённой страстью говорит Олечке:
– А знаешь ли, как я люблю людей? Вот бабушку, например?
– Как, Лизанька?
– Так, что я за неё умереть хочу!
– Умница, душа моя! Так и Господь велел нам любить друг друга – душу положить за други своя, то есть умереть за ближнего.
Маленькую девочку охватывает вдохновение:
– Я и за тебя хочу умереть, и за отесиньку… За родителей особенно умереть хочу. Я за всех людей хочу умереть…
Записываю три книги. Из Ишимовой выписал только хронологию (для меня это и в самом деле самое живое, после Карамзина, описание русской истории, доведённое до воцарения Екатерины II – в библиотеке нашлась только 2-я часть её «Истории в рассказах для детей»); и всё же нашёлся любопытный факт: после смерти Феодора Алексеевича, по его завещанию, страна, оказывается, всё же присягнула Петру; и только через три недели стрелецкий бунт возвёл на престол царевича Иоанна, а царевну Софью сделал правительницей.
«Письма к молодёжи» свящ. Александра Ельчанинова (машинопись): «О том, чтобы молиться нам „чужими” молитвами (гордое противопоставление „своей” молитве): пример нам Христос. Его молитвенные вопли на кресте – „цитаты” из псалмов…
Как бы не менялись моды, траур женщин остаётся тем же, потому что в горе женщина не выдумывает, а берёт готовое и общепринятое. В этом объяснение всякого консерватизма: консервативно то, что серьёзно. Самым консервативным явлением человеческой жизни является религия, потому что она – самое глубокое явление. Реформа начинается, когда больше ничего нет в душе (я говорю о реформе форм), поэтому революция всегда признак оскудения духовной жизни нации.
…Древний стиль иконописания соответствует древнему благочестию… Реалистическая живопись – это характерно грешное восприятие мира. Поэтому роспись храмов в реалистическом „итальянском” стиле коробит наше религиозное чувство. Икона, писанная „по канону” – противоположный полюс этого грешного восприятия – здесь мир преображённый, всё „по чину и благообразно”…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































