Текст книги "В садах Эдема"
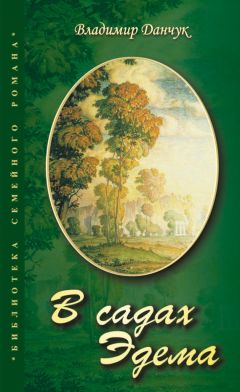
Автор книги: Владимир Данчук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Магистерскую диссертацию Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» я читал с удвоенным вниманием: до сих пор не могу понять их роль в истории. У Самарина тоже не обнаружил однозначного приговора: оба выражали борьбу тенденций того времени… Но католик Яворский, кажется, всё же немного симпатичней протестанта Прокоповича, либерала и интригана; впрочем, книга интересна и с фактической, и с идейной стороны. Кое-какие аксиомы я выписал с удовольствием – в подтверждение давно лелеемых представлений:
«Другие народы долго и упорно отстаивали свои древние верования и сдавались медленно, уступая внутреннему убеждению или внешнему насилию. В борьбе с христианством они узнавали и начинали понимать его; борьба была для них процессом постижения. Но этот процесс совершался вне церкви. Вступая в неё, они вносили с собою готовые об ней понятия, образовавшиеся в период язычества, и удерживали их навсегда.
У нас не было такой борьбы. Язычество скоро исчезло из сферы религии и затаилось в глубине поэтических народных преданий. Только изредка и местами оно проглядывало в форме обрядов».
О протестантской реакции против монашества: «В средние века, в Западной Европе, монашество получило огромное развитие вследствие всеобщего убеждения, что в нём заключался если не единственный, то по крайней мере ближайший и почти верный путь к спасению. Это убеждение было тесно связано с учением об оправдании личными заслугами и об оценке дел по их трудности, о том, что всякое страдание и всякое лишение есть заслуга перед Богом. Развитое до крайностей, это учение внесло семя порчи в самое монашество (ибо многие стали вступать в него совсем не по призванию, а вследствие какой-то обязанности) и положило ужасное противоречие между религией и жизнью. Это противоречие, сильно восчувствованное всеми, эта тоска по жизни была одною из причин реформации».
21.04.85, неделя о Фоме
Лизанька вертит в ручках конверт от пластинки, читает по слогам: «И-ри-на… Ирина!.. Отесинька!.. Ирина!..» Почему-то это имя её смешит. Отсмеявшись, разбирает фамилию: «Бо-га-че-ва…»
– Богачёва, – машинально поправляю я.
Помолчав и пошевелив губками, она объявляет:
– А пластинка называется «Мелодия»!
– Это завод так называется.
– Нет, пластинка! Потому что каждая пластинка имеет свою мелодию. Да?
Против этого не поспоришь:
– Да…
Показала мне самое «прятное» (от «прятать») место – в углу, за шкафом.
Опять спорит с бабушкой: та имела несчастье оговориться, что она – «тоже крестьянка».
– Нет, – строго говорит Лиза. – Крестьянка от слова «крест», а ты креста не носишь!
Иванушка уже несколько дней ходит по кроватке, держась за прутики и качаясь, «как пьяный сторож». А Лизанька называет его почему-то овечкою.
В 6-м томе Самарина изумительное по тонкости письмо из Берлина (1876): «Вы, конечно, знаете, что в наше время почти уже нет Берлина, а есть новый Иерусалим, говорящий по-немецки. Когда речь идёт об Иудаизме, который владычествует в обеих камерах /немецкого парламента – рейхстага и союзного совета/, который Бисмарку приходится терпеть, хотя с виду он как будто и пользуется им, который направляет образование в университетах и гимназиях, заменяет у женщин руководителей совести XVII и XVIII века, царствует на бирже, подкупает и вдохновляет журналы – само собою разумеется, дело здесь не в Ветхом Завете и не в национальности, возведённой на степень избранного племени. Это нечто неосязаемое и неуловимое в целом, это экстракт из всех элементов, в основе своей враждебных нравственному и социальному порядку, сложившемуся на христианских началах. Элементы эти встречаются всюду, но для того, чтобы отгадать их присутствие, извлечь их из грязи и выучить их не краснеть от стыда, чтобы сгруппировать их в доктрину и сложить в политическую партию, необходимо было чутьё, безошибочность инстинкта и абсолютная безоглядность в логике отрицания, которыми обладали только Евреи. Для этого требовалось весьма древнее предание, просвещение вполне внехристанское и внехристианская же история целого племени. В политике это – обожание успеха /характерное и для протестантства/ и поклонение золотому тельцу, в философии – материя, развивающаяся до полного самосознания по законам физической, механической, химической и физиологической необходимости; в области социальной переделка всех исторически сложившихся учреждений с признанием только одного регулятора – манчестерства, т. е. увеличения производительности, как высшей цели самой по себе; в области семейной – личное хотение, как единственная основа всех отношений; наконец, в деле воспитания – развитие и направление инстинктов (опознание, развитие влечений и обуздание вредных – другими влечениями и побуждениями). Вот до чего здесь дошло… В Германии я вижу самую большую опасность, угрожающую будущности моего отечества…»
23.04.85.
Оля: «…Что-то долго, Танечка, ты не отвечаешь на моё последнее письмо. Не случилось ли что? После нашей последней встречи я особенно тревожусь о твоём здоровье… Где вы встречали Пасху? Мы с Володею были ночью на праздничной службе – Крестном ходе, пасхальной заутрене и Литургии. Давно я не переживала такой светлой радости, как в эту ночь. Пред началом службы владыка Иоанн обратился к народу со словом о том, что в эту ночь никому нельзя ни спать, ни дремать, а всем радоваться и ликовать. А потом последовали такие удивительные минуты возвещения миру Воскресения Христова, так жива и реальна была благодать Его присутствия, что я, может быть, впервые в жизни почувствовала, что есть живая Церковь Христова, в которой воистину совершается то, что в ней совершается.
…Жизнь наша потекла стремительно. Володя теперь ходит ещё и на мою работу, и мы к этому всё никак не привыкнем. Я же теперь очень часто одна с детками, с утра и до вечера, и так иногда станет тяжело, что ни почитать, ни помолиться не могу – дети и хлопоты возле них отнимают все силы. Хотя – это неблагодарный ропот.
Иванушка начинает общаться с нами. Когда Володя собирается на работу, он уже чувствует и знает это, заранее начинает прощаться – машет ручкою. Это так удивительно, я не перестаю этому удивляться – как дитя само научается всему, как постепенно просыпается в нём человеческое, и никакие эволюции с ним ничего не прибавляют и не убавляют в его естественном возрастании…»
Слышу – Лизанька поёт:
– На горе трипение…
Недоумеваю. Объясняет:
– Ну, трепещет!..
А Иванушка вчера впервые стал на четвереньки – «четырешки», как говорит Лизанька.
27.04.85
Маминька ушла ко всенощной.
– Ну-с, будете кухать? – спрашиваю я.
Лиза смеётся:
– А почему ты говоришь «кухать»? Я же говорю «кушать». Или я тебя переросла?
– Может быть, – развожу я руками.
– Не-ет!.. А скажи «р-р-р»? Иванушка наш уже умеет говорить «р-р-р», я слышала уже.
– Не сочиняй. Он говорит только «тте-тте-тте» и «а-ба-ва». И ещё «л-ль».
– А я слышала!
– Скажи-ка лучше сама: «сорока»!
Закусывает губку, молчит, вздыхает:
– Не умею… А ты – скажи!
– Сорока! Ворона! Город! Огород!
Смотрит на меня завистливо:
– А почему ты сложное говоришь, а простое не можешь? Ведь «кушать» легче сказать!
В «Букинисте», не удержавшись, купил три сборника «Материалов» по Достоевскому и три «Ежегодника» Пушкинского дома. «Материалы» оказались интереснее – статьи о почвенниках, о Щедрине, о Гюго (и письма барона Врангеля). В «Ежегоднике» обзорных статей почти нет, основной акцент публикаций смещён почему-то к «серебряному веку», который я недолюбливаю за явную и неявную революционность, но кое-что всё-таки есть: письма Данилевского, Майкова, статья о К. Аксакове. Этот сборник, кажется, изобретён специально для публикации модернистов – с какой важностью рассуждают о супрематическом квадрате Малевича! Ишь – дырка от бублика! И в Пушкинском сборнике.
03.05.85
Я пришёл сегодня домой в час дня – после трёхсуточного дежурства; вечером ухожу в гараж. Олечка замучена; дети болеют: Иванушка кашляет, у Лизаньки насморк (до сих пор работает отопление, а на улице +25° в тени – одно из повседневных чудес плановой экономики).
Вчера, как рассказывает Олечка, Иванушка пополз, наконец, по дивану.
За эти трое суток распушилась зелень на деревьях, и пустырь кардиологической больницы покрылся новой травой.
Дома тихо: после шумного обеда все уснули – Олечка, Лизанька, Иванушка… (милые мои – скучаю!).
Отец прислал письмо: перестал писать «Ванечка», стал писать по-нашему – «Иванушка».
Олечка рассказала: прибирается она на кухне и вздыхает: «Ох, Господи!»
– Ты что, маминька? – спрашивает Лизанька.
– Да что-то грустно мне, Лизанька, сегодня.
– Наверное, по отесиньке скучаешь?
И утешает:
– …А потом переедем в Суздаль и останемся там навсегда. Так закончится наша жизнь самарянская.
Долго не было писем от Миши, Лиля попыталась восполнить этот пробел и прислала очень милое и подробное письмо (и вообще – я заметил, что женские письма интереснее, если только они не обмениваются рецептами):
«Писем от нас нет долго потому, что Миша перестал работать сторожем в райпо, т. е. лишился рабочего кабинета. А дома, даже в трёхкомнатной квартире, не очень-то отгородишься. Несмотря на задвижки на дверях, от нас трудно закрыться – Ванечка ломится в дверь, мне что-нибудь нужно или Анжелике. И вот так день за днём… Пишет Миша мало, и мне его очень жаль…
Я работаю дворником, это недалеко от дома. Сначала, когда ушла из школы, было жаль терять рабочий стаж, да и без тех денег трудновато – экономить мы не умеем, хотя пора бы и научиться. Вот и на сессию Мишу без денег не отправишь – и там месяц надо жить, и нам дома как-то выходить из положения. Мне порою бывает тяжело, грожусь опять уйти в школу на преподавательскую работу, но, видно, уж не судьба мне вернуться туда. Да и отвыкла я подчинять своё время чужим людям (и не представляю теперь, как я раньше всё успевала – и на работе, и дома). К тому же я давно поняла, что ясельно-детсадовское воспитание уродует ребёнка, а наш Ванечка такая прелесть, что жаль его отдавать в чужие руки. И теперь представить не могу, как это Анжелика будет целый день предоставлена самой себе. А она нам с Мишей стоит многого…»
08.05.85
Беседуют с Олечкою:
– Хочешь, – говорит Лизанька, – я покажу тебе, какие мы будем, когда душа из тела выйдет?
– Как это покажешь?
– Перестану дышать. Я так иногда делаю.
– Не надо так делать, Лизанька.
– Это лечебные упражнения, – оправдывается Лиза. – Упражнения смертью.
На гаражные бдения я выискиваю книги полегче, и, может быть, поэтому чтение всё чаще оставляет меня в раздражении – не только пустая, школьного уровня книга о Египте (впрочем: Хикупта – крепость духа Пта – греч. Айгюптос; самоназвание – Кемет, т. е. «чёрная земля», плодородная, в отличие от «красной» – пустыни; фараона нельзя было называть по имени, говорили описательно, например: «великий дом» – «пер-о», превращённое греками в «фараон»).
Но и 84-й том «Литературного наследства» о Бунине – читать было занимательно, тем не менее раздражительное ощущение пустоты подсказывало мне не совсем лестные эпитеты для героя этой книги. Временами он напоминал мне прежнего Михаила Павловича – тоже артист! тоже обаятелен! но, в отличие от Ерёмина, самодоволен и с трудом выносим.
Наконец-то написал и Миша. Но это не письмо – это пасхальный гимн:
«Христос воскресе, друзья мои! Солнце и необычно тёплый для мая ветерок. Сижу на скамейке и радуюсь, что ничто никуда меня не гонит, не надо спешить, и можно, наконец, послать вам весточку. Сессия прошла славно. И не то славно, что были лекции, экзамены и зачёты (честно говоря, этого почти и не было, вернее – почти не замечалось), а то славно, что жили мы в любви и мире, посещали храмы, встречались с друзьями, вели неторопливые беседы и вспоминали вас, лишь случайно не принимающих участие в этом славном единении… Виделись с Гоголевым – человек, настолько милый, тактичный и благородный, что совсем бы не расставаться! Были в его Морозовском особнячке, пили чай с лимоном, карамельками и сухим вином. На Пасху ездили к преп. Сергию, но в Трапезную сразу попасть не удалось: войска и милиция, сплошное оцепление. Говорят, в эту ночь по телевидению был концерт Пугачёвой – в противовес Воскресению, но толпы молодёжи предпочли толкаться среди храмов Лавры. В Успенском соборе мы промёрзли до костей, отогрелись в Трапезной и пошли к Преподобному, где заканчивалось причащение. Детишек было видимо-невидимо. И среди них – Сашенька Чугунова, возбуждённо и празднично блестевшая своими вишенными глазищами. Похристосовавшись, мы совсем уже собрались на электричку, но Саша Новиков, Володя Чугунов и ещё многие прекрасные люди, жившие в предпасхальные дни у Нины Николаевны (не знаю, известна ли вам эта очаровательная старушка), не отпустили нас и повели к праздничному столу. Что за светлые люди! Что за атмосфера! Что за радость! Было райское изобилие еды и питья, улыбок и ангельских слов. Потом, когда уже совсем рассвело, полезли всем радостным скопищем (а было человек тридцать) на террасу мезонина – смотреть, как будет играть и ликовать восходящее солнце. Оно взошло, и купола, кресты Лавры разгорелись неземным светом. Новиков суетился с фотоаппаратом, снимал нас группой и по отдельности, а потом вышел провожать за ворота. Хозяйка, увидев, что мы одеты слишком легко для студёного утра, не отпустила, пока каждый не взял по тёплой вещи (их мы после вернули через Щукиных).
Месяц прошёл незаметно и светло. Сердце ликует и стремится вновь пережить подобное; удивляюсь, что раньше не было в жизни таких минут…
Много раз ездили в Переделкино. Прекрасный там храм и прекрасный батюшка. Мы с Чугуновым причастились там – в последний день сессии – и распрощались так, как, наверное, не прощаются родственники. Да! получил твоё письмо, прочитал и дал прочитать ребятам. Спасибо, милый, за всё…»
13.05.85
Моют посуду. Лизанька:
– Я ведь обязательно выйду замуж?
Оля – вполне серьёзно – пожимая плечами:
– Ну, почему же? Вот посмотришь, как тяжела семейная жизнь, и решишь остаться одна.
– А почему «тяжела»?
– Забот много.
– Ну, и хорошо. Для спасения хорошо. Может быть, я тоже найду отесиньку, который будет в храме работать.
Ходили в гости к Наташе. Дорогою Лизанька собирала одуванчики и, когда нам навстречу выбежала Наташина дочка Людочка (8 лет), протянула ей букетик:
– Я тебе цветов принесла…
Люда фыркнула, пожав плечами:
– Очень надо! вон их сколько!
Глядя на растерянное личико Лизаньки, на её дрогнувшую протянутую ручку, я немедленно вмешался:
– Подари мне, душа моя! Мне самому собирать не хочется.
С облегчением, вся засветившись, она благодарно повернулась ко мне…
За всё время визита сближения так и не происходит (всё-таки разница в возрасте).
– Смотри, как я прыгаю, – говорит Лиза.
– Подумаешь, – пренебрежительно вздёргивает личико Люда, – я и выше могу.
– Я не тебе говорю, – осторожно возражает Лизанька. В её словах нет ни вызова, ни обиды, наоборот – смирение и уважение. К Люде она вообще относится с видимым почтением. – Я отесиньке говорю.
Перечисляет:
– Когда ты был на работе, я молилась и спела «Взбранной воеводе» и «Христос воскресе», и «Отче наш», и «Богородице», Символ веры, «Воскресение Христово видевше» и «Кресту Твоему»…
Это она оправдывается на моё замечание, что слишком поспешно молится и многого не читает (она поёт).
– И ещё одну забыла, – улыбаюсь я.
– Какую?
– Спаси, Господи…
– …люди Твоя, – подхватывает она.
Сидит на диване, обложившись подушками и игрушками. Я подбрасываю Иванушку к потолку, он верещит. Тогда я начинаю качать его, то приближая его к Лизаньке, то отводя.
Лиза протягивает ручки навстречу летящему братцу:
– Сойди, о небесный, сюда!..
Это из Жуковского.
– Чудно хорошо, – шепчет маминька.
Вхожу в комнату:
– Что за беспорядок? Кто это всё на столе разбросал?
– Это мы с маминькой рисовали…
– А фломастеры?
– Я разрешила! – кричит из кухни Олечка.
– Маминька разрешила… – опасливо кивает Лизанька.
– Хорошо, разрешила… Но почему не убрала за собою?
Поднимает глазки, говорит наставительно:
– А мне нельзя лазить в стол, поэтому я и не убрала фломастеры.
Грызёт сырую картофелину. Иванушка с любопытством следит за нею и невольно сглатывает.
– Угости Иванушку, Лизанька! Дай ему откусить.
– Нет…
– Это почему «нет»?
После паузы:
– А мне не нравится после него есть…
Иванушке нравится Моцарт. Лизе в его возрасте больше нравился Бах. Заслышав знакомую музыку, он поворачивается к проигрывателю и машет ему ручкою. Ходит по комнате вдоль дивана, кроватки, кресла… Носил его на руках, он взмахивал цветочком, зажатым в кулачке.
– Иванушка, дай понюхать!
Сунул прямо в нос, я даже отшатнулся, смеясь.
15.05.85
– А это какая книжка?
– Пушкин. Южные поэмы.
– А где написано «южные»?
Рукописный шрифт ей ещё непонятен. Показываю.
– А это?
– Поэмы.
Пробует разобрать по слогам:
– По-е-мы…
– Э, – поправляю я. – Поэмы.
– Э… – повторяет Лизанька, улыбается и пробует на свой лад, – поемы… А помнишь: «поем и славим»?
И она тихонько напевает:
– Имя Твое именуем…
Показывает книгу бабушке, объясняет:
– Вот, видишь: «А» с точкой – это «Александр».
– Ого, – подхожу я. – Покажи-ка!.. Молодец. А «эс» с точкой что значит?
– «Эс» – Сергеевич… – и она медленно, с удовольствием произносит. – Александр Сергеевич Пушкин…
На этой неделе купили две книги: «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина», писанные в 1810–1812 гг. и изданные в прошлом году «Советской Россией» с прекрасной статьёй Паламарчука (Гоголев рекомендовал заглядывать в Палиевского и в этого автора; кажется, и Михаил Павлович отзывался о них с уважением); особенно благодарен я составителю за обширные цитаты из Грота; наши литературоведы – люди учёные, не всегда поймёшь, что же им хочется выразить, а вот в XIX веке ещё умели писать ясным и простым, глубоким, но понятным языком.
И Новалиса «Werke in einem Band» – прочитал стихи (бледно), повесть «Ученик из Саиса» и роман «Генрих фон Офтердинген»; собственно говоря, это, скорее, трактаты в диалогах и аллегорических сюжетах – о верховенстве творческого начала: певцы, поэты, эрос… Мистика, вообще, вещь скучная. Я застрял на собрании афоризмов…
Из библиотечных у меня по-прежнему на руках Самарин – «Окраины России»; читаю с душевным мучением, а как же им было это видеть и не сметь даже пальцем шевельнуть!
«В вопросе о православии в Лифляндии мысль покойного Императора /Николая I; выпуски «Окраин» выходили в конце 1860-х/, кажется, ему самому никогда вполне не выяснялась и потому не вызревала в непреложное намерение. С одной стороны, предносившийся ему идеал формального единства дополнялся как нельзя лучше единством веры, и в этом отношении он не мог не желать распространения православия, хотя честная верующая душа его /до сих пор непривычно и необыкновенно – читать такие эпитеты по отношению к царю/, конечно, отвергала с негодованием всякий обман, как средство распространения. С другой стороны, его понятия о политической дисциплине не мирились ни с церковью, свободно проповедующей своё учение, ни с внутренним волнением, неизбежным в процессе свободного усвоения целым народом новой веры. Связав церкви не только руки и ноги, но и язык, связав даже совесть её казённым учением о главенстве Самодержца и о безусловности повиновения властям, он однако требовал от неё духовной самодеятельности и дара живого убеждения, а между тем всякое обнаружение малейшей инициативы в этой сфере раздражало его, как признак дерзкой заносчивости. Порывистое движение народной массы пугало его, как нарушение порядка. Ему хотелось бы, чтоб переход в православие совершился, как перемена фронта в боевом строю, чтобы дворянство не жаловалось и не роптало, чтоб даже лютеранское духовенство не морщилось при отпадении Латышей от протестантства».
Далее Самарин пишет, что только во время массового стремления латышей к православию, стихийно возникшего в 1841–1842 гг., остзейское дворянство, немецкое по происхождению, осознало свою зависимость от коренного населения и только с тех пор начало воспитывать прибалтийские народности в своём духе: сепаратизма и ненависти к России. У России было больше времени, чтобы воспитать их в своём духе, и это наша вина… Подумать только, внук Суворова сделал всё, чтобы погубить русское дело, из-за своей «слабости к немецкому, культурному элементу». Даже та небольшая доля аристократизма, что проникла в русское служилое дворянство, сумела многое отравить в нашей истории. Личная преданность баронов Государю Императору, сословная солидарность русского генерал-губернатора и туземных помещиков… Он, наверное, думал, что они его любят, а они его просто использовали в своих целях и посмеивались за спиною над «русским простофилей».
17.05.85
Объездили с Лизанькой полгорода – неудачно. Иностранный абонемент был закрыт на учёт, белочка в Гагаринском парке уже спала, когда мы приехали её смотреть…
– Неудачная прогулка, – говорит Лиза.
Я смеюсь. Навстречу нам идут женщина и маленькая девочка с огромным псом на поводке. По команде собака перепрыгивает оградку.
– О! Какая собака! – в восторге кричит Лизанька. Так громко, так весело, что смеётся и женщина, сопровождающая девочку.
Мы расходимся, Лизанька останавливается и глядит им вслед:
– Видишь, какая большая собака, – говорит она, по обыкновению, чуть наставительно. – Она может и через эту сетку перепрыгнуть.
– Нет, Лизанька. Собака большая, спору нет, но через этот забор она не перепрыгнет.
Она вздёргивает головку:
– Ещё как!
И мне опять удивительно: ей ещё нет и 4-х лет, а уже и эта интонация, и многозначительное «ещё как».
Всё забываю записать: Лизанька у нас терялась – где-то в конце Апреля – пошла с Олечкою на молочную кухню и, пока маминька разбиралась с бумажками и бутылочками, вышла на улицу и пошла. Оля провела ужасные полчаса (я был на работе), пока, уже по дороге домой, не увидела маленькую девочку. Лиза знакомой дорогой дошла до перекрёстка и терпеливо ждала маминьку, когда та её догонит…
Иванушка на руках у Олечки, с куском хлеба.
– Угости, Иванушка!
Тычет свой кусочек сначала мне, а потом заодно и маминьке. Оля смеётся:
– Всё время угощает!
И вид у него при этом важно деловой и любопытный.
Сегодня на прогулке Лизанька впервые стала читать вывески, почти без запинки: «Булочная», «Хозтовары», «Молоко».
Написал Чугунову (уж второй год мы обсуждаем его «Невесту», вариант за вариантом): «… он же композитор, творец! И если уж он не Моцарт, то Сальери должен бы быть – то есть, по крайней мере, гениально слушать, слышать музыку, и даже в этом даре есть – обещательно – мощь натуры, власть ума и сладострастность воли; разве тут до рефлексии над пелёнками? Эта банальщина – из ложного представления о художнике как об артисте, бондаревщина. Вот у Тургеневских героев сохранилась эта „Пушкинская” привычка – иногда, забываясь в своей интеллигентской бесхребетности, делать жест героический, приличествующий герою, но все они проходят через снижение; исключая женщин, все они немного пародийны (самоирония Тургенева в этих образах придаёт им всё же более возвышенный смысл, оберегая их от мещанства, что не под силу современным авторам, не имеющим традиционных связей с культурой)…»
И Гоголеву: «…Время летит, но имя твоё достигает нас, то выведенное нежной и внимательной рукой Танечки, то в дышащих восхищением бисерных строчках Миши, то в недоуменно-любопытных вопрошаниях Володи Чугунова. От тебя же самого – ровная гладь машинописи, в которой я не могу отыскать и следа моего старого знакомца и наставника. Мне было любопытно, но чуждо в твоей работе всё: тема, строение, речь – чужая, несвободная. „Родного” мне нет ни в статье, ни в стихах – настолько, что определения невозможны; на мой взгляд, ни проза твоя, ни стихи не имеют отношения к русской словесности; это не образная речь для читателя или слушателя, это – посвятительная речь мистагога, иерофанта, нуждающаяся в принимающем, а не в воспринимающем. Психологически – это тоска по образу, зов мэонического бытия за пределами культуры… Вот, душа моя, не вели казнить – вели слово молвить. Не серчай на меня, люблю тебя по-прежнему благодарной памятью. Но как ни раскину умом, всё выходит: съедает тебя Москва интеллектуальными соблазнами… Ещё на первых порах, когда твоё могучее косноязычие только пробуждало наше с Олечкою сознание от смертного сна, при всём моем тогдашнем увлечении «вслед», при всей захваченности, я не мог не заметить одной слабости в тебе: непонятной снисходительности к экспериментальной схоластике в искусстве (авангарду). Тогда я приписывал это капризу героического ума, теперь вижу, что это была брешь… Деревенскому парню просто не хватило культуры; вместо того, чтобы трудно работать „вглубь”, к корням, что одновременно расширяет горизонт личной культурности до соприкосновения с истинно сакральным, он постепенно стал удовлетворяться вершками модерна… Ты стал потихоньку играть во все эти модные интеллигентские игры, начиная от мистики и кончая французским стихом. И Чугунов мне пишет (мы ещё не сговаривались с ним на этот счёт), что привёз из Москвы впечатление несерьёзности, игры, „не-дела” – в том числе и от тебя. Не сердись же, милый мой философ; конечно, это свинство с моей стороны – написать раз в год, и этот „раз” использовать „как раз” для дружеской оплеухи, но они тяготят меня, эта статья и стихи, надобно отделаться. Над немецкими романами, твоим последним увлечением, я наскучался досыта; помимо неглубокой мечтательности и „как бы мистики”, они отдают каким-то сереньким, нездоровым (мальчишеским?) эротизмом. Возможно, я глубоко не прав, но к литературному мистицизму я почему-то питаю инстинктивное отвращение (mea culpe). На мой взгляд, записывать этих романтиков в родню к славянофилам, людям гораздо, гораздо более трезвым, и в отличие от бледной эротичности немецких юношей – истинно влюблённым (в Русь, милый мой, в Русь!)… это дело вкуса, но, по мне, невзыскательного вкуса.
И всё – о делах больше ни гу-гу. Я по-прежнему сторожу наш кафедральный храм, Олечка – сторожит дом и деток… Лизанька на глазах оформляется в человечка… Сказку о царе Салтане знает наизусть. Что знает Иванушка, никому невдомёк. Он только гукает, как сова, или произносит страстные монологи из двух-трёх слогов, непонятные по содержанию и однообразные по форме. Уши у него оттопырены до невозможности. Но и добродушие, каким лучится его почти постоянно улыбающееся личико, не имеет себе равных. Очень ласковый мальчик, при встрече неизменно обнимет, положит мягко свою головку на моё плечо и скажет от удовольствия: „ба – ва”… А целуется открытым ротиком, как птенец; и даже когда я подношу его к иконам, не могу удержаться от улыбки…»
29.05.85
Третий час пополудни; укладываю Лизаньку… Она уже отвернулась, но всё ещё шевелится, водит ручками по прутьям кроватки (которую я, как всегда, подтащил к столу), вздыхает, шепчет что-то, шмыгает носиком – мы её немного передержали, надо было раньше уложить, поэтому перед сном она немного покапризничала и была наказана – маминькою – и плакала. Время от времени я поворачиваю голову в её сторону:
– Положи ручки… глазки закрой… Лиза!
Олечка вчера написала: «Дорогая Танечка, письмо твоё получили, очень рады тому, что вы собираетесь навестить нас. К сожалению, ты не пишешь о сроках, а хотелось бы увидеться с вами поскорее. Вас мы вспоминаем очень часто. Сегодня я варила на кухне обед, а Володя с Лизанькою о чём-то беседовали. Начало разговора я не слышала, только Лизанька вдруг громко заговорила:
– …взмахну крылышками, вылечу в окно и полечу, полечу к Леночке!
А час назад я укладывала Лизаньку, лежала возле неё и вдруг вспомнила тебя, Танечка, от самой первой нашей встречи и до последних моих впечатлений. И мне показалось, что я могу проследить все изменения твоего милого лица… Но – вряд ли я передам этот полёт памяти – это, скорее, из области вдохновения. Вот Тютчев – тот передал бы. Я недавно читала его в трамвае, едучи ко всенощной, и поразилась – до чего же женская, невыразимая душа была у него.
Иванушка начинает ходить. Больше всех любит Володю, хотя видит его довольно редко. Такая привязанность даже удивительна в таком маленьком существе. Если Володя возьмёт его на руки, то он уже ни к кому не идёт, ото всех отворачивается и плачет, если кто-нибудь заберёт его к себе.
Нас собираются навестить Володины родители. Хотел приехать отец, но Володя написал им письмо, в котором попытался объяснить им что-то о церкви, так после этого отец написал, что ему ехать к нам не хочется. Наверное, приедут мама с сестрой. Но будут они недолго, не больше 2–3-х дней. Это люди, крепко привязанные к дому, особенно летом, в огородное время.
Батюшку я не видела уже давно. Он переболел воспалением лёгких; Володя с Лизанькою навещали его, когда он уже выздоравливал. Сейчас уже служит.
…Вы ещё не решили, как проведёте лето? Почему бы вам не побывать у Чугунова? Если бы нас не связывали две работы, то мы бы, наверное, решились навестить его. Он пишет нам из деревни, и мы вздыхаем, читая его письма. Какой милый и родной человек! Это так удивительно – вдруг встретить родную душу, созвучную с твоей даже в мелочах, во впечатлениях. Помоги ему Господь!
Леночку, нашу милую именинницу, поздравляем с днём Ангела. Желаем ей быть доброй и послушной девочкой, чтобы Ангел-хранитель всегда радовался, на неё глядя. В день святых и равноапостольных Константина и Елены мы обязательно закажем обедню о здравии милой Леночки и надеемся, что к тому времени вы получите перевод от нас – просим купить Леночке подарок на ваше усмотрение…
Да сохранит вас Господь на многия лета. Обнимаем и целуем вас. Пишите нам побыстрее. О».
01.06.85, Троицкая родительская, около полуночи
Были у всенощной – вчетвером, задержались, и вот – только сейчас укладываю маленькую девочку (Иваша уснул по дороге). Лизанька всё ещё ворочается в кроватке, но уже затихает… Она уже сама чистит зубки – оказывается, уже давно, с полгода – я помогал ей нынче при вечернем туалете. Она поворчала немного, когда узнала, что я буду её укладывать (обычно же прямо плачет, обнимает Олечку, не пускает, но сегодня я уже несколько раз призывал её к порядку, и она не решилась капризничать).
Записываю авву Дорофея; ничего в нём особого нового и глубокого я не нашёл, пишет он о вещах известных (тем не менее – 10-ое издание за 50 лет), но мне упоительной кажется сама по себе благочестивая речь – такая чистота языка!
«Скажи мне, Владыко мой, каким путём скорее можно достигнуть спасения, трудами ли, или смирением, и как избавится от забвения? – Брат! истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. Писание говорит: виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя (Пс. 24, 18)».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































