Текст книги "Соседи: Арабески"
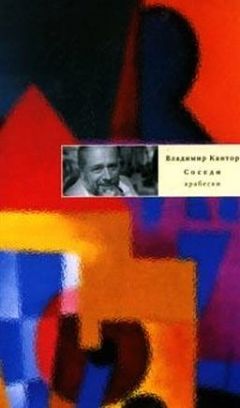
Автор книги: Владимир Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Шпион
Обидный сон. Сижу в гостях. Чувствую на себе косовато-удивленные взгляды. Не часто меня теперь сюда зовут. Сам виноват. Всегда нелюдимым был и слыл, а последнее время особенно. Все время сплю и вижу сны. Но сейчас мне во сне горько, что я какой-то не такой, что все выросли и наладились жить друг с другом, а я им чужой. А в детстве был «хороший мальчик», послушный, коллективист. Нынче – сам по себе. У всех же кружки свои, группки, переживания общие. Сюда позвали, потому что помог я наследие покойного друга-приятеля напечатать.
Сидим за бедным столом. Капустный пирог, грибы-самосол, вареная картошка. Все же стоят три бутылки водки и портвейн «для дам». Народу немного. Зато все, кроме меня, близкие. Я напротив вдовы оказался, уже пьяной, седой, хотя не старой женщины. Она рассказывает о покойном муже и о себе:
– Он и замуж меня взял, потому что я родом из хорошей семьи. Для него это очень важно было. На другой бы не женился. Только на хорошо воспитанной, понимавшей добро и зло. А родители мои художники, из Франции приехали. И совсем не соображали, где нам жить придется, в какой стране. И заставляли одеваться и вести себя «по правилам бонтона», как принято у порядочных людей. Особенно они меня беретками доставали. Берет!.. Это же после войны, как из иностранной жизни казалось. Мне и кузену одевали береты на голову и отправляли на улицу. Кузен сопротивлялся, орал, но, уже надев, носил. Он был обязательный. А во дворе его били в кровь. Я девчонка, потому хитрее. Родителям не противилась, но, из дому выйдя, снимала берет и в карман прятала. И все равно в драку влезала: приходилось за кузена заступаться. Нам кричали: «Вши! Гадины! Обезьяны! Тли! Шпионы! Иноземцы! Убирайтесь к себе! Прочь отсюда!» Дети кричали. Кричали то, что их родители говорили. Тогда шпиономания была. «Шпионами» нас чаще всего обзывали. Я очень долго так тайком и думала, что я из шпионской семьи, что мне такое несчастье на долю выпало. Но несла свой крест: все равно мне деваться некуда, судьба у меня такая. Значит, надо молчать и терпеть.
Я слушаю хозяйку дома, пью водку и вспоминаю. Или грезы меня в полупьяном бреду посетили?.. Слишком отчетливы образы, до ощутимости вижу каждый свой жест, выражение лиц, слышу слова, много лет назад произнесенные. Впрочем, воспоминание, как и бред, – это тоже нечто вроде сна. Что же мне в моем сне снится?
Во-первых, я твердо уверен, что мне четыре года, но одновременно с взрослой отчетливостью я понимаю, что на дворе стоит (или идет?) тысяча девятьсот сорок девятый год. Во-вторых, я недавно посмотрел фильм «Смелые люди» о храбром коневоде Васе, воевавшем с немецкими фашистами, и его верном коне Буране. А еще был в этом фильме человек – полный, в белом костюме, с не очень-то простой и не очень-то русской фамилией, – кажется, Борецкий. Очень вежливый, всегда приветливый и улыбающийся – не то что грубоватые и честные сельчане! Он был такой интеллигентный и обходительный, всем готовый помочь, что любому честному мальчику становилось это противно и подозрительно. И, конечно же, он оказался немецким агентом, шпионом. В-третьих, надо учесть, что я весьма развитой и искренний ребенок (и так я себя в своем сне и оцениваю). В свои четыре года, скорее всего с подачи родителей, но при моем полном согласии, я послал на день рождения «любимому товарищу Сталину» первую самостоятельно мной прочитанную книжечку (а потому самую для меня дорогую) – о «стойком оловянном солдатике», который выстоял, несмотря не все бессмысленные опасности, подстерегавшие его, и еще более бессмысленную смерть. Мне очень хотелось на него походить. И всегда быть на страже против всяких врагов и шпионов. Во сне всплывают передо мной слова из посвящения вождю, записанные родительской рукой: «Я обещаю Вам хорошо ходить в садик, всегда слушаться и вырасти достойным коммунистом». И тут я понимаю, почему вспомнил это. Я – такой же был, как те злые дети со двора, о которых рассказывает хозяйка дома.
Но бред длится, не отпускает меня, подсовывая еще более унизительные воспоминания. Теперь всплывает детский садик. Шкафчики для одежды вдоль стен коридора, на них налеплены картинки, изображающие разные фрукты и овощи. У каждого свой знак. У меня – морковка. Низенькие скамеечки, обитые дерматином: на них мы сидим, когда переобуваемся. Рядом дверь в комнату, именуемую «группой». Говорят: «Иди в группу!» Или: «Ты почему из группы в коридор выскакиваешь?» В этой комнате мы играем и спим во время «мертвого часа». Но еще группа – это и сами дети.
Мне очень нравится одна девочка из нашей группы, простоватая, с пегими волосами, серыми и глупыми глазами. Одета она бедно, ходит обтрёпой. Да и я ношу штаны и рубахи с заплатами. Родители живут на стипендию, и жизнь нас не балует. Я рад, что бедностью своей близок к Наташе. Слова она выговаривает косноязычно, многих слов не знает, книги не любит, но этим она мне и мила – своей «простотой». Зато другая, с «непростым» именем Римма, с вьющимися белыми волосиками и кудряшками до плеч, с остренькой мордочкой, всегда в хорошеньких платьицах, кажется мне воображалой, злой, из другого мира, «не нашей». Она меня тоже не любит. Когда мы играем, я стараюсь эту Римму избегать, никогда не становлюсь с ней в «пару». Она к тому же новенькая. Ее еще не приняли в «коллектив». И я тоже ее не принимаю – «как все». Сейчас, смотря свой сон, не могу понять, как же из такого меня вырос потом мизантроп и одиночка. Или это расплата за детский конформизм? Всем – чужой. Как когда-то Римма. Она даже на горке катается одна: когда никого нет вокруг. Побаивается других детей. Смотрит на нас исподлобья.
Вечер. Темно-синий, зимний. Мы толпимся в коридоре у шкафчиков. Воспитательница не в силах загнать нас назад, в «группу». Мы ждем родителей, чтоб они разобрали нас по домам. Римма тоже здесь. Кучерявые ее волосики перевязаны розовой ленточкой. Острое личико встревожено. За многими уже пришли, за ней еще нет. Я смотрю на нее и жду, что она как-то «не так» себя проявит. И вдруг слышу: «Риммочка! Ты оделась, радость моя?» Это ее отец. Он скидывает на скамеечку свою тяжелую шубу. Помогает дочке одеваться. А я свое вижу. Ведь он в белом костюме, полный, доброжелательный, улыбающийся, вылитый шпион из «Смелых людей», который поджег конюшню с лошадьми и наводил немецкие самолеты на наших партизан. Римма, пока он одевает ее, обнимает его за шею, целует.
Я в ужасе. Неужели никто не замечает, что к нам в садик пришел шпион? Наверняка, нянечка ушла звонить по телефону в милицию. Я абсолютно доверяю разуму и наблюдательности взрослых. Настолько доверяю, что мне и в голову не приходит кричать вслух о своем открытии. Это же взрослые дела, взрослая тайна.
Но с кем-то своим открытием поделиться надо! Я беру за руку серотупоглазую Наташу с висящими космами пегих волос. И веду в комнату, в «группу», где мы играем днем. Она послушно идет за мной. И вот мы сидим на полу за кукольными ширмочками среди разбросанных кубиков и перевернутых зеленых грузовиков военного образца. Бледнея от важности сообщения, я шепчу: «Это шпион. Он под видом отца Риммы, но он шпион. Я узнал. В фильме «Смелые люди» был такой же. Я узнал». Перевернутая логика моего предположения звучит для меня самого вполне достоверно. Правда, я чувствую, что мне не хватает убедительности. Потому что говорю я самыми простыми словами, стараясь приноровиться к Наташкиному разумению. Она согласно кивает. И тут, прямо во сне, меня впервые посещает догадка, что я ошибаюсь, что в фильме был актер, игравший шпиона, и к отцу Риммы его шпионская роль не имеет никакого отношения. Просто похожи они. Хотя, конечно, улыбчивый, ласковый и вежливый, как настоящий шпион, – противно! А моя подруга мычит какие-то слоги: «Н-н-у! М-м-ы! М-м-у!» И смотрит на меня с обожанием, как на героя. Говорит она плохо, никак, не научилась, но все понимает. И со мной согласна. Мне почему-то становится неловко. Я выскакиваю из-за ширмочек, оставив ее сидеть на полу. За мной пришла мама.
…Чувствую, во сне чувствую, что пытаюсь сделать усилие, выбраться из этого постыдного бреда. Бормочу вслух невнятицу, но сам своих слов не слышу. Дурацкое мое детство! Куда ты ушло?! Опять хочу быть «как все». Но никогда уже этого не получится. Разлепляю глаза с трудом. Все тот же стол. Все глядят на меня с изумлением и некоторой брезгливостью. Неужели удивлены, что я заснул посреди пьянки? Кажется, нормальное дело. Или сон свой вслух рассказывал? Что сделал – не понимаю. Понимаю одно: гости и хозяйка уставились на меня, как на шпиона, затесавшегося в их круг, шпиона, притворявшегося другом.
Что я сказал-то?
…Просыпаюсь, так и не узнав этого.
9 февраля 1991
Пробуждение
Это был сон. Не более чем сон. Конечно же, сон.
… Я иду с приятелем, провожая зачем-то его на вокзал, и никак не пойму: то ли очень поздно мы вышли, то ли чересчур рано – до утренней звезды, слишком темно. Только какие-то красные сполохи в небе. Внизу же, между домами, сплошная темнота. Но мы почему-то идем очень уверенно, хотя ничего не видим: ни вокруг себя, ни под ногами. Возможно, у нас опытный вожатый. Хотя и незримый. Неясно только, как он нас ведет, раз мы его не видим.
Российская традиция с неведомым до поры до времени вожатым, выводящим из бурана (или из темноты), казалось, оправдывала себя. Но ведущего нас мы совсем не видели, совсем.
Вот мы уже и в вагоне. Я сразу об этом догадался. Только странно – не входя, очутиться внутри. Правда, и стены вагона изнутри какие-то непривычные, из досок что ли необструганных?.. Не то чтобы меня это удивило очень, но я особинку эту приметил. Показываю приятелю (которого зачем-то пошел провожать на вокзал: никогда этого раньше не делал – вот ведь что, да и приятеля не упомню, что за человек, откуда его знаю – вижу только, что высокий и горбится, сутулится поэтому, а как на доски ему показал, то выяснил еще, что бас у него окающий). Показываю, значит, я ему на доски, а он так говорит удивленно: «А ты что, иного чего ожидал?» Окает. А я вообще ничего не ожидал, и думаю, как бы мне сойти с этого поезда и вообще подальше отсюда оказаться.
И вдруг чувствую – а поезд-то уже идет. А куда – я даже и не знаю. И вожатый куда-то сгинул, и приятеля даже не помню, как зовут. И домашних не предупредил, и на работе завтра хватятся, а главное – билета нет, если контроль пойдет. А сойти купить – так уж и не сойдешь.
«Слушай, а какая ближайшая станция?» – приятеля спрашиваю. И тут вижу, что вагон не то что не купейный, а даже не плацкартный, без перегородок и без сидений, общий пол и общий воздух, в четырех углах коптилки горят тусклым красным огоньком, и на полу прямо темные группки людей сидят и, судя по жестам, в карты режутся.
И приятель мой чего-то присмирел. «Не знаю, – говорит, – какая ближайшая. Надо у проводницы спросить». Помолчал и снова окает: «Эк оно, как с тобой они нехорошо поступили, безо всякого предупреждения поезд отправили». И правда, чего уж тут хорошего!..
Идем к проводнице в купе (уверены почему-то, что у нее купе наверняка есть), а она к нам из тамбура навстречу. Из тамбура грохот, лязг доносится, да мочой и псиной пахнет. А она нами возмущается, в меня пальцем тычет: «Почему в вагоне посторонний?» Я смотрю, она у себя на боку рукой шарит – а сбоку у нее, на черной форменке, на ремне, кобура висит. «Ничего себе, – думаю, – история. Нормально, однако, влип. Похоже, что ВОХРа. А чего охраняют, непонятно. Зэка везут, что ли? Но приятель-то мой тут при чем?»
Однако, не рассусоливая, всю историю мою жалобно ей так выкладываем и разъясняем. Приятель окает, а я на обаяние работаю. Улыбается она, уже не сердится: «Только вот что, ребятки, я вам скажу – поезд до конечного пункта без остановок пойдет. А идти ему туда два месяца». Повернулась и исчезла, будто нарочно приходила, чтобы сообщить страшное.
В вагон возвращаемся. «Слушай, а куда ты, вообще говоря, едешь?» – приятеля спрашиваю. Призадумался он чего-то, голову опустил (я все вижу, к темноте привык, да и коптилки в четырех углах коптят, тоже какой-никакой, а свет), мотает головой. «На Колыму, – говорит, – еду».
«Зэка?!» – аж не словами, а дыханием только, еле слышно чтоб было, его спрашиваю. И холодок, холодок по спине.
«Что ты! – обижается он. – Как можно? Ни в коем случае! Просто так получилось». А что получилось и как получилось, объяснить не желает. Но мне всячески сочувствует, в щелку меж досок со мной смотрит. И любопытным рассказывает, что вот, дескать, как человек влип, вот, мол, как оно у нас бывает.
Тут замечаем мы, что у станций и на поворотах поезд наш как будто помедленнее спешит. И, наверно, недалеко еще от Москвы отъехали. Конечно, можно было бы вообразить, что путешествие это символическое, благо все шло один к одному, по анекдоту прямо (жизнь при советской власти – все равно что поезд без остановок, везет, не давая оглядеться, что по сторонам, что позади оставили). Можно было бы, конечно, повторяю, символикой заняться, расшифровывать намеки и полунамеки ситуации, но меня это не устраивало – я по натуре реалист. А тут еще был я в джинсах, в кедах, в ковбойке – и чувствовал себя очень спортивно. Тем более, что и вправду, хоть я интеллигент потомственный, а значок ГТО имею, да и вообще вполне крепкий мужичок.
«Ты, знаешь ли, по делу едешь… – говорю приятелю. – А я-то тут при чем? Я тебя вообще провожать не собирался. Как-то так само получилось. – (А о том, что я его не узнаю – молчу: как будто все так и должно быть.) – Никто ж мне не поверит, – объясняю доходчиво, – что два месяца в поезде провел: ни на работе, ни тем более жена. А тут еще к тому же и от Москвы недалеко отъехали: глядишь, завтра и до дому доберусь. Короче, доску надо выламывать, – говорю, – как в кино это делается и в романах, а как ход замедлится – я и выскочу. А?»
«Что ж, – отвечает, окая, приятель, – твое право. Ты тут действительно ни к селу, ни к городу. Давай помогу тебе». И любопытствующим поясняет: так-то мол и так-то. Те стоят, самокрутки из газетной бумаги садят и одобряют. Дым вонючий столбом стоит – не продохнуть, а из щели свежим воздухом тянет. Пальцы мы в щель протиснули, пытаемся доску оторвать – не поддается. Тут вдруг из дальнего угла, из темноты прямо (коптилка в том углу минуту назад запыхтела, дым густой пустила и погасла – темно там стало), – так вот, из темноты-то две фигуры возникают, с карабинами на ремнях через плечо, подходят поближе и улыбаются мне так дружески и ожидающе. Но дружелюбие это мне чего-то не по сердцу, не хочу я с ними дружить, боюсь я их, не друзья они мне вовсе. А приятель им улыбается, помощи просит, «пособите», говорит, словно не понимает, что он затем здесь и поставлены, чтобы за порядком следить. А доску выламывать – какой уж тут порядок! Но один из них ствол стальной карабина вдруг в щель просовывает, приналег, и отлетела доска: как раз мне протиснуться. А он мне так пальцем погрозил и говорит: «Не надо бояться человека с ружьем». И картавит при этом. Ничего я ему не ответил – поезд ход замедлил, станция впереди.
Лезу я в щель, приятель (так его имени-отчества и не помню) меня подпихивает, выпрыгиваю, наконец. Скорее даже, вываливаюсь. Ничего, не расшибся, на какую-то крышу покатую попал. Только озираться мне некогда – слышу (да и всем телом ощущаю), как – тра-та-та – из пулеметов по мне палят, да и – пах-пах – из карабинов тоже: с этого моего поезда, не иначе. Пригнулся, голову в плечи вжал и бегу, бегу изо всех сил. Подо мной двух– и трехэтажные дома. Скрыши на крышу перепрыгиваю. А пули по кровле ударяют и мне под ноги отскакивают. Бегу и одного лишь в толк взять не могу: неужто у поезда насыпь выше второго-третьего этажа проложена? Исхитрился, примерился и соскочил наземь. Все. Кончилась пальба. А я живой.
Соскочил я и очутился в поле. Станционные дома и крыши (думаю, что станционные были – откуда бы еще им рядом с железной дорогой взяться) пропали. Только за горизонтом где-то невидимый поезд погромыхивает. Утро уже, жаркое, небо чистое-чистое. Иду я по дороге меж полей не то ржи, не то пшеницы. А кругом, куда глаз ни положишь, поля, поля, поля. И ни души кругом, лишь птички какие-то поют. Сроду я сельским жителем не был. И хотя Достоевского изучаю (проблему «почвенничества», в частности), с «почвой» мне сталкиваться до той поры не приходилось. Мигом я растерялся. «Вот влип, – думаю. – И где станция, может, кто и знает, а я так нет. Куда идти-то, в какую сторону? Хоть кого бы найти, чтобы на правильный путь вывел…» Но что делать – иду пока себе сам. Иду, а на душе неспокойно. Вдруг те, что в поезд меня засадили, уже в бегах меня объявили и ищут.
Васильки по обочине и меж колосьев синеют. Колосья я срываю, обдираю колючую ость и зерна «молочно-восковой спелости» жую. И непонятно мне, что дальше-то делать. Хоть бы дойти куда, откуда можно домой и на работу позвонить. Авось, что прояснится тогда.
Вдруг впереди дороги пересекаются и расходятся, «богатырское распутье», думаю, а тут мне наперерез, справа налево компания мужиков с вилами и косами валит. «На работу идут?» Прибавляю ходу и догоняю их. «Мужики!» – кричу. Только голос у меня какой-то противный, с французским прононсом, а на голове – с удивлением замечаю в карманное зеркальце откуда-то взявшееся в руке – белая панама с широкими полями, на носу пенсне, вместо джинсов шорты надеты, на ногах носочки, сандалии, а в руках сачок для бабочек. Ничего себе видик! Даже стыдно как-то перед мужиками и отчасти жутковато, чужой потому что я по одежде.
Но и секунды не прошло, а я как-то среди мужиков очутился, в самой что ни на есть середине, иду и чувствую себя идиотом, совершенно беззащитным идиотом. И удивляет меня немного, что никаких тебе тракторов, а также других примет «сельскохозяйственной механизации». Косы да вилы, как при царе Горохе.
«Мужики, – говорю наугад (а голосок у меня какой-то заискивающий). – Далеко ли до станции… э… Барыбино?» «Эво-на! – удивляется один. – Так она в другой стороне лежит, мил человек. А сам-то как сюда попал? – спрашивает. – Ребята дюже интересуются, кто ты такой есть». Молчу. Что сказать? Как объяснить? Не про побег же рассказывать. «Народу, – наставляет меня снова все тот же мужичок, – завсегда отвечать обязан. Не серди, барин, народ, ответь ему. Может, тебя в участок представить надоть…»
Ничего не понимаю. «Барин», «участок» – слова как-то без шутки, всерьез произносятся. Куда это я попал? А лица у мужиков настороженные, недоверчивые, напряженные и даже, кажется мне, угрожающие. Угрюмые лица. Улыбаюсь мужику «приятельски». А сам из толпы, молча, не отвечая, выбираюсь потихонечку. До слуха уже голоса самых молчаливых и самых робких долетают: «Надоть бы личность ихнюю вызнать. Становому их представить али приставу». Тут только догадываюсь: «Эге! Да я, кажется, ненароком лет эдак на сто в прошлое угодил. К кому бы за помощью обратиться? Пускай мне только эти дорогу правильную в город покажут».
«Мужики! – кричу. – давай сюда станового. Объясните, к приставу как пройти!» «Ча-аво?!» – голоса раздаются. «Да, небось, ребята, он ему сродственник какой. Баре, оне завсегда договорятся, а нам, мужичкам, одне слезы». И мне говорят: «Ты, мил человек, не волнуйся. Мы и сами порешим, что с тобой делать». «То есть как? – возмущаюсь. Я же ничего вам не сделал. Я же свободный человек!» «Ча-аво?! Сва-бод-ный!.. Да ето скубент, ребята. Из тех, что народ волнуют. Нигилист, прости Господи! Сука! Да мы жа и без пристава усе решить могем. Дави его, ребята!»
Тут я побежал, благо что из толпы уже выбрался. Не побежал, помчался, полетел. Бегу, а за мной толпа с криками, с воплями. У-у-у!!! У-у-у!!! Сердце сейчас остановится – понимаю, что не уйти, догонит толпа с вилами, с косами, замучает, на куски изрубит. Солнце палит, жарко, пыль в воздухе стоит. Да и раскаленный воздух-то – дышать невозможно. «Вот тебе и мужик Марей, – на бегу последние мысли мелькают (понимаю, что последние). – Вот тебе и вожатый-провожатый! Вот тебе и народ-богоносец! Бежать надо, бежать, а то догонят!» И бегу. Но куда? Нет уже сил. Ноги слабеют. Сачок я давно уронил. Оглядываюсь – толпа уже близко. У-у-у! У-у-у!! У-у-у!!! Сейчас настигнут.
И, разумеется, как назло, прямо передо мною вырастают (я, правда, на горизонте давно видел что-то темное) копны сена. Полукругом широким стоят, не обежать, и высокие – жуть! Нет другого выхода, вверх лезу. Ноги, руки от усталости скользят, в сене путаются. А мужики уже внизу, тяжело и жарко дышат. Я прямо на сене перед ними раскорякою, такая мишень для вил удобная. И точно. Сзади добегающие еще издали кричат: «Вилами его коли! Ви-илами!» И вот уже мой мужик Марей рукой взмахивает, а в ней трезубые вилы зажаты. Потеряв всякое достоинство и стыда уже больше за трусость не чувствуя, кричу в ужасе: «А-а-а!!!»
Просыпаюсь от сердечного приступа. В висках стучит, сердце колотится. Хорошо, что проснулся, а то так бы и закололи.
1975
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































