Текст книги "Соседи: Арабески"
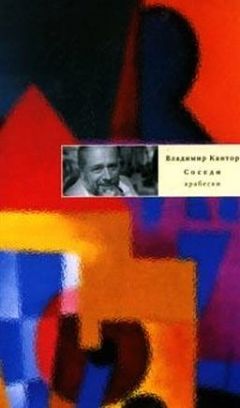
Автор книги: Владимир Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Нетость бога и парадокс надежды
От ужаса мира человека обещал спасти Бог. Но как быть, если Он непостижим и недостижим!? В «Процессе» священник рассказывает Йозефу К. притчу о вратах Закона, к которым пришел поселянин в поисках справедливости, но его туда не пускал страж, пока поселянин не умер перед этими вратами. И только перед смертью он узнал, что врата эти предназначались именно для него. Монголоидный стражник говорит умирающему, удивленному, что за долгие годы никто другой не попробовал в эти ворота зайти:
«Никому сюда входа нет, эти врата предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их».
То, что притчу рассказывает священник, служитель Бога, весьма важно. Ибо именно он должен осуществлять связь человека и Бога. Но он неким пугалом, как стражник, стоит перед этими вратами, не пуская в них подсудимого. Для Кафки, как еврея очень важна тема Закона. И когда он рисует, как персонаж «Процесса» не может, не решается прорваться к Закону, то надо понимать это так, что человек этот не может пройти к Богу: его останавливают вполне условные препятствия. Откуда они? Мартин Бубер таким образом трактует эту притчу Кафки:
Стоит добавить, что священник, с которым беседует Йозеф К., несостоявшийся его посредник в несостоявшемся контакте с Богом, – тюремный капеллан и тоже служит суду, а вовсе не Богу.
А если нет примирения, прежде всего примирения с Богом, то катарсис невозможен. Попробуем в этом контексте бросить еще быстрый взгляд на решение Кафкой проблемы Бога и свободы. Новеллы, притчи, романы, дневниковые записи – везде Кафка ярок, необычен, глубок. И все же роман «Замок» (наряду с «Процессом») можно назвать одной из вершин его творчества. Произведение это сложное, вызвавшее множество трактовок. Скажем, Камю писал:
Томас Манн называл этот роман гениальным и автобиографическим. Герой романа К. наделен душой одинокого пражского чиновника, пытающегося всю жизнь пробиться кабсолюту искусства. И пусть внешне это выглядит, как попытки землемера К., приглашенного в Замок, встретится с кем-либо из чиновников, этим замком управляющих, но, как кажется Манну, дело в ином:
«Ясно, что неустанные попытки К. из чужака превратиться в аборигена и прилично войти в общество есть лишь средство улучшить – или вообще впервые установить – отношения с «Замком», то есть прийти к Богу, снискать милость Его. В гротесковой символике сна деревня в романе – это образ жизни, земли, общества, добропорядочной нормальности, благословенность человеческих, бюргерских связей, замок же – это божественное, небесное управление, вышняя милость во всей ее загадочности, недостижимости, непостижимости»[54]54
Манн Томас. В честь поэта (Франц Кафка и его «Замок») // Кафка Франц. Замок. СПб., 1997. С. 378.
[Закрыть].
Об этом же говорит и Бубер. Заметив, что в романах Кафки «Бог удален и пребывает в непроницаемом затмении»[55]55
Бубер Мартин. Затмение Бога. С. 336.
[Закрыть], он добавляет:
Но уже в самом облике Замка заключен некий обман.
«Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий».
В этом Замке засела Канцелярия, чиновники, паразитирующие на Деревне, все жители которой верные рабы (не вассалы – рабы!) чиновников, не одного феодала, а целого аппарата бюрократов. Это как бы возведенный в новую степень феодалитет, пользующийся всеми феодальными правами, но без их обязанностей. Замок вроде бы знает о существовании К., ему присылают двух помощников, по сути – соглядатаев, шлют письма, но не допускают ни в Замок, ни к той работе, ради которой он приехал. Начинается фантасмагорическая бюрократиада, заключающаяся в бесплодных попытках К. пробиться к чиновникам Замка, поговорить с ними. Добиваясь свидания с начальником канцелярии Кламмом, К. говорит:
«Для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним».
Но вот лица чиновника он и не может углядеть. Могущество канцелярии в ее безличности, имена у чиновников есть, но только именами (да и то похожими порой: Сордини-Сортини) они и различаются, но отнюдь не поступками. Эта безличность, недоступность чиновников – как непроницаемая крепостная стена вокруг Замка.
Кафка не щадит своего героя. К. готов использовать и использует все возможные средства, чтобы пробиться к Кламму. Он сходится с любовницей Кламма Фридой (точнее, одной из многих любовниц, приглашаемых на нужное время, а потом изгоняемых, но все равно быть любовницей Кламма – большая честь для женщин Деревни, это почти чин). Фрида, вдруг решив, что она по-настоящему любима, рвет с Кламмом, кричит ему: «А я с землемером! А я с землемером!» И сразу обрывает надежды К. на контакт с чиновником.
«Что случилось? Где его надежды? Чего он мог теперь ждать от Фриды, когда она его так выдала?.. «Что ты наделала? – сказал он вполголоса. – Теперь мы оба пропали»».
Но Фрида готова идти за ним хоть на край света, а К. готов на ней жениться, чтобы, напротив, остаться в Деревне. Он не поддается искушению искать свободу в бегстве. Хотя основное свое отличие от жителей Деревни и Замка он сам заявил в день своего прибытия:
«Хочу всегда чувствовать себя свободным».
Но возможна ли в этом мире свобода? В рассказе «Отчет для Академии» Кафка устами обезьяны, ставшей человеком, сформулировал:
«Великое чувство свободы – всеобъемлющей свободы – я оставляю в стороне… Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода – направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким… Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал – пусть только предчувствовал, – что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода с помощью бегства невозможно… Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней».
Как кажется, именно это представление о мире и возможности в нем свободы лежит в основе поведения К., автобиографического, подчеркиваю еще раз, героя. Кафка предчувствовал наступление времени, когда невозможна «свобода», а в лучшем случае возможен «выход», пусть иллюзорный, известное приспособление к обстоятельствам. Мераб Мамардашвили выдвинул как-то «принцип трех «К» – Картезия (Декарта), Канта и Кафки»[57]57
Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 109.
[Закрыть]. Кафка в этой схеме, как понятно, явился выражением XX столетия. Но Мамардашвили находит и объединяющую эти три «К» проблему:
«С точки зрения общего смысла принципа трех «К» вся проблема человеческого бытия состоит в том, что нечто еще нужно (снова и снова) превращать в ситуацию, поддающуюся осмысленной оценке и решению, например, в терминах этики и личностного достоинства, т. е. в ситуацию свободы или же отказа от нее как одной из ее же возможностей»[58]58
Мамардашвили М. К. Указ. соч. С. 111.
[Закрыть].
К. не ищет свободы где-то за пределами Замка и Деревни, возможно, понимая, что и там то же самое. Но внутри предложенной ему жизнью и судьбой ситуации он хочет всеми правдами и неправдами отстоять свое личное достоинство.
Однако Замок строит свои отношения с героем таким образом, что К. каждый момент чувствует себя ущемленным, униженным. Ему предлагают работу сторожа в школе, он вынужден ее принять, чтобы был кров и пропитание (жить он вынужден в классе, где идут занятия). Учитель и учительница, «местная интеллигенция», глумятся над ним и Фридой, поведением своим доказывая, что они не лучше, чем крестьяне, которых Кафка рисует тоже совершенно беспощадно, как Ван Гог своих «Едоков картофеля»: К.
«еще не потерял интереса к ним (крестьянам. – В. К.) с их словно нарочно исковерканными физиономиями – казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья, – теперь они, приоткрыв отекшие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет».
Эта зарисовка, настолько пластична, что кажется достойной кисти великого живописца. К. – с «народническим» пафосом – хочет слиться с жителями Деревни, стать таким, как они, «если не их другом, то хотя бы их односельчанином», но те упорно и настойчиво отталкивают его от себя.
Землемер (по профессии – классический чеховский персонаж) не нужен крестьянам, они готовы обойтись без этого разночинного интеллигента. Староста Деревни говорит ему:
«Нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер?»
Крестьяне не задаются вопросом, зачем им огромная бессмысленная канцелярия, паутина с пауками, высасывающая из них силы, кровь, разум, превращающая их женщин в покорных наложниц чиновников, а мужей – в конфидентов своих жен, обсуждающих с ними свои отношения с чиновниками. Кафка здесь мимоходом указал еще на одну проблему: крестьянский общинный мир, как показала история, является тем субстратом, на котором вырастают азиатские империи, а в XX веке – тоталитарные государства[59]59
См., например, работу немецкого культурфилософа Карла Виттфогеля: Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Koln, Berlin. 1962.
[Закрыть]. Борьба К. в этом мире заранее обречена на поражение. Его пригласили сюда по канцелярской ошибке, затем издевательски «платили за то, чтоб он не делал то, что он может делать», скажем, употребляя формулу А. Блока. Помощники, приставленные к нему, сходные, как близнецы, притом похожие на змей, что Кафка постоянно подчеркивает, втираются, вползают в каждую щель его личной жизни, не оставляя его ни на минуту, даже в интимные моменты, опутывая его, вынуждая совершать ошибки. Фрида не выдерживает его «беспокойного поведения», его неумения примириться с обстоятельствами, примениться к ним, и уходит от него к одному из помощников. К. невольно выталкивается к париям Деревни – семейству посыльного Варнавы. Из последней написанной части романа мы узнаем историю этого семейства, заключающую в себе как бы модель судьбы тех жителей, которые попробовали не повиноваться Замку, т. е. чиновникам. В первых частях романа – покорные, в последней – бывшие непокорные. Хотя и непокорность-то достаточно ничтожна.
Сестра Варнавы Амалия получила от чиновника Сортини письмо с недвусмысленным предложением прийти к нему. Возмущенная девушка поступила так, как никто из женщин до сих пор не поступал: порвала письмо и клочки бросила в физиономию посыльного. Дальше происходит нечто чудовищное: жители Деревни резко и бесповоротно отворачиваются от этого семейства. Отца семейства исключают из пожарной команды сами жители, недавно преуспевающий сапожник, он лишается заказов, беднеет, вынужден перебраться в бедную избушку, теряет силы и рассудок. Он пытается подстеречь хоть кого из чиновников, чтобы вымолить прощение. Сестра Амалии Ольга, пытаясь спасти семью, ходит в гостиницу, где останавливаются слуги чиновников, напоминающие не то разнузданную орду, не то опричников, и дважды в неделю спит с ними на конюшне, надеясь через них пробиться к власть имеющим в Замок. Но все безрезультатно. Замок просто не обращает на них внимания. Но самое интересное в том, что Замок не преследует это семейство, все это делают жители Деревни по своей воле. Кафка рисует высшую степень духовного рабства, когда внешнего принуждения и насилия уже не нужно. Малейший, даже случайный, жест независимости приводит в этом мире человека к крушению, более того, вызывает эскалацию несчастий с близкими людьми.
Здесь нет места героизму, нет места для трагедии. Нельзя не согласиться с Томасом Манном, что
«на протяжении всей книги неустанно, всеми средствами обрисовывается и всеми красками расцвечивается гротескная несоизмеримость человеческого и трансцендентного бытия, безмерность божественного, чуждость, зловещность, нездешняя алогичность, нежелание высказать себя, жестокость, просто, по человеческим понятиям, безнравственность высшей власти»[60]60
Манн Томас. В честь поэта (Франц Кафка и его «Замок»). С. 379.
[Закрыть].
Здесь, конечно, нет места и свободе. Почти закончив статью, я вдруг натолкнулся на запись Мамардашвили:
То есть это та запредельная ситуация, когда свободы нет даже в ее негативном смысле. Это не недостаток, а полное отсутствие свободы. Когда свободы немного, за нее можно бороться, тогда появляются трагические герои – герои Шекспира и Шиллера. И совсем иное дело, когда нет даже намека на нее.
Но неужели XX век не оставлял ни одного шанса? Вопрос в том, хочет ли свободы, понимающий бесперспективность эпохи, сам художник.
Страдая от недостатка свободы, Шекспир устами Гамлета сказал, что «весь мир – тюрьма, а Дания худшая из ее темниц». Это говорилось в елизаветинской Англии, как понятно, во имя свободы человека. Требование свободы поднимет потом на борьбу пуритан, но еще столетия пройдут, пока Англия станет образцовой страной европейской свободы. Именно эта невероятная жажда свободы обостряла – до болезненности – чувства Кафки, ибо, как и Гамлету, весь мир ему казался тюрьмой:
К несчастью, эта правда и в самом деле оказалась ближайшей. На долгие годы значительная часть человечества попала, не только в застенки, но в газовые камеры Освенцима и ледяные могилы Колымы.
И все же в творчестве одного из величайших писателей XX века можно увидеть обнадеживающий парадокс. О нем сказал Камю:
«Кафка отказывает своему Богу в моральном величии, очевидности, доброте, но лишь для того, чтобы скорее броситься в его объятия. <…> Вопреки ходячему мнению, экзистенциальное мышление исполнено безмерной надежды, той самой, которая перевернула древний мир, провозгласив Благую весть»[63]63
Камю Альбер. Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде. С 99.
[Закрыть].
В этом замечании Камю поразительное прозрение: страдания и муки Христа нельзя описывать в терминах трагедии, ибо умирает он смертью раба, а не свободного человека, да и характерно чувство оставленности, владеющее Христом перед смертью:
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27, 46).
Это не был свободный выбор, моление о чаше показывает это:
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26, 39).
Он выполняет волю Иного, Своего Отца, а не Свою. Но в результате этого ужаса на земле укрепляется Благая весть и открывается пространство свободы, которая столь необходима для трагического героя.
Откуда бралась эта надежда в XX веке, когда от мира сквозило тоже только ужасом? Когда личность элиминировалась, составляя песчинку, каплю в движении огромных чисел людей, когда «каплею льешься с массою» (как формулировал Маяковский)? Но парадокс в том и состоял, что оставались личности, оказавшиеся вне этого общего «железного потока», не принявшие новых ценностей, о которых писали Юнгер и Ленин, сумевшие сохранить свое «Я» в эпоху тотального принуждения к единообразному мышлению. Но чтобы это «Я» сохранить, надо было осмелиться увидеть, осознать и описать без особых эмоций изменившийся состав мира, когда сам мир еще не очень подозревал глубины происходившей в нем революции, уводившей человечество к первозданному Ничто. Человек, писал Хайдеггер, должен «научиться в Ничто опыту бытия». И только
На вглядывание в этот ужас и решился Кафка. Это, быть может, еще и не свобода, но, во всяком случае, путь к ней. Кафка оказался точкой пересечения рвавшихся к свободе духовных сил европейского общества. Поэтому столь значителен и важен его образ, его искусство. Всю вторую половину XX века человечество пыталось вернуться из мира ужаса в ситуацию трагедийно-свободного бытия. Насколько это удалось – пока не очень понятно.
2005
Рождественская история, или записки из полумертвого дома
Повесть
Я ускользнул от Эскулапа Худой, обритый – но живой…
А. С. Пушкин
Вы огорчаться не должны – Для вас покой полезней, – Ведь вся история страны – История болезни.
В. С. Высоцкий.
Увертюра
Попасть в больницу у нас более или менее просто. Читатель и сам это знает. В привилегированную или специализированную – по очереди, по блату, по деньгам, а в городскую клиническую – по скорой. Там-то я и оказался.
Надо сказать, никакой катастрофы я в тот день не ожидал. Когда она случилась и я оказался в больнице, то некая формула, не сразу, разумеется, а после реанимации уже, в моем сознании проявилась. Вот она: все в мире, особенно катастрофическое, случается вдруг. Моментальный переход из одного состояния в другое. Понимаешь, что летишь в тартарары, но остановиться не можешь. И сразу иное ощущение мира и себя. То, как казалось невозможным жить, теперь с тобой произошло, а ты все же живешь. Это ужасное открытие, сделанное маркизом де Садом, а потом подтвержденное на опыте нацистами и большевиками: человек привыкает ко всему, к самому ужасному унижению. Конечно, есть длительный период подготовки этой катастрофы, но он идет скрыто от тебя, хотя потом вспоминаешь, что звоночки были.
Почему-то за несколько дней до неотложки мне показалось, что я могу скоро умереть. Словно кто приходил и нашептывал.
А я всерьез не воспринимал. Но когда начал умирать, не удивился и не испугался. Узнал. Ибо знание – это воспоминание того, что предчувствовал. А что причиной было?
Быт наладился, квартира – после нескольких лет скитаний по съемным жилищам, житья в коммуналке и моих бесконечных усилий – образовалась. Что дальше? Почти все до перестройки лежавшие в столе рукописи опубликовал. Жизнь наступавшую вроде бы понимал, но она не откристаллизовалась во внятные формы, а потому на бумаге не закреплялась. Во всяком случае, у меня наступило ощущение, что всё, что мог сказать, я сказал. Дальше – не понимаю.
Итак, с одной стороны явный творческий кризис, с другой – спокойная жизнь с любимой женщиной, любимой дочкой, в уютной квартире. Толстовский Левин от такой жизни хотел застрелиться. Когда ближайшая цель достигнута, то естественен вопрос, а что дальше? Стреляться я не хотел, но чувство некоей наступившей бессмысленности жизни не покидало меня. Надо было уйти куда-то, что ли? Нет, другой женщины не было. Но казалось, что жизнь потекла по уже накатанной колее. И даже как-то подумалось, что хорошо бы течение ее прекратилось само собой, без проблем и без мучений. Желание, надо сказать, безответственное и эгоистическое, когда рядом люди, которые без тебя не могут. Говорил это даже жене Кларине. Она молчала, сжав губы (как всегда, когда нервничала), но надеялась, что пройдет. «Несчастью верная сестра надежда…» – Пушкин был как всегда прав.
И, подумав так, даже произнеся пару раз такие слова вслух, я невольно вдруг вызвал из далекого прошлого, из памяти, конечно, своего университетского приятеля Флинта.
В молодости, в университете был у меня приятель с такой пиратской фамилией – Флинт, Ванька его звали. Он все меня пугал: «Зачем учишься, курсовые пишешь, кому это надо? Все равно умрешь. И солнце погаснет. Знаешь ли ты, что Земля уже движется к солнцу, начался поворот, на несколько градусов мы уже отклонились от старого пути. Поэтому такая, для нас непривычная жара, – был май, мы сидели на скамейке у Патриарших, изнывая от палящего солнца, «Мастер и Маргарита» еще не был опубликован, и Ванька выступал в роли дьявола, сам не зная того. Он посмеивался, маленький, криворотый, с черной кудлатой головой, и учил все презирать, ибо все бренно. – Неужели тебя интересуют мелкие страсти вокруг Брежнева, коммунистической партии, запрещенных романов, идеологических структур? Уверяю тебя, что лет через тридцать обо всех наших заботах будут вспоминать старики да историки лопнувшего коммунистического режима. Ты меня слушай. Может, я, как мой предок капитан Флинт, тебе ориентиры к интеллектуальному сокровищу указываю, к тем самым пиастрам. Ведь только по отношению к смерти можно понять жизнь. А в России особенно. Помнишь пушкинский эпиграф к одной из глав «Онегина»? Здесь родится племя, которому умирать не больно. Или, как говорят немцы, сама жизнь есть Todeskeim, то есть источник смерти. Ich bin des Todes, du bist des Todes, и мы все вместе обречены смерти».
И вот потом, лежа на больничной койке, я вспомнил, как незадолго до потери сознания, до падения моего на рельсы метро и пр. мне словно Флинт явился, и я ощутил свою жизнь в его тональности, в духе его постоянной мортальной темы. Зачем, мол, я жил? Какой в этом смысл? Не пора ли закругляться? Сам Ванька умер (или погиб?) спустя полгода после блестящей защиты диплома – с солидным академическим аппаратом на немецком языке. Немецкий он и в самом деле знал, а не просто перед нами пижонил. Трудно сказать, насколько правдива была история о дальнем его родстве с великим капитаном Флинтом, но происходил он из дореволюционной еще философской семьи, его дед переводил Ницше одним из первых в России. Так вот оно откуда (догадался я спустя годы, улегшись на больничный одр, укрытый тоненьким больничным одеялом и лязгая зубами от озноба) была у него ницшевская Amor fati, любовь к Року! Но тем более, если все равно все исчезает бесследно, зачем же он тогда над дипломом сидел?.. Зимой он вдруг пропал, труп его нашли лишь в середине апреля после весеннего таяния снегов. Так и не узнали, что произошло. Впрочем, Флинт еще появится на страницах этой повести.
Я, однако, как видите, выкарабкался, хотя в реанимацию определили меня не сразу, а ведь привезли по скорой. Дело было так.
* * *
– Похоже, твой клиент, – сказал врач «кавказской национальности» в приемном покое высокому белобрысому доктору из реанимации. – Давление шестьдесят на сорок, гемоглобин пятьдесят восемь.
При этом – второе января. Продолжается русская пьянка, которая идет от 25 декабря, то есть католического Рождества, до 19 января, то есть православного Крещения. То есть почти месяц. Руки у всех трясутся, глаза нездоровые, в душе радость утоляемого каждый день похмелья и новой пьянки. Все знают – не дай бог попасть в больницу на праздники: врачи не работают, сестры не подходят, нянечка одна на все отделение… Но именно в праздничные дни, как жалуются медики, приток катастрофических больных особенно велик.
– Да ну, – ответил реаниматор. – Давай его пока в палату, утром разберемся. Или уже не разберемся. А ты на пару рюмок к нам бы завернул, а на приеме Танечка пока посидит, потом поменяетесь…
Слава богу, пошла со мной в палату жена. Рассказать ей об этом разговоре я не мог, не в силах был – слабый очень, но видел, что губы ее плотно сжаты, хотя глаза сквозь круглые совиные очки выглядели растерянными. Словно потеряла ученая сова ориентацию в пространстве, не знала вдруг, что в этой ситуации делать. Но собралась, нашла постель свободную – не у окна и не у двери (а в палате шесть коек – три на три). Над головой оказался целый иконостас. Разглядел я его уже после реанимации. В реанимацию же я попал так: сужу по рассказам. Толстая сестра Наташа поставила мне капельницу с физраствором и сказала жене: «Все, женщина, можете уходить». «Я еще посижу», – сказала жена. «Да хоть всю ночь. Ваше дело», – ответила сестра и, погасив свет, отправилась к перманентному праздничному столу. Я был в забытьи, поэтому той ночью ни на кого из соседей внимания, разумеется, не обратил. Да и темно было, они меня тоже не видели. И если б не совиная зоркость, вряд ли и утром меня кто увидел. Но Кларина побежала за сестрой: «Он уже сереет». «Так и должно быть». Потом я почернел, и, когда жена потребовала реанимацию, сестра все же позвонила. Привезли две девицы в белых халатиках каталку, принялись меня раздевать догола, тут немного сознание забрезжило, и я спросил, зачем это. «Девки там молодые, красивые – побалуешься с ними», – отвечала толстая крупная чернобровая Наташа, ухмыляясь. Та, которая не хотела вначале звать реанимацию. И меня, прикрыв простынкой, повезли коридором, а потом в лифте, а потом переходами, – так король, по словам Гамлета, путешествует по кишкам нищего. Вот в такой же нищей больнице я оказался, и этими нищими кишками двигался в отделение реанимации, полагая, что оттуда уже не выйду. И только уложенный на высокую, почти покойницкую кровать (когда мне делали переливание крови, засовывали в нос какую-то резиновую трубочку, кололи уколы, вставляли кишку в желудок, а меня рвало, и пришло чувство бессилия – пусть делают что хотят, я же должен терпеть: таков механизм русской психеи), подумал: хорошо, что я успел построить квартиру для жены и дочки, что сумели мы выбраться из коммуналки, что без меня бы они это не сделали, значит, что-то хорошее после меня останется. Понимаете, не тексты останутся, как я думал раньше, а сносная жизнь близких мне людей. На последних весах это оказалось важнее всего.
А потом пошли наблюдения, размышления. Думал примерно так: «Зачем лечат тело, чинят его всякие врачи? Это как временная заплатка на порвавшихся брюках или новая подошва у разбитых ботинок. Ведь человек все равно умирает, умрет. Человека можно назвать – временно живущий. Мы можем только гадать о вечности». Но испугался и вечности пока не захотел. И вернулся в палату.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































