Текст книги "Соседи: Арабески"
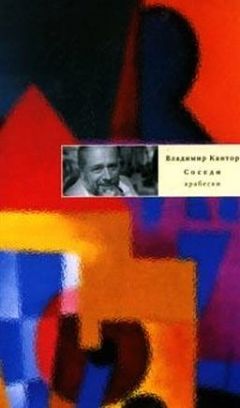
Автор книги: Владимир Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ночное бдение – второе
Мне показалось, будто я сразу уснул. Будто провалился в темноту. И поначалу мне почти ничего не снилось. Только разве, что меня преследует дурной запах, а избавиться от него нельзя, потому что у всех сопалатников одно на всех дыхание, хотя носы разные. И дыхание это противное. Почему-то было ясно, что мы одно существо. Но из многих частей. И частей этих чересчур, на всех воздуха не хватает, поэтому одной из них надо пожертвовать. Во сне я принялся считать эти части, запутался, и от недовольства собой проснулся. От запаха, и вправду, аж мутило. Все же шесть мужиков на небольшое помещение, а окно закрыто и даже заклеено – зима. От дурноты начало тошнить. Захотелось выбраться в коридор – глотнуть не такого прокислого воздуха. Но хватит ли сил? Памятуя, что прошлый мой ночной выход был всего лишь бредом, я отчетливо спросил себя, не сплю ли я и на этот раз. Как предписывается в таких случаях, ущипнул себя за руку. Нет, вроде не сплю. И тогда потихоньку сполз с постели. В темноте никак не мог найти тапочки. Кто-то толкнул их случайно под кровать. Нагибаться не было сил, и я осторожно опустился на колени, нашарил обувку, подтянул поближе, опираясь о постель, встал, засунул ноги в мягкий войлок и еле-еле, стараясь не шуметь, не споткнуться и не упасть, побрел к выходу. У двери призадержался и медленно-медленно, чтоб не скрипнула, приоткрыл ее.
Вот и воздух! Здесь можно было дышать. Тихо присел на корточки, прислушался. Сестрички не спали. Я застал на середине рассказ Сибиллы, которая сквозь дым сигареты плела небылицы:
– Чего мы только не видим! Как-то работала в больнице, где жил монстр: Машка и Дашка – две головы, два женских торса, каждый с двумя грудями, но на одном туловище. Одна голова постоянно бранилась: «Ты, Машка, жрешь чего не попадя, а у меня от тебя брюхо болит». Вначале забавляло. Потом тоскливо стало. Ко всему привыкаешь.
– Так, может, и про трехголовых драконов это не сказки? – спросила доверчивая Наташка. Фантазия ее разыгралась. – А что, может, был такой же чудик, мужик с тремя головами… И девушек себе крал, потому что так ни одна бы к нему ни за что не пошла. Страшно ведь.
– Все-таки ты дикая, Наташка, – сказала европейская Катя. – И с хвостом он был, и летать умел, и шкура непробиваемая, а из пасти пламя!.. Так что ли?
– Этого писателя-философа, ну, Кузьмина из девятой палаты, – продолжала вещать, не обращая внимания на пикировку товарок, Сибилла, – он вроде как на опохмел себе готовит. Сразу после Рождества на стол его положит, вот увидите. Чистенький, просветленный придет. Но злой от святости. Святости переест. Тут только ему подавай. Глаз острый, рука твердая. Что хочет тогда, то и творит.
– Он же вроде хотел Глеба Работягина взять, и ему обещал, что сразу после Рождества им займется, чтоб вскоре, мол, из больницы отправить, – возразила твердо знавшая все разговоры Катя.
– Обещать-то обещал, – с силой выдохнула клуб дыма Сибилла. – Значит, отправит. Ему главное, чтоб в понедельник никто не мешал чудесить. А Глеб и так отойдет, написано на нем. Только еще будет слоняться и ныть без толку. Впрочем, Тать чего-нибудь придумает.
Я не мог понять, то ли я брежу, то ли и впрямь, как Мальчик-с-пальчик, попал в людоедскую пещеру. А это не медсестры вовсе, а переодетые злые колдуньи. А вдруг и впрямь гарпии?.. Но поскольку этого быть не могло, я тут же решил от слуховых галлюцинаций отказаться и делать то, ради чего сюда выполз. То есть дышать. Хотя мозг тут же услужил поговоркой, что, мол, перед смертью не надышишься. Но я закрыл глаза и глубоко несколько раз вдохнул. Шедший по коридору сквознячок пополам с табачным дымом освежил легкие. И я открыл глаза.
Они сидели за барьерчиком медицинского поста, и расходиться спать пока, похоже, не намеревались. Я уже собрался, скрепя сердце, проскользнуть назад в затхлую палату, вскарабкаться на постель и постараться уснуть путем долгого лежания с закрытыми глазами и подсчета слонов. И считать их, как говорил один шутник, до трех или до четырех… часов ночи. Но тут кто-то твердо взял меня за плечо. Я еще сидел на корточках, поднял голову и обмер. Передо мной стоял Ванька Флинт, покойный, как я был уверен, приятель моей университетской юности. Как и тогда, во время нашего разговора на Патриарших, был он одет в рубашку с короткими рукавами, которую носил навыпуск, поверх мятых брюк, на ногах были сандалеты с рваным ремешком. Волосы все так же торчали ежиком, очень круглые глазки под черными бровями сверкали, а верхняя губа приподнята, словно сейчас он начнет очередную насмешливую речь. Только подбородок он необычно прижимал к груди. Раньше он все вверх голову задирал.
– Тихо, – сказал он. – Не пугайся. Ну да, я – покойник. Ну и что? Когда-нибудь и ты им станешь, да и все остальные тоже. А ты уж очень ко мне близко подошел, но, может, проскочишь. Хотя Тать есть Тать. По-немецки – ein Mann der Tat, то есть «человек дела».
«Значит, у меня и вправду бред», – подумал я.
– А ты там немецкий не забыл? – вполне глупо спросил я.
– Там ничего не забывают. Знаешь, почему я к тебе пришел? Ты, кажется, один-единственный меня всерьез принимал.
Мне показалось, что он слишком громко говорит:
– Тише, – невольно сказал я. – Услышат.
– Нас? – ухмыльнулся он. – Нас никто не услышит. И мы сейчас с тобой отсюда уйдем, – но не сдвинулся с места, пристально с интересом глядя на меня. – Ты даже не спросишь, что со мной случилось…
– Спрашиваю, – с трудом выдавил я из себя, чувствуя, что меня опять мутит и что опять сейчас грохнусь в обморок, как четыре дня назад на рельсы метро. – Я так и не понял тогда, куда ты ушел, а домой не вернулся.
– Не ушел, я наоборот домой шел. Даже торопился домой, – ухмылка его стала жалкой, даже не ухмылкой, а гримасой. – По пустому делу погиб, в отличие от того, что тебя ждет. Смотри, – он поднял вверх подбородок, и на горле его я увидел лохмотьями болтающуюся кожу, а среди лохмотьев рваную рану, словно не ножом, а каким-то слесарным инструментом сделанную. – В карты меня проиграли. Шпана, которая вся сейчас вделе, раньше, как ты помнишь сидела во двориках и играла в картишки на чужих – на прохожих. Кто проигрывал, первого встречного должен был убить. Я таким первым встречным и оказался. И заметь, никаких трагических зарниц не было, и не содрогнулось ветреное племя.
– Нет, я был потрясен, – еле шевельнулись у меня губами. Разговора медсестричек я не слышал, голова шла кругом. Захотелось оказаться вдруг в своей больничной койке, вдыхать аммиачный запах палаты, а чтоб это все оказалось только ночным кошмаром, дурным сном.
– Россия на жертве стоит, – неожиданно повторил он слова Татя. – Только раньше стояла неосознанно, а теперь, кажется, начинает осознавать с большой пользой для своего самосознания. Ленин что-то похожее о романе Горького говорил, – пояснил он.
Весь его разговор был напичкан скрытыми цитатами, которые я не всегда даже и угадывал.
– А теперь пойдем, ты должен кое-что увидеть и прочувствовать, чтоб и твое самосознание прочистилось, и ты знал, какова у нас здесь жизнь, но в сгущенном виде, то есть в самой сути, – он с легкостью поднял меня за плечо, и мы, не замочив ног в луже дурной воды, вытекшей в коридор из мужского туалета, оказались у двери последней по коридору палаты. – Вот сюда и заходи. Что увидишь и испытаешь, это и будет нужный тебе опыт. И, пожалуйста, без головокружений. Повторю это по-немецки словами Ницше: Du musst schwindelfrei sein. А я уже пойду. И без того еле отпросился. Жизнь, конечно, завершенного смысла не имеет, результат ее смешон, человек идет по жизни, как баран, не ожидающий, что его вскоре пустят на шашлык, но внутри проживания жизни надо прожить ее так осознанно, понимая, что есть худший и лучший вариант конца.
Прожить ее так – это из Николая Островского, это мы в школе наизусть учили, а про барана это были мои мысли. Странно это. Я воспротивился:
– Чего я там не видел? Такая же палата, как у нас.
Но он уже втолкнул меня в дверь. И очутился я в поле, вдали лес, и я вроде бы я, а вроде бы и не я. Сегодняшние беды отступили, подступили другие.
…Отгремела, отпылала постперестроечная война. Нет у меня теперь дома. А у кого сейчас дом есть?! Мало у кого. Выжженное пространство. Но какие-то островки жизни остались. От одного к другому бреду себе потихоньку. Люди везде странные, друг от друга хоронятся. Обычаи в каждом месте свои, и чудные донельзя. Находишься, намаешься, намерзнешься, наголодаешься, приткнешься куда-нибудь и спишь. Стараешься как можно дольше спать: хоть сутки, хоть двое. И снятся такие сны, трудно разобрать – сон это или явь. Иногда и вправду явью оборачивается. Значит, на ходу грезил, что сплю.
И вот видится мне опушка леса или несколько деревьев среди поля – не могу понять. И я на этой опушке с ноги на ногу переступаю в кучке других людей. Всего нас человек двадцать. Никого их я не знаю. Я – пришлый. Но толпимся вместе, не прогоняют. Перед нами, под деревом, могила в форме креста. У могилы с петлей на шее стоит молодой парень лет двадцати пяти. Рядом со мной мужчина и женщина: то ли отец с матерью, то ли крестные парня. Это обряд какой-то местный, так я понимаю. Торжественный. И мне говорят, что сейчас парня повесят и зла в мире будет меньше.
– Он преступник? – спрашиваю.
– Нет, жертва. Сам вызвался.
Веревка перекинута через сук. Сдругой стороны она привязана к спортивной штанге, которую держит на вытянутых руках, словно «берет вес», палач. Но веревки явно мало. Поэтому и жертва, и палач стоят на цыпочках. Парень с петлей на шее начинает петь. Что-то церковное. Песня кончается. И мужик-палач медленно опускает штангу и наваливается на нее всем телом. «Для тяжести», – соображаю я. Парень повисает в воздухе. Но, к моему удивлению, снова начинает петь. Только другую песню. Но тоже торжественную. Как это возможно? А вот как: женщина в черном пальто маленькой веревочкой оттягивает от его горла удавку. Парень висит и поет, славит Господа.
– Хватит, мать, отпускай! – кричит мужик-палач, сидя на штанге.
Тетка отпускает веревочку. Теперь горло сдавлено. У парня открывается рот, вылазит язык, белки глаз чернеют. И в этот момент основная веревка обрывается. Парень тяжело шмякается в могилу. На него начинают сыпать землю. Но он шевелится. Жив, что ли?
И в самом деле жив. Его вынимают из могилы. Веревки у них подходящей больше нет. Похоже, парень этим доволен.
Но его кладут на бревно. Лицом вниз. Зубило приставляют к шее и молотком по зубилу бьют. Однако никак им не удается шейный столб перерубить. Всё соскальзывает зубило. Только кожу рвет. Я пытаюсь возмущаться. За руки хватают, держат. А там, рядом с бревном, пила лежит.
Неужели?! А выхода у них другого нет. Веревка порвалась, топора не припасли, зубилом несподручно. Выходят двое из толпы и на ноги парню садятся. Двое других за плечи держат, чтобы не дергался. А первый мужик, палач, простоволосый, с диким лицом, начинает парню ручной пилой шею пилить. Потом в могилу останки складывают и засыпают землей. Теперь уже навсегда.
– Это такой обряд у нас еженедельный, – объясняют мне. И я вдруг понимаю, что обрыв веревки, зубило и пила не случайны, все именно так и задумано. Ритуал. Вот ужас-то! Этак они всех своих людей переведут. А они меня все держат за руки, не отпускают.
– Своих нам жалко, – говорят.
…Но я рванулся, побежал, стукнулся о какую-то дверь и снова очутился в больничном коридоре, судорожно дыша и чувствуя, как онемели руки в тех местах, за которые цеплялись меня удерживавшие.
По-прежнему дымила сигаретой пророчица (кстати, больным в коридоре курить воспрещалось), по-прежнему сестрички о чем-то весьма оживленно говорили. Но Флинта нигде не было. По спине у меня стекал пот от пережитого ужаса и от слабости. Был когда-то роман написан – «Путешествие по морю житейскому». По какому морю я сейчас путешествую?
– Там-то они и нашли пиастры, которые спрятал капитан Флинт…
Я невольно прислушался. Наташка, взмахивая полными руками, пересказывала фильм «Остров сокровищ». Да, читать они уже никто не читает просто литературу, разве что по специальности. Когда-то любимейшая моя книга. И сейчас мне было страшно, как пиратам в их последнем походе к кладу, когда им послышался голос уже умершего капитана Флинта. «Дарби Макгроу! – завывал он. – Дарби Макгроу! Дарби, подай мне рому!» Мне тоже и слышалось, и виделось. И мне, как мальчику Джиму Хокинсу, захотелось куда-нибудь сбежать. Но, как Джим к одноногому пирату Сильверу, так и я был привязан веревкой болезни и слабости к этой больнице, к этой палате. И сейчас меня еще куда-то занесло, откуда теперь не виделось выхода. Зачем мне Флинт показал эту картинку?.. Еще раз рассказать о бессмыслице жизни? О том, что чем больше люди ищут в жизни смысл, тем более безумными и лишенными всякого смысла становятся их действия?.. «А ты ее не понимай, ты ее вспоминай, помни каждый день, – услышал я у самого уха голос Ваньки Флинта, – картинка что надо! Убийство как святой поступок – вот должна быть тема моей загробной диссертации. Но у меня другой опыт. По пустому делу погиб. Тут гордиться нечем, словно траву срезали, это простая бессмыслица. А у тебя сложная». Я завертел головой, Флинта по-прежнему нигде не было. И, тихо скуля, я двинулся к своей палате, но остановился перед морем скверной воды, натекшим из туалета и перекрывшим проход. Стоять над ним было еще хуже для обоняния, чем лежать в нашей вонючей палате. Сестрам до этой грязи и дело не было. Это уборщицы должны, а не они. Или слесаря завтра вызвать. Словно не долетал до них запах. А может, и впрямь не долетал – все выдувал коридорный сквознячок.
«Сюда-то меня Флинт донес, а назад?..» И тут же очутился перед дверью своей палаты сидящим на корточках, будто ничего и не было, а я все продолжаю слушать болтовню наших трех граций или гарпий – как посмотреть. Накручивая на шариковую ручку локон черно-змеиных волос, Сибилла словно продолжала тот разговор, слушание которого прервал Флинт. Словно разговор застыл в воздухе, а теперь оттаял:
– А Тать на философа обиделся. Тот невежливо ему отвечал. Вот и не понравился он ему, не показался. А стало быть, он с ним счеты и сведет. Как с первого взгляда кто не глянулся, того он никогда не полюбит. Как родила я, сказал мне: «Посмотрю младенца. Если понравится, своим признаю». Но с первого взгляда не взлюбил. А я уж дочку Сашенькой в честь его отца назвала, думала свекром будет. Но нет, хоть на него как две капли похожа. Вот я и маюсь. Думаешь, Наташка, я не знаю, что это ты меня матерью-одноночкой прозвала?.. Зато моя была эта ночка! А других-то баб у него и нет, я знаю. У него святость на уме, как бы своим ланцетом мир исцелить. А я что? Стараюсь ему пригодиться, помогать во всем, будто и вправду жена ему венчанная. Глядишь, признает Сашку мою, трехголовый мой. У него не только Шхунаев – третья голова еще есть.
Красивая она была, что и говорить! Но красота ее меня не грела, пугала скорее. Страстное, требовательное и вместе очень покорное что-то светилось в ее лице. «Ведь за руки держать будет, если тот прикажет, пока он ланцетом орудует. Тот, Тод или Тать? Вот что надо мне понять. Господи, кажется, в рифму думаю, кажется, с ума схожу». Спина у меня была мокрая от пота. Заскрипела дверь моей палаты, из нее вышел в полосатой коричневой пижме Глеб, со слежавшимися со сна волосами и отлежалой вмятиной от подушки на левой щеке. «Пойду курну», – пробормотал он свое обычное, но меня не заметил. Я все так же на корточках сидел. Увидев его, сестры что-то зашумели, а я воспользовался сумятицей, скользнул в палату и через минуту, удивляясь своей быстроте, уже лежал в постели. Голова гудела, ноги дрожали, мысли были спутаны, как непричесанные волосы; я закрыл глаза, и снова меня замутило, словно поплыл я по мутной реке, но не к другому берегу, а вроде бы по течению. По ошибке не в лодку к перевозчику сел, а в какую-то пустую, без руля и без ветрил.
И тут меня стало выворачивать. Я перевесился с кровати, чтоб рвало на пол. Но желудок был пуст, и рвало меня желчью.
Причем приступ рвоты был такой сильный, что я ничего кругом не видел. Когда он ослабел, и я сумел вздохнуть, передо мной оказался стакан воды, который протягивал мне Славка. Я глотнул воды и удивился: за окном было уже серенькое позднее утро, вместо льда и снега пришла слякоть. Никаких тебе рождественских морозов!
– Вот Тать обозлится! – прочел мои мысли Славка. – А с тобой что-то не то происходит. Я несколько раз ночью просыпался: ты стонал чего-то, за горло хватался, будто тебя душили, то мокрый от пота был, то опять совсем холодный. Я уж было думал дежурного звать. Да спит поди с какой-нибудь сестричкой… О пиастрах кричал и про капитана Флинта. Это из «Острова сокровищ», я смотрел. А потом ты успокоился. И только сейчас вдруг захрипел и тебя рвать стало. Да ты не волнуйся, я приберу. Тебе еще рано вставать. Из процедурной, ну той, что напротив, тряпку возьму.
– Мертвяки мне всю ночь снились, – пожаловался я, понимая уже, что всё мне привиделось от духоты и вони, что кошмар снился, Alptraum, как говорят немцы, Nightmare, как говорят англичане.
– Значит, кризис у тебя был. Все в порядке будет. Не волнуйся, всякое видал, обойдется у тебя, – и Славка пошёл за тряпкой – убирать за мной.
День под рождество
А затем вошла крепконогая Катя, будущая жена немецкого бундесбюргера, собирать термометры. Забирая уже лежавшие на тумбочках градусники, она записывала результаты в амбарную книгу.
– А тебе, болезный, и не ставила. Стонал ты, будто леший тебя душил. Вон сосед твой Славка сказал не будить тебя. Я и не будила. А тебя как повело-то, весь пол загадил. Надо за нянечкой послать. Пойду Сибилле Доридовне скажу. Она старшая медсестра – пусть распорядится. Или жена придет уберет?..
Лицо ее при этом выражало полное равнодушие к происходящей вокруг нее российской жизни.
– Никого не надо звать, – оборвал ее пустые слова Славка, – сам я тут приберу. Делов-то, больше разговору. И загадил-то немного.
Он быстро протер пол и отнес тряпку во вспомогательную процедурную, где была и ванна, и унитаз, и шкафчик закрытый с обрывками бинтов.
– Вот это по-нашему, по-мужчински, – гремя банками, сказал дед Карпов, который, пока Славка убирал, аж с кровати свесился, чтоб все видеть. – Раз-два, и дамку за юбку, тить твою мать!
Подросток Паша, как обычно, лежал, подложив руки под голову, и смотрел молча в потолок. Дипломат Юрий читал газеты, мычанием выразвив согласие со Славкой (Славка ведь был для него старший по казарме). Глеб сидел на койке и кашлял, схватившись за впалую грудь.
– Курить надо меньше, а то сам не заметишь, как помрешь, – неодобрительно сказала Катя, выплывая из палаты, почти не шевеля бедрами. – В Европе вон давно уже не курят.
– Идет, как будто пятак в заднице зажала, – засмеялся ей вслед Славка. – Да и Господь с ней. Но уж больно воображает. Нам до нее дела нет. Счас Тать придет. Сегодня раньше времени. До завтрака. Давай-ка, – обратился он ко мне, – пока любимая твоя не пришла, полотенце мокрое принесу – личность протереть. А то ты мутный со сна какой-то.
Он снял со спинки моей кровати полотенце и вышел. Через минуту принес – влажное, приятное, убиравшее дурноту, рвотный запах и ночной кошмар.
Тут и вправду явился Анатолий Александрович. Был он сосредоточен, неразговорчив. К Рождеству себя готовил. Просмотрел записи температур. Почесал окладистую черную бороду – не понравилась ему температура подростка-наркомана, не спадала она никак.
– Ты смотри у меня до десятого доживи. Антибиотики тебе поколют. А там посмотрим, может, еще почистить тебя надо.
Был четверг, 6-е января. 7-е, стало быть, пятница, 8-е – суббота, 9-е – воскресенье, значит, 10-е понедельник. До понедельника ему дожить нужно, когда и Глебу, и мне операции обещаны. Причем Глеб этой операции ждал, я же упирался, как мог. Подошел он и к Глебу.
– Ну что с тобой делать, прямо и не знаю. Вот что, дам я тебе пока «Эссенциал форте», будешь пить по две таблетки четыре раза в день. Сестры проследят. Я Сибилле Доридовне скажу, чтоб назначение это записала. Как раз к понедельнику тебе это поможет. Надоел ты мне. Пора тебя выписывать. А пока лекарство попьешь.
– А операция?! – возмутился Глеб. – Вы же обещали!..
– Раз обещал, значит сделаю. Ты только принимай регулярно, что я прописал. Будет ухудшение, не обращай внимания. Должно помочь.
Славка вдруг гнусавым голосом в воздух, ни к кому не обращаясь, пробубнил вслух старый больничный анекдот:
– «Больной, поступили результаты ваших анализов. Вы покинете нашу больницу через одну-две недели». «Спасибо, доктор». «Боюсь, больной, вы неправильно меня поняли…»
– Ох, Колыванов, – обратился к нему Тать, – сдохнешь ты без покаяния, судьба у тебя такая.
– Кто ж о судьбе загадывает, Анатолий Александрович? – отозвался Славка. – Это уж как сложится.
– Ладно, умничаешь больно. Теперь Карпов. Вижу, идешь на поправку. А дипломат наш? Надо вставать, с сестричками уже можешь заигрывать. Скажу, чтоб расшевелили тебя. Так, а теперь писатель – или философ? – Клизмин…
– Кузьмин, – поправил я его снова.
– Это хорошо, что фамилию свою помнишь. Не безродный, значит.
– Не, не безродный, – согласился я.
– Устал я с вами со всеми. В отпуск надо. На Афон собирался. Из-за этого дефолта деньги лопнули. В монастырь в отпуск поеду, почищусь там, – он словно забыл, что ко мне обращался. – Вместо меня доктор Шхунаев вами на праздниках займется, если что не так.
И вдруг повернулся и вышел из палаты.
– Что-то ничего он мне не сказал, – растерялся я.
– Ну и радуйся, – засмеялся дипломат. – Целей будешь.
Его переполняла радость возвращавшейся жизни. Он сел на постели, расправив плечи, словно слова А. А. добавили ему сил. Подросток же Паша и пролетарий Глеб выглядели, как и я, растерянно-смущенными.
– Сам ушел, а лекарства прописал. А если без него что перепутают? – волновался Паша. – А с него потом взятки гладки.
– Да не должны перепутать, – неуверенно возразил Глеб. Славка молчал. Потом пояснил:
– Это он из-за погоды злится. Не дали ему рождественского Деда Мороза.
Подросток снова лег на спину, подложив под голову руки и уставившись в потолок. По коридору прошла дежурная по столовой нянечка, сзывая всех на завтрак. Славка, Глеб и Юр-ка-дипломат, прихватив столовые ложки, которые шли на все – на суп, кашу, кисель, только облизать их надо было хорошенько, – вышли. Остальным нам, лежачим, приносили еду в палату.
– Пожрем от пуза, – радовался дед.
Но это он так иронизировал. К здешней еде он добавлял всегда домашние приношения. Впрочем, ел он не так уж много, худ был весьма, и приносимых ему два раза в неделю продуктов хватало с избытком. На металлическом столике-подносе прикатила нянечка-подавальщица еду. Паша почти ничего не ел, только пил. На подоконнике, около которого стояла его кровать, родители оставили несколько бутылок минералки, он и пил прямо из горла по глотку почти каждые полчаса. Из больничного завтрака поэтому он взял только стакан жидкого киселя. Я же вообще отказался, поскольку ждал Кларину.
Вернулись от тощего завтрака мужики с кусками хлеба на случай, если до обеда станет голодно. Причем если к Славке жена пришла всего раз, он не велел ей больше сюда ходить, то к Юрке и Глебу ходили постоянно, и домашняя снедь у них была. Но как Славка, так и они.
Вошла с лотком, полным шприцев, Наташка – более игривая, чем обычно. Глаза сверкали вполне похотливо. Увидев нашего дипломата, совсем расцвела. Нравился он ей. И очень ей хотелось, чтобы и он обратил на нее свое благосклонное внимание.
– А ну, мужчинки, попками кверху. И не дрожать! Бабам вы еще и не такое и не туда вкалываете. Тебя, Глеб, как не колола, так и не буду колоть. Зато сразу две таблетки принесла. Доктор записал. Сегодня еще три раза примешь. Хватит одному валяться, пора к бабе под бочок. А вам, – это она Юрию Владимировичу, – придется ко мне в процедурную зайти. Доктор велел вам побольше всяких телодвижений делать. Скорей заживет.
После укола я лежал, невольно вспоминая и продумывая Сибиллины пророчества. Хоть и приснились они, но очень явственно прозвучали. Насчет Юрки, похоже, они сбывались. А как со мной? Наверно, Тать со Шхунаевым не хотят все же меня зарезать, но вполне по-русски хотят проучить. Слишком много о себе понимает, а кто он такой!.. Не начальник, не телезвезда, как писатель неизвестен, во всяком случае мы его не знаем. А проучить могли только одним способом – распотрошив меня по правилам и законам хирургии, со свойственным им искусством и ловкостью. А все разговоры о жертве – это бред какой-то… Никакого рацио, никакой логики, эмоции сплошные. И тут мне вспомнился стародавний анекдот, который даже Бога изображает в духе русского антирационализма. Появился в пьяном русском селе мужик, русский тоже, но справный, работящий. Вот засеял он все, как полагается, ночей не спал – следил за полем, обрабатывал и пр. Самый большой урожай собрал, сложил зерно в амбар. Вдруг гроза, гром, молния, и у него у единственного амбар со всем урожаем сгорает. Расстроился мужик, но скрепился, кое-что распродал, купил самолучшего семенного зерна, снова поле засеял, снова недосыпал и снова самый лучший урожай у него. Собрал, смолотил, в амбар сложил – уверен, что теперь дела его поправятся. И снова гром, молния, снова все именно у него сгорает. А у пьянчуг по-прежнему все в полном порядке. Но мужик сильный был, в долги залез, но снова все сделал в лучшем виде. И в третий раз именно у него все сгорает. И тогда обратился мужик к Богу, почти как древний Иов: «За что, Господи, наказываешь? Я ли Бога не почитаю, я ли не работяга, я ли не семьянин, я ли не трезвенник?.. Ответь мне!» И тут разверзаются небеса, высовывается оттуда Бог и говорит: «Вообще-то ты мужик хороший, правильный, но что-то, блин, я тебя недолюбливаю, не нравишься ты мне что-то». Вот и вся логика! На ней и стоим. Вот и Татю со Шхунаевым не понравился я чем-то.
И тут – легок на помине – явился Шхунаев. И сразу ко мне. Лицо его вдруг что-то мне сказало: как корабельный руль – опущенный книзу нос, острый и длинный, как киль корабля, подбородок, залысины от лба к вискам, словно паруса. «Шхуна! – подумал я. – Говорящая фамилия. Пират! Ушкуйник!»
– Не добеседовали мы прошлый раз с вами. Я, знаете, люблю поспорить, все равно верх мой будет. А пока чего не поспорить, не побеседовать… Ведь вы уже позавтракали?..
«А он и вправду садист, как из концлагеря», – подумал я.
– Он еще не ел, ему жена приносит, – сказал Славка-сосед.
– Сегодня день такой, предрождественский, – не обратил внимания на Славкины слова Шхунаев, – все желания сбываются. А у вас, скажем, какое желание? Ведь есть же оно?
Я вдруг ответил грубо (силы, что ли, стали возвращаться?):
– Уйти отсюда, чтоб операцию вы мне не делали, и я жив остался. Как-то давно я читал роман такого швейцарца – Дюренматта. Называется «Подозрение». Там рассказывается о бывшем враче-нацисте, который на пациентах опыты ставил, потом убивал, предварительно переписав их завещания в свою пользу. Вот вы мне его чем-то напоминаете, – я говорил так, словно мне терять было нечего или словно я уже выбрался из больницы.
Но он даже не обиделся, только своей длинной улыбкой улыбнулся:
– Ну, во-первых, читал я это. Так он же без наркоза операции делал и на заключенных в лагерях, только после войны к богатеньким перешел. А вы свободны, и операция пройдет у нас под наркозом. А во-вторых, какие я с вас деньги могу получить? Тем более с вашей смерти? Это у них там меркантильная цивилизация, все для денег и из-за денег. А у нас другое. Мы все делаем из духовных потребностей, по велению души.
– Даже в карты прохожих проигрываем не ради грабежа, а по душе, по ее велению, так что ли?
– Пример ваш жесток. Но и в нем есть правда. Да, это в каком-то смысле бескорыстное убийство, – он оперся о спинку моей кровати – длинный, стремительный, жестокий. – Гораздо противнее, когда из-за десяти долларов убивают. Больные молчали и слушали. Разговор и их касался.
– По-моему жертве все равно, каковы причины, побудившие преступника с ней расправиться. Уж не скажете вы, что жертва рукоплещет своему палачу?
– А почему бы и нет? При Сталине ведь рукоплескали, – возразил он. – И умирали со словами «Да здравствует товарищ Сталин!» Умирая, желали ему здоровья. Сейчас, конечно, наступает растление. Миазмы западной цивилизации и к нам проникли. Они готовы нас и нашу духовность погубить. Мы же должны сопротивляться. Вот и все. Наступило третье тысячелетие – и встал вопрос, кто кого. Я вам как философу могу это и по-философски выразить. То есть на рубеже третьего тысячелетия дело идет не только о существовании последней в мире христианской, то есть нашей, русской цивилизации, но о судьбе духовной вертикали бытия. Нападки на Россию – это атака инфернальной силы на главный форпост небесного воинства. А в России отношения всегда по-особому строились. Человек у нас всегда приносил себя в жертву за други своя. Именно за это мы с Анатолием Александровичем и боремся. На свой лад, конечно. Только он это нутром чует, а я его чувство могу теоретически оформить…
Да, это было похоже на кредо. Что-то подобное я читал и слышал, но тут и впрямь кредо это ожило и на меня наехало. Но я-то здесь при чем?..
Внезапно от двери послышался голос Кларины. Она стояла вся побелевшая, сжимая в руках сумку с баночками и пакетами, полными всякой полезной еды. Совиные ее очки сползли на кончик носа, голову склонила на бок, но без улыбки, такая беспомощная и жалкая перед ним, ведь он не мышонок, а она, увы, не настоящая сова:
– То есть вы предлагаете человеку стать жертвой?! Так я вас поняла? Как это у нас в советское время было – добровольно-принудительно! Вы что, сумасшедший? Или преступник?
– Никому я ничего не предлагаю, – отступил Шхунаев от моей кровати. – Вы как-то искаженно меня поняли. Я просто рассуждал, что мы, русские, все, как Христос, готовы на жертву. И война, и коллективизация это доказали.
– Христос на муку шел и страдал от этого, и не хотел, и все же решился. Это был Его выбор, – вся дрожала Кларина, но совиные перья топорщила. – И ничего хорошего он в своей крестной муке не видел. И Христу не жертвы угодны, а христианские деяния. Когда же в коллективизацию уничтожали миллионы невинных, разве это их выбор был. Их гнали, как баранов, на убой. Как язык-то у вас повернулся сравнить убиенных просто так, которые и подумать-то не успели, что с ними происходит, и поступок Богочеловека?!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































