Текст книги "Добрая фея короля Карла"
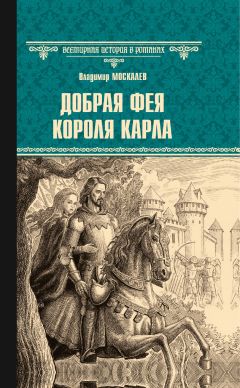
Автор книги: Владимир Москалев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Еретичка! Глас сатаны!..»
Едва он крикнул это, как солдаты схватили меня под руки и потащили из часовни. Конец, думаю, за такие речи – ну, про Христа-то, – на костер пошлют, у них это в два счета. Да спасибо, графиня заступилась. Махнула рукой:
«Оставьте ее! – Потом подошла ближе. – Со мной пока будешь».
Сильная дама, властная. Ни один перечить ей не посмел, даже попы. Сам архиепископ промолчал. Как вышли из часовни, спросила она, кто я такая. Узнав, сказала хозяйке, что забирает меня к себе, ей нужна камеристка. Затем прибавила, что я должна быть благодарной ей: она вырвала меня из когтей смерти.
На другой день крестная мать представила нового короля знатным людям – сама несла его, спеленатого, в сопровождении придворных, из спальни новорожденного. Показала – а он вдруг посинел весь, затрепыхался да и замер навеки минуту спустя. Двор вначале не понял, что произошло, потом в молчании застыл, точно гипсом залитый, – стоит и таращит глаза то на младенца, то на Маго. А та в ответ на эти взгляды с сокрушенным видом протяжно вздохнула и изрекла:
«На все воля Господа».
Я не сдержалась:
«Выходит, Богу угодно, чтобы младенец умер?»
Она пристально посмотрела на меня:
«Воистину так, милая».
– Святая Мария! Да ведь ты правду сказала тогда, в часовне! – воскликнула Эльза. – Это попы виновны! Не будь того, история Франции потекла бы в другое русло. Но вот вопрос: а не подстроено ли это было теми же попами? Что как получили они указания на этот счет?
Урсула молчала. Она и сама не раз думала об этом.
– А что же королева? Как она восприняла весть о смерти сына?
– Также узрела в этом Божью волю. Я расскажу тебе, ты еще узнаешь, что это такое, стоит ли молиться Богу, верить, уповать и вообще упоминать о Нем.
– Что же дальше стало с королевой-матерью? Выздоровела, умерла?
– Победила она болезнь. А дальше… Не знаю, но думаю, ей дали понять, что она никому уже здесь не нужна. История эта, кстати, породила опасные слухи. Поговаривали, будто младенца подменили и настоящий король жив, а того, подмененного, удавила графиня Маго, думая, что он настоящий. Только выдумки все это, на мой взгляд.
– Почему же? Разве ей не выгодна была эта смерть? Вдруг мальчик остался бы жив, несмотря на ледяную купель?
– По закону – если младенец король, то кормилица должна кормить только его одного, и за этим строго следили. О какой же подмене может идти речь? Откуда взялся в спальне второй ребенок? К тому же, представь, какое внимание уделяла эта Маго новорожденному, как это было важно для нее. Да его охраняли день и ночь! Могла ли в таких условиях произойти подмена? А если даже и так, – я повторяю: если, – то неужели графиня не увидела бы подлога, ведь наверняка она тщательным образом рассматривала младенца еще при родах.
– Значит, роды происходили при ком-то из знатных лиц?
– Обязательно. Королева рожала в присутствии как минимум двух пэров королевства. И еще хочу прибавить. В спальне новорожденного принца всегда находились четыре женщины: гувернантка, кормилица, нянька и горничная. Они давали клятву неусыпно следить за младенцем и ни от кого, кроме короля, не принимать никаких подарков. Поэтому подменить одного ребенка другим было просто невозможно. Узнай об этом один из слуг Маго – и всех четверых предали бы казни. Что касается загадочной смерти малютки…
– Да! Как ты думаешь, сам ли он умер или его придушила эта Маго?
– Не думаю, чтобы она отважилась на это, хотя такой высокопоставленной особе вряд ли кто решился бы предъявить обвинение в убийстве. Скорее всего, ребенок умер от простуды. И где только головы у этих святош! Ведь додуматься – окунуть младенца в ключевую воду! Все равно что в колодец. И не возразишь – все по закону, одобрено Церковью. Сколько умерло от этого принцесс и принцев, кто считал? Каждый король имел много детей, да около половины, а то и больше умирали в младенческом или детском возрасте.
– Для чего все же кому-либо вздумалось бы подменить дитя?
Урсула поразмыслила, покачав головой.
– Я уже говорила: королевский отпрыск был чахлым, бледным, прямо на ладан дышал. А у кормилицы, надо думать, был крепкий, здоровый малыш с розовыми щечками – такого и следовало показать вельможам, дабы исключить даже саму мысль о нехороших замыслах в связи с возможной смертью крошки. Человек, задумавший пойти на это, конечно же, не служил бы Маго.
– Мне понятно. И все же, она могла бы убить?
– Могла… Только как бы она это сделала, если за ней, когда она несла ребенка для показа, наблюдало столько глаз? Маловероятно, что она решилась бы в это время, скажем, воткнуть младенцу иголку в затылок или смазать ему губы тряпкой, пропитанной ядом. Но, как бы там ни было, малыш умер, и графиня Артуа сказала мне, чтобы я повсюду, где только можно, трезвонила о том, что малютка скончался от купания в ледяной воде. Сама, дескать, видела, есть свидетели. Потом она дала денег и отпустила меня: больше я ей была не нужна. На прощанье я расспросила ее о матери – где, мол, похоронена? – но она ничего о ней не слышала; но могут знать церковники. Однако она не советовала обращаться к ним: документы по этому делу находятся в церковных архивах, простым смертным доступ туда запрещен. Я понимала, что замок, как и мать, мне уже не вернуть, и все же отправилась туда. Местные жители сказали, что в замке живет придворный, кто-то из родни покойного Филиппа Красивого.
Что мне было делать без средств, без крыши над головой? В городе я увидела жонглеров, они пели и плясали на площади, мололи всякую чепуху, ходили колесом. Мне удалось поговорить с ними. Так я узнала, что неподалеку, в деревне пустуют дома. Я пошла туда и стала жить там; обзавелась хозяйством. Сборщики налогов записали меня в реестр как вилланку по имени Урсула. Таких, как я, немало было – ходили повсюду, искали хорошее место, работу.
Однажды поздним вечером ко мне в дом постучался странник, по виду дворянин. Я пустила его переночевать. Утром он заплатил и ушел; вскоре он вернулся, но уже не один. Его спутник показался мне знакомым, хотя маска и скрывала его лицо. Позже я узнала, что это был сам Карл Валуа, родной брат покойного Филиппа Красивого. Какое-то время они втихомолку совещались, потом ушли, пообещав вернуться. Спросили, не стану ли я возражать, если время от времени они будут устраивать у меня в доме свои собрания. Ну, мне-то что – ради бога, коли платят. Если бы знала я тогда, что это были за собрания! Вскоре все выяснилось. Однажды они, втроем, уселись за стол и подозвали меня. Я удивилась, но подошла. Тогда один из них сказал:
«Капетинги обидели тебя, но их век недолог. Придем мы и отомстим за обиды, вернем тебе замок, да еще и дадим хорошего мужа. Главное – держи язык за зубами».
Я обомлела: откуда им известно?.. Но все же поклялась молчать. На троне тогда сидел Карл Красавчик, последний сын Филиппа Четвертого. Уже позднее стало ясно, что все это время за мной пристально наблюдали люди графини Маго. Она, оказывается, узнала меня еще в часовне, но не подала вида, рассчитывая в дальнейшем каким-либо образом воспользоваться ситуацией. И этот час для нее настал.
После смерти Филиппа Пятого его брат внезапно принял сторону графа Робера, племянника Маго, с которым она вела многолетнюю тяжбу из-за графства Артуа. Этот Робер к тому времени подарил мой замок своему родственнику. И Маго решила отомстить – и Карлу, и Роберу. Хороша же месть старой графини – смена династии! Каким образом она разузнала все обо мне – до сих пор остается для меня загадкой. Непреложно одно: именно мой дом избрали для своих целей заговорщики, ибо в городе им собираться было небезопасно. Их цель ясна: низложение последнего Капетинга, Карла Четвертого. Но он был молод, хоть и слаб здоровьем; когда умрет, кому ведомо? И вскоре заговорщики открыли свои намерения: сказали, что нужен яд, а им известно, что я посвящена в тайны колдовской магии. Они действовали смело: для них я уже была их сообщницей. Отказаться нельзя: по их лицам я видела, что они решатся на убийство – уж очень много я знала. И я выполнила эту просьбу, дав необходимые инструкции. Я умела это делать, меня учила няня; должно быть, она призналась в этом на пытках.
Вскоре король Карл внезапно отдал богу душу. Яд был тому причиной или что иное – об этом знали лишь участники заговора. В тот же год Маго умерла, а ее племянник отбыл в Англию, чтобы уговорить короля начать войну против Франции, против Валуа, которые сели на престол и отняли у него графство Артуа. Ну а обо мне, конечно же, забыли; однако вспомнили через год: освободили от налогов. Я вновь пыталась узнать о матери. Нашли какого-то клирика, тот разыскал документ, где значилось, что мать была сожжена на костре как колдунья и пособница тамплиеров.
– А поместье? Его вернули?
– Если бы! Оказалось, английский король Эдуард объявил эти земли своей собственностью. Проклятый Робер! Это он отобрал у меня замок, и он же, уверена, помог развязать эту войну. Не надумай Маго в своей мести пойти против последнего Капета, возможно, ее племянник и не отплыл бы в Англию, и не началась бы эта бойня народов, которой не видно конца. И что она принесла? Голод, нищету, разруху и поражение французской армии. О, я знаю, как это случилось. Наше хваленое рыцарство оказалось совершенно бессильным перед простыми лучниками. Они побили этих бахвалов, как котят. Рыцарь хорош на турнире, когда показывает себя во всей красе стае самок, а стоило ему отправиться на войну – и вот он повержен, валяется на земле грудой железа, а простолюдины добивают его и делят его доспехи. Так было при Креси и Пуатье; догадываюсь, будет и дальше. Не ведаю только, что у нас сейчас, мир или война. Быть может, перемирие?
– Давно ли не ведаешь, мать Урсула?
– Три года уж не выхожу я из лесу: тяжело стало.
– Что же, так всегда одна и живешь?
– Не всегда… Двое их было; один – палач парижского суда. А до него я жила с вилланом; он рассказывал о Креси.
– Что же с ними обоими стало? Как вышло, что ты жила с одним, потом с другим? Там же, в деревне… или уже здесь?
Опустив голову, старуха долго молчала, вспоминая и, по всему видно, мысленно переживая вновь то, что довелось ей испытать много лет назад. Потом заговорила, мелко кивая в ответ на свои тяжелые, горькие думы:
– Около двадцати лет прошло с тех пор. Давно уже война началась: Креси, Кале, банды наемников. Но близ Парижа они пока не объявлялись, хозяйничали в Бретани и южнее Луары. Все эти годы я, считай, пробыла в лесу – он недалеко от деревни. Собирала ягоды, грибы, познавала тайны природы: наблюдала за растениями, лягушками, муравьями и научилась понимать язык цветов и трав. Я знала, когда ждать дождя, а когда нет, будет ли много снега зимой – к урожаю – либо наступит засуха. Собирала травы, сушила, варила их и умела лечить ту или иную болезнь; вспоминались уроки матери и няни. Люди вначале удивлялись и восхищались, но очень скоро восхищение перешло в подозрение, а оно породило зло и ненависть. Ведь лечить в деревне может лишь слуга Церкви, обращаясь к Богу. Как же он это делает? Очень просто: стоит над телом больного и читает молитвы. Сколько уж так людей умерло? Поняла я, что все это – глупость, по-иному не назвать, обыкновенная человеческая тупость и невежество.
Однажды – это было до чумы – у женщины из нашей деревни заболел ребенок, мальчик лет пяти. Она позвала священника, одарила его луком, яйцами, морковью. Тот стал бубнить молитвы и отгонять бесов. Когда отогнал, ушел. Но ребенку не становилось лучше. Снова пришел поп. Она дала ему полотна, чего-то еще из домашних изделий. А он, как и в прошлый раз, стал читать молитвы, прося Господа и целый сонм святых даровать выздоровление больному. На другой день мы все услышали отчаянный крик матери: ее ребенок умирал. Он уже почти не дышал, на губах и под глазами – синева. Я сразу поняла, что надо делать: принесла настой, дала выпить ему, растерла тело соком дурман-травы, раскрыла окна, дверь и сидела до тех пор, пока лицо у мальчика не порозовело, а сам он прямо на глазах ожил: открыл глаза, заговорил и протянул руки к матери. Вся в слезах, она бросилась к нему, а я потихоньку встала и ушла. Мальчик выздоровел, а женщина захотела отблагодарить меня, принесла свои последние монеты. Но я ничего не взяла – я и без того была рада, что моя наука помогла и ребенок остался жив.
А люди… Сколь же мерзок человек!.. И двух дней не прошло, как обо мне снова начали судачить. Причем как! Собирались кучками, косо поглядывая на мой дом, тыкали пальцами и шипели, что здесь живет ведьма, которая знается с сатаной. Как иначе могла она излечить дитя, ведь это может лишь один Господь Бог, которому надо усердно молиться. Стало быть, я не признаю Бога, и то, что сделала, – дело рук нечистого. Я потому и хожу в лес: там козлорогий искуситель обучает меня всему, что противно Церкви, и за это я продала ему свою душу… Так устроен человек: если он чего-то не понимает, значит, это «что-то» от дьявола. Этому учит Церковь. Всегда полезно иметь под рукой послушный, бессловесный скот, в данном случае – паству. Власть это только приветствует.
Словом, со мной перестали разговаривать, по-прежнему отворачивались, переходили на другую сторону улицы, когда я шла навстречу, а священник, завидев меня, чертил в воздухе крест за крестом. Ну, точно я прокаженная или отлученная от церкви. Стоило мне пройти, как за спиной тотчас слышались шептания, возмущения, даже угрозы в мой адрес. Как-то я сказала людям, чтобы они как можно скорее выходили в поле на сенокос: вот-вот польет дождь. Мне не поверили и обозвали ведьмой. Бог, мол, не позволит погубить их урожай, Он же видит, как им трудно живется. Но прошло совсем немного времени, и низринулся страшный ливень. Все поле полегло. Стали кричать, будто это я виновна, наслала дождь, ибо дьяволу захотелось сделать людям гадость. Меня так и подмывало ответить: «Что же, Бог слабее дьявола? Почему Он не смог помешать ему?..» А как-то я увидела, что люди во дворах развешивают белье. Я знала, что с минуты на минуту грянет буря, и сказала об этом. Они бросились на меня с кулаками, посыпались удары палками. Еле удалось уйти от них, а в спину мне неслось: «Проклятая ведьма! Колдунья! Чтоб ты сдохла, исчадие ада!» Вскоре вслед за этим поднялся сильный ветер, порвал веревки, унес белье. Деревья валил! И опять меня грозились убить: дескать, это я упросила своего приятеля сатану.
Я была в отчаянии. Так дальше продолжаться не могло. И вот однажды… В тот день я почувствовала, что надвигается беда. Откуда – этого я не могла понять, но сильно билось сердце, звало меня куда-то, даже ноги будто бы несли прочь из дома. Я посмотрела на лес; вот он, мой друг, который не обманет, не предаст, а всегда придет на помощь. И чувствую всей душой: туда мне надо, к другу, там я должна жить! Не здесь – там! Лес добрый, дарует жизнь, а тут ждет смерть. Там меня любят – деревья, цветы… а здесь ненавидят люди. Так зачем мне жить среди них? Надо – среди друзей. И снова почувствовала я: пора уходить. Причем немедленно! Беда грозит мне, коли не сделаю так, как подсказывает голос сердца!.. И тут, гляжу, идет ко мне та женщина, ребенка которой я спасла. «Соседка, беги из деревни! – стала она умолять. – Донос на тебя подал кюре. Слуги Церкви идут сюда, под стражу хотят взять. «Ведьма! Колдунья! – кричат люди. – Смерть ей! На костер ведьму!» Скоро они будут здесь. Беги же, и да будет с тобой Господь». И ушла, опасливо озираясь, боясь, что увидят ее.
Я быстро собрала кое-какие пожитки и только вышла было из дому, как поняла, что уже поздно. Вокруг дома – солдаты, а у крыльца стоят монахи со священником. Бросились на меня, заломили руки и хотели уже связать, но тут… и вправду, чувствовала я… Вырвался вдруг со стороны поля отряд всадников с мечами в руках и с криками ринулся на деревню – стали обирать людей, убивать, жечь дома. Я догадалась: наемники. Бич войны! И, судя по крикам, – англичане! Увидели они свиту церковную – и к ним, оружие забрать да поизмываться вволю: скучно им без дела, привыкли грабить, рубить. Началась свалка. Меня бросили, стали разбегаться кто куда, а всадники догоняли и безжалостно убивали всех без разбору. Священнику первому голову снесли, сорвали с него распятие, стали гоняться за другими. Вижу, одна я осталась, не замечают меня за стогом сена. Вот он, миг! И другого уже не будет. Не поздно еще, мгновения решают – жить или умереть. И садами, огородами бросилась я к лесу. Только там спасение. Он густой и такой родной! Разве может он выдать, не укрыть меня от банды убийц? И уже добежала, почти скрылась меж деревьев, как, гляжу – рядом кто-то со мной, тоже бежит. Узнала его: виллан из нашей деревни, не злобный, не одураченный попами; всегда, бывало, молчал, когда люди посылали проклятия на мою голову. Переглянулись мы с ним да и побежали дальше вдвоем, не разбирая дороги. Долго плутали, все опасались, нет ли погони – за мной, конечно: до женщин рутьеры весьма охочи. Но обошлось, никто не гнался; да и кому взбредет в голову лезть в такую глушь, откуда и не выбраться?
Выдохлись мы оба, остановились и думаем, что делать дальше. А стояли мы – не поверишь – на том самом месте, где сидим сейчас мы с тобой. Вот тогда и подумали: куда же еще и зачем? Смерть повсюду – не от голода, так от солдат; не от чумы, так от попов. И решили остаться здесь. На другой день пошли в деревню, чтобы взять топоры, косы, еще что-нибудь из утвари, годной в хозяйстве. Нашли все это и прихватили с собой. Жавель, помню, все удивлялся: как это я нахожу дорогу?
– А деревня?.. Подумать страшно.
– Ее как и не было: почти все дома сожжены да мертвые тела кругом. Кому посчастливилось – спасся. Я видела, как разбегались люди – по полям, по огородам. Их не преследовали. Зачем? Добычи никакой. Вернулись мы с Жавелем, мало-помалу очистили поляну, поставили дом, вот этот самый, да и стали жить… Женщину ту мне очень жалко было. Нашла ее… зарубленную. И почему не взяли с собой?.. Должно быть, бросилась на них с косой… да и вправду, лежала рядом коса-то… Поискала я глазами, а сына ее нет нигде. Что с ним сталось – никому не ведомо; может, забрали его рутьеры да и продали в рабство или в семью какую-либо. Такое бывает… А Жавеля – и двух лет не прошло – загрызли волки. Ушел на ночь глядя проверять силки… Уж как я не пускала его, будто чувствовала… Нашла далеко отсюда, на лугу, да и то лишь по шапке. Кости вокруг разгрызенные, а по голове так и не узнать; да силки на зайцев неподалеку…
Резаная Шея сомкнула губы, устав. Много сказано, и много пережито… Эльза сходила в дом, принесла воды. Напившись, какое-то время обе молчали, думая каждая о своем, не шевелясь, слушая, как шумит лес, поют птицы. Где-то далеко протяжно загудел колокол; умолк, потом снова…
Эльза не выдержала:
– А другой муж? Тот, что палач? Как с ним вышло?
Старуха протяжно вздохнула; поникли плечи. Зачем-то посмотрела в сторону тропы. Покачав головой, покивала мелко – и вновь тяжелый вздох:
– Бередишь ты мне душу и сердце, милая. Ну да быть тому, поведаю уж и об этом. – Внезапно она поглядела на небо. – Не успею, пожалуй, до дождя; поэтому коротко, без подробностей. Если потом как-нибудь… да хоть вечером. Напомнишь мне.
Эльза замерла, сгорая от любопытства: надо же – палач!..
– Случилось это в городе, я пошла туда за солью, сахаром… чем-то еще, не помню сейчас. Заячьи шкурки понесла на обмен. Смотрю, люди торопятся куда-то, текут по мосту рекой. Оказалось – на площадь Песчаного Берега[4]4
Гревская площадь – традиционное место казни; в иное время – площадь для торговли, прогулок.
[Закрыть], там сегодня казнь. Решила посмотреть. Спрашиваю женщину, что рядом, – кого, мол, казнят и за что? Она отвечает… ох, упаси господь, дочка, и тебе когда-либо услышать то, что она сказала в ответ. Сердце у меня едва не встало от ужаса: отец будет вешать своего сына… Каково?! Потом уж, на месте, узнала я… Отец – парижский палач мэтр Карон, а сын его приговорен к смерти…
И вот подъехала, колесами скрипя, позорная телега осужденных на казнь или тех, кто подвергался истязаниям и бичеванию. А в этой телеге молодой человек – красив, как бог Дионис, в белой рубашке, со светлыми кудрями, гордым взглядом. Его обвинили в убийстве сына богатого горожанина, имевшего полезные знакомства с именитыми людьми при дворе. Втроем они напали и жестоко избили этого сына, оказавшегося, как выяснилось позже, порядочным негодяем. Ведь что удумал, ирод! Была у сына палача… господи, как же его… забыла имя… вспомнила – Арно! Так вот, у него была невеста, а этот богатей с дружками ворвался к ней в дом и надругался над бедной девушкой. А потом и дружки его. Рот заткнули ей, чтобы не кричала. Сделав свое дело, ушли было, да она стала вопить, звать на помощь. Тогда они вернулись и продолжили, да так, что она еле жива осталась. Арно, узнав об этом, встретил этого богача и задал ему такую трепку, что отбил все внутри, а тот возьми да умри от побоев. Арно схватили, он стал объяснять, как было дело, но его не слушали; мало того, удавили его невесту, потом пытали самого – имена друзей хотели выведать – и приговорили к смерти. Это уж позднее узнала я обо всем этом, а нынче – что ж, казнят, стало быть, поделом. Да и все так думали. Но вот смотрю – отец; стоит у виселицы как истукан, весь в черном, красный капюшон у него на голове, а руки сложены крестом на груди. Стоит, молчит, недвижимый, как утес, а над головой у него петля висит… для сына… И вот он поднялся на эшафот, этот юноша, и смело посмотрел отцу в глаза…
На какое-то время Урсула замолчала, недвижно устремив взор в землю. Сердцем и глазами она видела эту сцену, помнила во всех деталях, словно произошло это не десять с лишним лет назад, а только вчера.
– Чувствовала я – что-то здесь не так, – продолжала она, – не мог этот красивый белокурый юноша с приятным лицом ни с того ни с сего стать убийцей. И не слышала я тогда, конечно, короткого разговора сына с отцом, видела только, как стоят они оба и что-то говорят друг другу. Вот что говорили они, как поведал мне о том вскоре сам палач.
«Прости, отец, – молвил Арно, – как прощаю я тебе мою смерть».
«Я люблю тебя больше жизни, – глухо обронил отец. – Зачем она мне теперь, после этого?.. А ведь я надеялся… мне обещали…»
«Не казни себя».
«А теперь я вынужден…»
«Это твоя работа».
«Я проклинаю ее, а потому не стану убийцей своего дитя!»
«Тебя уберут, поставят другого».
«Должно быть… но не я… своими руками…»
«Я умру с улыбкой, ибо смерть придет ко мне от человека, которого я любил больше Бога. Но я не виновен, отец. Знай, это была месть. А теперь делай свое дело, и пусть Бог воздаст неправому по заслугам его».
С этими словами юноша встал на табурет, а отец накинул ему на шею петлю. Еще мгновение и… Но тут закричали из толпы:
«Он невиновен! Правосудия! Лучше бы англичан вешали!»
«Невиновен! Правосудия!» – заревел, заволновался народ.
Кто-то из церковников подал знак палачу: кончай, мол. А он вдруг выхватил из-за пазухи нож и…
– …и убил сына?.. – вся трепеща, впилась глазами Эльза в старуху.
– Не таким уж он оказался медным лбом, девочка. Он перерезал веревку и быстро схватил два меча.
– Какие два меча?
– Они лежали вблизи, никто и не обратил на них внимания. Один он передал сыну, другой взял себе и крикнул:
«За мной, мой мальчик!»
Они прыгнули с эшафота прямо на латников и нырнули в толпу. Солдаты поначалу растерялись, потом кинулись за ними, но люди стояли плотной стеной, не пуская солдат и требуя справедливого суда. Алебарды, однако же, сделали свое дело, толпа нехотя расползлась, и за беглецами устремилась погоня. И тут люди закричали: «Убежище! Кольцо! Церковь Сен-Мерри!» Я, конечно, слышала об этом, но не видела такого кольца. Теперь поняла: достигнув Сен-Мерри и схватившись за кольцо, отец и сын станут под защиту церкви, их не посмеют тронуть. Но надолго ли? В толпе я услышала:
«Теперь они спасены. Жаль, у церкви Святого Духа нет кольца, а ведь это совсем рядом. А до Сен-Мерри им еще бежать…»
«Но куда потом? – спрашивали другие. – Домой к палачу, к Рыбному рынку? Это далеко. Пока дойдут, схватят и повесят обоих».
«Нельзя им оставаться в Париже. Надо ждать ночи, – говорили третьи. – Только бы не увидела ночная стража; а потом – вон из города, или смерть! Бедняга палач…»
«А молодец он-таки! Да и то сказать – собственного сына! Кумушки толкуют, он невиновен вовсе, но деньги делают всё. Королей стаскивали с тронов за деньги».
«Кого же теперь палачом-то?..»
Все это я слышала и решила, что должна помочь этим двоим. Гляжу, расходятся люди по своим делам. Значит, никто этого не сделает, кроме меня. Я почти бегом бросилась вслед за стражниками и увидела их у церкви; они стояли и беспомощно смотрели на отца и сына; оба держались за спасительное кольцо, вделанное в стену. Постояв, солдаты ушли. А беглецы остались один на один с этим кольцом. Похоже, они не знали, что делать дальше. Зато с улыбками глядели друг на друга. Уверена, оба продолжали бы улыбаться, если бы над их головами уже висел топор палача. Потом они посмотрели на меня; да и не на кого больше – поблизости ни души. Тогда я подошла и предложила им свой план: немного погодя, чуть прозвонит колокол к утренней мессе, пусть оба спешат к реке у рва Пюнье, что меж мостами, там я буду их ждать с лодкой… И тут я с опозданием подумала: у меня ведь нет денег! Кто же повезет бесплатно? Палач угадал мои мысли, снял с пальца кольцо с камешком и протянул мне. Я чуть не лишилась рассудка от удивления:
«Да на это можно купить всех лодочников вплоть до самого Ла-Манша!»
Он мне ответил на это:
«А разве наши жизни дешевле этого кольца?»
Словом, вышло так, как я задумала, и вскоре мы поплыли вниз по реке. Совсем немного уже оставалось до излучины и город остался позади, как вдруг с берега раздались крики. Я посмотрела туда и обомлела: стрелки натягивали луки, целясь в нас. Спасения не было; оставалось уповать на то, что стрелы пролетят мимо. Только я подумала так, как они засвистели вокруг нас; две или три ударили в борт, но нас не задела ни одна. Лодочник торопливо греб, молясь Богу, а мы легли на дно лодки; за нами лег и он: все одно нас несло течение. И тут Арно совершил глупость, а за ней другую. До сих пор не пойму, почему я не остановила его тогда. Он встал во весь рост и закричал:
«Хороши стрелки, нечего сказать! Если вы так же метили во врага при Креси, то неудивительно, что король проиграл битву».
Стрелы, утихнув было, вновь посыпались, а он стоял посреди лодки и всем своим видом бросал вызов смерти. А она уже подстерегала его, была совсем рядом. Словно почувствовав это, мы с отцом поспешно увлекли его вниз. Он послушно лег. Потом неожиданно поднялся и снова крикнул:
«Я не виновен! Знайте это все и скажите королю!»
Карон схватил его за руку, потащил на днище… да не успел. Арно продолжал кричать:
«Меня оклеветали, я всего лишь отомстил за свою…»
Он не договорил, охнул и упал прямо на меня. В груди у него торчала стрела. Это была последняя, остальные уже не могли нас достать. Отец бросился к сыну, весь белее мела, уставился на стрелу и дико вскричал… Я не слышала, чтобы люди могли так орать. Это был не крик – чудовищный рев! И вдруг он – кто бы мог подумать! – он, палач парижского суда, истязавший людей, вешавший их без жалости, отрубавший без сожаления головы, руки и ноги, – он заплакал. А потом мучительно зарыдал во весь голос. Нет – даже заревел, как раненый зверь! Я понимала его: на руках у него умирал сын. Тогда еще я не знала, что он у него единственный, другой погиб на войне, а мать умерла от болезни.
Арно бледнел на глазах. Я видела, как смерть уже подбирается к нему: белеют щеки, губы, тускнеет взгляд. Он и сам понимал, думаю, что это конец. Наверно, он очень сожалел, что погиб так нелепо. Его взор был устремлен… нет, не в небо: оно не спасло его, и он в ответ даже не пожелал вручить свою душу Богу. Он смотрел на отца, словно хотел унести с собой его образ. И я услышала:
«Они все-таки убили меня… Отец, мне так больно… Но это не стрела… Ты останешься один… совсем один. Ты так меня любил…»
Палач рванул на груди мантию, вцепился себе в волосы, выдрал клок и заметался в бессилии. Потом взялся за стрелу, попробовал вытащить… Арно издал мучительный стон. Снова попытка – и еще громче стон. Острие вошло глубоко. Но надо рвать. Пусть поранится кость, порвется мясо… но рвать. Хлынет кровь… много крови. Ах, если бы дома, я остановила бы ее и залечила рану. Но что я могла сделать здесь, в этой лодке?.. А отец уже достал нож, собираясь резать грудь сыну, чтобы достать стрелу.
«Оставь. Лучше уж так, – посоветовал лодочник. – Скоро причалим, донесешь до деревни, а там какой-никакой лекарь… Стрелу-то обломи, легче ему будет».
Миновав излучину, мы подошли к берегу. Отец на руках вынес сына из лодки, и мы пошли. Но от деревни осталось одно название: донельзя ограбленные, жители ушли отсюда. А на взгорье – лес. Мой родной! Брат мой… сын! Однако до дома не близко. Но надо идти, не остается ничего другого. И тогда подумали, что правильно сделали, не вынув острие: без конца хлестала бы кровь. Так и пошли, дочка… И нет слов у меня, чтобы выразить… высказать… сколько и как мы шли… А он нес его на руках… своего сына, живого еще… свою единственную и последнюю в жизни любовь… шел… и плакал…
И Урсула залилась слезами. Не удержалось сердце, слишком живо воссоздало оно в памяти ту картину. Забудешь разве?.. Поплакав, очистив нос, утерев слезы рукавом, она продолжала, то и дело горько вздыхая:
– До половины пути уже дошли мы, и ведь живой еще был Арно, слышала я, как стонет. И торопила, подгоняла мысленно и словами молча шагавшего рядом, с печальной ношей, отца: «Скорее! Ради всего святого, скорее! Уже немного осталось! Еще чуть пройти… Вот уже поляна, крыша, виден сад, огород… Ну еще, еще же! Только не умирай, сынок! Не дай смерти взять верх! А уж я мигом отгоню ее: зашепчу, заговорю, зацелую, слезами залью рану твою, и будешь живой и здоровый. Сыном станешь моим. Только не умирай! Ради бога, не умирай!!!»
А отец уже спотыкался, едва не падал, но шел, сжав зубы, с мольбой глядя на дом… И закричала я тогда:
«Господи, если Ты есть, услышь меня, не дай осиротеть отцу! Не отнимай у него дитя! Молю Тебя, Господи! Услышь! Помоги! Отгони смерть!..»
И Карон посылал мольбы – видела я: губы шевелятся, а глаза, все в слезах, устремлены в небо.
Наконец дошли. Вот он, дом! И кинулась я уже дверь открывать, бормоча благодарственную молитву… да так и застыла на пороге, обернувшись, даже крикнуть не смогла, кулаком рот заткнула… Не шел больше отец, стоял на коленях шагах в десяти от крыльца и, обняв сына за плечи и приподняв, смотрел в безжизненные уже глаза его. А изо рта у Арно ручьем хлестала кровь. Бросилась я к ним, пала у тела и успела увидеть только, как бьется оно в руках у отца, а глаза уже закатываются. Недолго билось, замерло вскоре, а голова бессильно откинулась назад, посинели ногти, а в лице – ни кровинки. И поняла я, что не успели мы… не услышал Бог мольбы мои и отца… или не захотел. Как же теперь молиться? Зачем, если в душе после всего, что случилось, одно – презрение к Нему! Ненависть!.. Так и сидела я с думами своими невеселыми. А отец все стоял на коленях и беззвучно плакал, прижимая к себе своего ребенка, уже начавшего холодеть, застывать…









































