Текст книги "Другие берега"
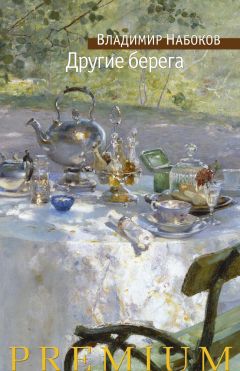
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера – за Пыхачевым, Нина – за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета – за князем Витгенштейном, Надежда – за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т. е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения – Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии – все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.
4Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник – ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, – до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.
Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то: «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском гошпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского Музея Естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг – с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, – увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта – в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.
Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, – все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend»[14]14
Вас ждут (фр.).
[Закрыть], – и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, – и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!» (как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы – это было в 1914 г. – когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, – сказал он, – можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien а vous dire»[15]15
Мне больше нечего вам сказать (фр.).
[Закрыть].
Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти – золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал – движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он – вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.
Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья – итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, вопящий какой-то, т. е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde – une feuille verte»[16]16
«Моему племяннику – самая прекрасная вещь в мире – зеленый листок» (фр.).
[Закрыть]. Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии – смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало – туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, – и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой – менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.
Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»[17]17
«Он рыдал» (фр.).
[Закрыть] – подумавши, ответил дядя). Он писал романсы – меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.
Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва – и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести – замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, – он вздыхал и говорил: «Je suis comme une[18]18
Я как (фр.).
[Закрыть] былинка в поле!» – с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.
Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы – совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, – с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой – когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.
От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения – если я правильно понимаю эти странные вещи – в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, – и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни – тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба – купленная им, собственно, для старшего, рано умершего, сына – была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины – и уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.
После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где – в шестидесяти верстах от Петербурга – расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим – наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигнешь наконец плотины водяной мельницы – и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.
6В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения:
«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».
И еще:
Выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моей вздыхать по северной России.
7Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял – да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности – уже терявшей свою первородную самоцветность, – чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно – точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди – «Octobre» – лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, – он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука – как звали его друзья-иностранцы – отдал мучительную дань осенним краскам – «chapelle ardente de feuilles aux tons violents»[19]19
«Часовня из огнецветных листьев» (фр.).
[Закрыть], как выпелось y него, – и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.
высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, – и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, – бархатный бюст, малиновые рукава, – и дядино канотье), ужасно жалобные и переливчатые звуки:
доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.
8Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы – еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки – уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя – пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое – черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.
На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот – и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудносовместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти, – и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!
А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Bibliothèque Rose». Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «Sophie n'était pas jolie…»[22]22
«Соня не была хороша собой…» (фр.)
[Закрыть]; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de château[23]23
Усадебная жизнь (фр.).
[Закрыть], на которую M-me de Ségur, née Rastopchine[24]24
Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (фр.).
[Закрыть] добросовестно перекладывала свое детство в России, – почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petites Filles Modèles», «Les Vacances»[25]25
«Сонины проказы», «Примерные девочки», «Каникулы» (фр.).
[Закрыть], тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи, – когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































