Текст книги "Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины"
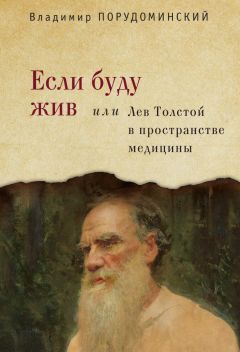
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 4
Лучше красоты
Весь – движение
«Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня…»
Это Бунин о том, как в молодости он, начинающий поэт и прозаик, впервые пришел к Толстому.
Быстрый – почти непременное определение, которое находим едва не у всех, кто пишет о Толстом: быстрый шаг.
Походка его при этом – весьма своеобразна: он легко идет, широко расставив в разные стороны носки и наступая сначала на пятку.
«Ходил он быстро и легко. Короткое пальто оставляло на виду его ноги, сильные, упругие и неутомимые», – одно из записанных впечатлений о встрече с ним.
Репин – он моложе Толстого на шестнадцать лет – признается, что еле поспевал за ним на прогулках. Точь-в-точь то же – «еле поспевал за ним» – в воспоминаниях навестившего Ясную Поляну японского поэта Токутоми Рока: он младше Льва Николаевича на сорок лет!
«Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! – заносит в дневник Александр Владимирович Жиркевич, военный юрист и литератор, ценимый Толстым как собеседник. Они только что пришли с прогулки, которая длилась почти без отдыха пять часов. – Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры… Во время прогулки Толстой несколько раз брал детей за руки и бежал с ними по лесу, по полю. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, поперек нее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам через них перескакивать и увлек в эту забаву и других. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся, сколько в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа».
Осень 1892-го – Толстому шестьдесят четыре.
Иван Алексеевич Бунин, вспоминая о Толстом (они встречались во второй половине 1890-х), обозначает его походку глаголом «бежать»: «Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним». И несколько лет спустя – на Арбате: «неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне».
О своей прогулке с Толстым (Лев Николаевич идет «здоровою, свежею, молодцеватою походкою») рассказывает в письме тотчас по возвращении из Ясной Поляны литературный критик Аким Львович Волынский: «Мы шли садом, перелезли через забор, перепрыгивали через рвы, причем Толстой в этих случаях всегда оказывался первым…».
И дальше:
«На обратном пути было холодно, и Толстой вдруг пустился быстрой рысью бежать по склону насыпи. Все побежали за ним, но Толстой бежал неутомимым, ровным, военным бегом, не нагибая головы, как очарованный гений Ясной Поляны».
Лето 1897-го – Льву Николаевичу без года семьдесят.
Это ощущение энергичной скорости, пробуждаемое Толстым в окружающих, может быть, наиболее точно понял зоркий умом писатель и философ Василий Васильевич Розанов. Он побывал в Ясной позже многих других, в 1907-м, – незадолго до толстовского восьмидесятилетия. Первое впечатление: «ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок». Но вот заговорил – мысли, точные, исполненные чувства слова ринулись потоком навстречу собеседнику:
«Я видел перед собою горящего человека с внутренним шумом… бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего». Впечатление энергии, скорости, от Толстого исходящее, воспроизводит его подвижный, стремительный, насыщенный внутренний мир: «Палкой, на которую он опирался, выходя из спаленки, он все время вертел, как франт, кругообразно, от уторопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне…»
Точный рисовальщик Пастернак передает движение Толстого, от картины к картине, по залам художественной выставки: «В блузе, заложив ладони за ремень кушака, своей особой походкой, точно скользя и едва поднимая над полом ноги, Толстой словно несся, приподняв голову и слегка поддаваясь вперед верхней частью туловища. Быстро, бодро и легко шел он, выражая собой одно устремление вперед».
И снова из письма Акима Волынского:
«Вдруг на крыльце появился Толстой… Меня поразили его сильные, быстрые движения. Одну секунду мне показалось, что он весь – движение: непередаваемое ощущение могучей и страстной жизненности, которая боится застоя, покоя и смерти…»
Я редко бывал так здоров
Трижды, в 1886-м, 1888-м и 1889-м годах, Толстой, выбрав себе нескольких попутчиков, отправляется пешком из Москвы в Ясную Поляну – около двухсот верст.
Конечно, это не только своего рода «физическое упражнение», хотя стремление двигаться, давать себе физическую нагрузку никогда не оставляет его. Тут еще и духовная потребность пройти самому по той жизни – сквозь ту жизнь, – которую он воспроизводит в своих творениях, глубже понять ее, набраться новых впечатлений.
Он не впервые пускается в дальний пеший путь: несколькими годами раньше, летом 1881-го, он, подобно сотням простых богомольцев, идет пешком в Оптину Пустынь.
«Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света», – пишет он о своем паломничестве.
В 1886-м Льву Николаевичу под шестьдесят, домашние, понятно, беспокоятся, не окажется ли ему во вред предпринятое путешествие. Но он без большого напряжения справляется с задачей. Главное же, общение с живой жизнью народа, погружение в нее одаривает его бесценным запасом мыслей и чувств, ощущений и наблюдений.
9 апреля, уже из Ясной (пришли на шестой день) пишет жене: «Осталось, как я и ожидал, одно из лучших воспоминаний в жизни. Здоровье сначала и до конца было лучше, чем в Москве, и превосходно. Трудностей никаких нет. Это точно как человек, который на суше бы вообразил, что он на острове, а кругом море. Так мы, сидя в городах, в наших условиях. А только пойдешь по этому морю – то это суша и прекрасная… Питались чаем, хлебом – и два раза щами и чувствовали себя бодрыми и здоровыми. Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно».
По прибытии пешком в Ясную Поляну весной 1888 года он серьезно и энергично подводит итог путешествия: «Уставать и даже очень сильно на воздухе весной, в путешествии или на пахоте есть положительное благо во всех отношениях, а обратное, т. е. отсутствие усталости труда, есть зло».
Гимнастика весело
В молодости и в зрелые годы Толстой поднимал одной рукой пять пудов – 80 килограммов. В армии, в артиллерийской бригаде, где служил, он оставил по себе память как силач: лежа на земле, он «выжимал», распрямляя руки, вставшего ему на ладони крепкого сложения мужчину, кого-нибудь из сослуживцев.
Сын писателя, Илья Львович, вспоминает, что, отдыхая в Самарских степях, Лев Николаевич любил участвовать в башкирской борьбе. Два человека садятся на землю друг против друга, упираются один ступнями в ступни другого, оба берутся за палку, и каждый тянет ее на себя, стараясь поставить противника на ноги. Отец, рассказывает Илья Львович, всех поднимал, «только русского старшину, в котором было около восьми пудов веса < 130 кг>, он перетянуть не мог».
Однажды, когда ему уже исполнилось восемьдесят, собравшиеся в Ясной Поляне затевают известное состязание: опершись локтем о стол и взявшись рука об руку, нужно пригнуть руку противника к столу. Лев Николаевич одолевает всех участников.
Толстой с юных лет любит гимнастику и увлеченно занимается ею. Дневники его молодости полнятся пометами о посещении гимнастических заведений. Отношение к занятиям по-толстовски вдумчивое – обозначается душевное состояние при выполнении упражнений, удовлетворение или недовольство собой: «Гимнастику делал неосновательно», «торопливо». Или: «В гимнастике тщеславие». И наоборот: «Пошел на гимнастику, очень был в духе», «гимнастика весело».
Приятель Толстого, поэт Афанасий Афанасьевич Фет свидетельствует: «Надо было видеть, с каким одушевлением оц, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня».
Один из мемуаристов – он был ребенком, когда Лев Николаевич, еще молодой, посещал их семейство, – именует его «профессором гимнастических упражнений»: «Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами…»
Позже, когда пойдут свои дети, он будет так же горячо и настойчиво следить за их развитием.
«Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: «Бежим наперегонки». И все мы бежим за ним», – читаем в воспоминаниях старшего сына Толстых, Сергея Львовича.
И то же у второго сына, Ильи: «Он обращал особенное внимание на наше физическое развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самодеятельность… Мы все, по очереди, должны были проделывать всякие трудные упражнения на параллелях, трапеции и кольцах… Когда собирались идти гулять или ехать верхом, папа никогда не ожидал тех, которые почему-либо опаздывали, а когда я отставал и плакал, он передразнивал меня: “меня не подождали”, а я ревел еще больше, злился и все-таки догонял. Слово неженка было у нас насмешкой, и не было ничего обиднее, чем когда папа называл кого-нибудь из нас неженкой».
Гимнастику он не оставляет до последнего года жизни. У него две пары гантелей – тяжелые и легкие. В семьдесят, покупает новые, чем-то его привлекшие гири. Николай Николаевич Гусев, его секретарь, рассказывает: семидесятилетний Лев Николаевич пощупал как-то его руку выше локтя, сказал: «Плохие мускулы!» Он произнес это с состраданием, упреком и молчаливым наставлением не пренебрегать развитием телесной силы.
За две недели до смерти (пять дней до ухода из Ясной Поляны) затевает придуманную им особенную гимнастику (заносит в дневник: «Совестно даже в дневнике признаться в своей глупости… Помолодеть, дурак, хочет»); выполняя, какое-то напряженное упражнение, опрокидывает на себя шкаф («то-то дурак 82-летний»).
Шестидесяти семи лет он приобретает велосипед и, хоть ему и совестно подчас, что предается «барской затее», с удовольствием на нем ездит: «очень люблю это движение».
Смолоду Толстой хорошо катается на коньках. Неслучайно, в самом начале «Анны Карениной» он отправляет приехавшего в Москву Левина на каток, где его почитают «первым русским конькобежцем»; служитель, помогая ему надеть коньки, успевает сказать, что после него «никого из господ мастеров нету». Толстой не оставляет коньки до глубокой старости – на восьмом десятке, разметав снег на залитом льдом дворе, еще разучивает неизвестные ему прежде фигуры.
В старости он плавает как двадцатилетний. Две версты от дома до купальни на реке Воронке проходит быстрым шагом; тотчас сбросив свою немудреную одежду, не остывая («все это предрассудки»), с текущими по телу обильными струями пота, одним прыжком бросается в холодную воду. Искупавшись, никогда не вытирается: капельки воды содержат кислород, объясняет он, и тело вбирает его порами…
Лесной царь
Крамской (а уж он-то, знаменитый портретист, перевидал на своем веку немало внешне и внутренне примечательных людей) говорил, что Толстой верхом на коне – самая красивая фигура мужчины, какую ему приходилось видеть в жизни.
Наездник Толстой отменный. Всю жизнь много ездит верхом. Его не страшит ни время года, ни сложность дороги.
Репин несколько раз сопутствует ему в прогулках верхом. Отъехав от дома, Толстой (ему – семьдесят девять!) круто – без всякой дороги – поворачивает к лесу и спускается в темный овраг:
«Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязала в сырой почве, под травой оврага; надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз… А впереди мой герой… с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса лавирует между ветками, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой».
Потом они мчатся стремглав по лесной дороге:
«Мой лесной царь… все быстрее наддает, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить… У меня даже все внутри захолонуло… Ведь перекладина ему по грудь. Лошадь летит… Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку. Слава Богу, не задел. Я за ним – даже по спине слегка ерзанула березка… Не скоро я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более двадцати…
С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился; съезжаю – но тише – и намереваюсь искать местечка переехать ручей вброд.
– А что, запнулись? – оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич. – Вы лучше перескочите разом…
У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом».
Покос
Тот, кто хоть раз прочитал «Анну Каренину», никогда не забудет описания чудесного жаркого летнего дня, когда Левин вместе с крестьянами косит луг. Первое побуждение взяться за работу у него, что называется, «от головы»: тяжелый труд успокаивает его, отвлекает от дурных мыслей.
«– Нужно физическое движенье, а то мой характер решительно портится, – подумал он и решился косить».
Но подсказки рассудка с каждой минутой косьбы, с каждым пройденным рядом все охотнее уступают место радости самого труда.
«Левин взял косу и стал примериваться… Тит <один из мужиков> освободил место, и Левин пошел за ним… Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на него взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно… Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решил просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить…
Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был дойден… несмотря на то, что пот градом катил по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, – ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит…
В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита…
Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты».
Такое невозможно написать, не изведав самому и этого маханья косой из последних сил, и пришедших ему на смену блаженных минут «правильной работы».
«Шестой день кошу траву с мужиками по целым дням и не могу вам описать – не удовольствие, но счастье, которое я при этом испытываю», – докладывает Толстой приятелю.
Коса, как важнейший рабочий инструмент, если угодно, как важнейший инструмент жизни, стоит в яснополянском кабинете «под сводами» рядом с письменным столом.
За тысячу верст от искусственного
«Какая это славная вещь – крестьянская работа! – убежденно говорит Лев Николаевич. – Ни один мускул не остается без упражнения! Иное дело – пахать, иное – косить, молотить, подавать. Везде упражняются разные мускулы».
Но физический труд для него – не просто телесный отдых, не развлечение после долгого неподвижного сидения за письменным столом, не забота о здоровье. Физический труд – душевная и духовная потребность, без удовлетворения которой он не в силах жить и без которой мы не в силах представить себе жизнь Льва Толстого.
«Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тера-туре и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю», – пишет Фету. Пишет – «возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела».
Потребность физического труда, убежденность в его необходимости делает такой труд непременным дополнением, а иногда и равноценной заменой труда творческого.
Как-то знакомый мужик, принимаясь вместе с ним за уборку копен, роняет по-своему, по-крестьянски, несколько свысока: «Для развлечения времени – можно». И, видимо, не доверяя способностям графа, предупреждает: «Это будет очень затруднительно». Копна достается в самом деле «затруднительная» – «тяжела возка и уборка», признается Толстой. «Я не переставая работал и очень устал. Не мог спать – руки ныли, но очень хорошо и телесно, и душевно». Не для развлечения!
Илья Львович замечает: со временем в отношении отца к физическому труду появляется «религиозная обязанность».
Вместе с дочерью Марией Львовной, Машей, верной его последовательницей, он строит избу для яснополянской вдовы Анисьи Копыловой, той самой, чье поле пахал шесть часов без отдыха. Сам копает землю, привозит солому, воду, сам месит глину, кладет стены. Для устройства потолка, притолоки, дверей и окон, правда, зовет плотника. Но печную работу опять же выполняет сам; особенно много времени и сил отнимает выделка сводов. Вдвоем с Машей изготовляют и соломенные щиты для крыши.
И здорово и весело
С 1881 года Толстой проводит зиму в Москве: сыновьям пора посещать гимназию, университет, старшую дочь нужно «вывозить в свет».
Он тяжело переживает разлуку с Ясной Поляной, с деревней. В городе, вдали от природы, среди ужасающей его, непривычной городской нищеты, когда со всех сторон с особенной резкостью бросаются в глаза противоречия, вся бессмысленность, все социальное зло так называемой «цивилизации», его, как никогда прежде, подавляет, мучает «торжествующее самоуверенное безумие окружающей жизни».
5 октября 1881-го заносит в дневник: «Прошел месяц – самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву… Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют».
Чтобы вернуть необходимое расположение духа, он после письменной работы в самой простой одежде отправляется на Воробьевы горы, где рабочие артели заготавливают на зиму для города топливо, наравне с мужиками пилит и колет дрова («Ему это и здорово и весело», – подтверждает Софья Андреевна).
«Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни и за обедом рассказывал нам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек <смен>, сколько они зарабатывают; и, конечно, он всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью», – вспоминает сын Илья Львович.
Но и дома он находит настоящее дело, которым рад себя загрузить. Софья Андреевна, вместе радуясь, что муж спокоен, весел, бодр, и недоуменно пожимая плечами, сообщает в письме о его московских привычках: «Всё новенькое что ни день. Встает в семь часов, темно. Качает на весь дом воду, везёт огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова, и колет, и складывает в сажень…»
Из письма к Ромену Роллану
Весной 1887 года двадцатилетний французский студент Ромен Роллан, будущий известный писатель, автор, в частности, книги «Жизнь Толстого», обращается к нему с письмом. К этому побуждает молодого человека «жгучее желание знать – знать, как жить». Ромен Роллан хочет постичь «нравственную основу вещей» и, кроме Толстого, не видит нравственного руководителя: «Кругом – только равнодушные, скептики, дилетанты, эгоисты».
Осенью того же года Толстой отправляет Ромену Роллану ответ, в котором много пишет о труде физическом и умственном (этот вопрос сильно волнует его корреспондента):
Вы спрашиваете, почему ручной труд является одним из существенных условий истинного счастья? Нужно ли добровольно лишать себя умственной деятельности, занятий науками и искусствами, которые кажутся нам несовместимыми с ручным трудом?
Я никогда не считал ручной труд самостоятельным принципом, я всегда считал его самым простым и естественным приложением нравственного принципа, – таким приложением, которое прежде всего представляется уму всякого искреннего человека.
Ручной труд в нашем развращенном обществе (в обществе так называемых образованных людей) является обязательным для нас единственно потому, что главный недостаток этого общества состоял и до сих пор состоит в освобождении себя от этого труда и в пользовании, без всякой взаимности, трудом бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам древнего мира.
Первым доказательством искренности людей, принадлежащих к этому обществу и исповедующих христианские, философские или гуманитарные принципы, является старание выйти, насколько возможно, из этого противоречия.
Самым простым и находящимся под рукой способом для достижения этого является прежде всего ручной труд, обращенный на заботы о своей личности. Я никогда не поверю искренности христианских, философских и гуманитарных убеждений человека, который заставляет служанку выносить его ночной горшок.
Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как можно больше самому служить другим. Требовать от других как можно меньше и давать другим как можно больше.
Пропитан воздухом и горячей кровью
«Самое уважаемое им – святое существо был: пахарь – плуг», – замечает Репин.
В 1887 году, тотчас по возвращении из Ясной Поляны, где видел и с натуры рисовал в альбоме Толстого пашущего, художник берется за картину – «Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне». Он хочет сделать «наглядно известным» этот значительный, серьезный и прекрасный факт из жизни Льва Николаевича: «Давно все знают из его исповеди, из множества всевозможных сообщений о нем… как он пилил дрова с поденщиками на Воробьевых горах; знают, как этот великий человек, засучив рукава, складывает печку бедной вдове; как он, вооруженный топором, строит сарай бедным… Давным-давно знают, как граф косит, пашет…» Желая с помощью кисти сделать факт наглядно известным, Репин работает над картиной-документом.
Но суть замысла, конечно, шире. Само название «Пахарь» – много крупнее, значительнее, чем документальное – «Л.Н. Толстой на пашне». Как живописца Репина увлекает, приводит в восторг исполненная достоинства и подлинной гармонии фигура пашущего Толстого. Но не меньше увлекает его страстная, деятельная тревога Толстого о происходящем в мире, его поиски смысла жизни. Не умильные разговоры о братстве людей, а постоянная мучительная жажда разделить с ними тяготы их жизни и труда.
Для тех, кто серьезно задумывается над поисками истины, кого не оставляет в покое жгучее желание знать – как жить, для тех фигура Толстого-пахаря становится воплощением образа крупнейшего духовного деятеля, занятого подготовкой почвы для нравственного учения, проповеди которого он посвящает без остатка свою жизнь…
Соединение духовного и телесного в физическом труде, неизменно увлекающем Толстого, точно и выразительно передает Репин в наброске статьи о нем:
«Он искал физических трудностей и любил преодолевать их; так он пахал, так он косил, так он складывал крестьянам печи (труд тяжелый: глина, сырость, жесткий кирпич) – все это он любил и геройски покорял себя труду – до святости индийского праведника.
Разумеется, такие упражнения развивали его тело и силу мускулов; сухожилия его сильно тянули все сростки костей, и это расширяло кости и делало все головки и ости костей очень выступающими…
От этих быстрых во всякую погоду движений цвет лица и рук его был пропитан воздухом и горячей кровью; глаза глядели зорко, и губы сжимались крепко и весело от торжества над преодолением опасностей. Это дает выражение силы деятельной, действенной».
Особо приподнятое настроение
В 1880–90-е годы, когда Толстой, начинает страстно проповедовать свое нравственное учение, зовет всех, кто слышит, вместе с ним уяснять смысл жизни, в эти годы, когда все больше людей хотят слышать его, когда Ясная Поляна становится местом паломничества (к этому времени относится и значительное число воспоминаний), рост Льва Толстого – 175 см, вес – 71,5 кг.
Как видим, выше среднего, но не высокий, крепко сбит, но не могуче тяжел. Соотношение роста и веса – вполне атлетическое.
Но его внутренний мир огромен, эта огромность внутреннего мира, величие личности определяют внешнее впечатление. Люди, готовясь к встрече с ним, заранее ожидают чего-то громадного, могучего – и обычно не обманываются в ожиданиях. Творческая, духовная мощь Толстого, его телесная энергия и сила, сливаясь воедино, создают образ, который его давний приятель, поэт Афанасий Афанасьевич Фет, обозначает словом богатырь.
Бунин передает смятение от первой встречи с вышедшим навстречу ему Толстым: «кто-то большой, седобородый».
Одним он кажется очень высоким, другим «довольно высокого роста», третьим «ниже ростом, чем я его представлял по портретам», четвертым и вовсе – невысоким. Но непременно – большим.
Большим – благодаря крепости его сложения, широким плечам. Большим – благодаря исходившему от него ощущению мощного характера, «независимости, уверенности и сокрушительной силы». Большим – благодаря той атмосфере, которая тотчас возникала в присутствии Толстого.
«Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет более места никаким низменным житейским интересам», – определяет Репин эту особенную – большую – «обуревающую» толстовскую атмосферу.
Осенью 1880 года в Москве Толстой впервые посещает мастерскую Репина.
«В моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло заревой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой седой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук.
Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой! Я хорошо знал только его портрет работы И.Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый…
Он чем-то потрясен, расстроен – в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния.
Мы сели к моему дубовому столу, и, казалось, он продолжал только развивать давно начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашем ко всем ужасам жизни… – мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так бессовестно нами порабощенным, и постоянно угнетаем их.
И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина.
На столе уже горела лампа, мрачное и таинственное предвестие дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне Страшного суда… Было и ново и жутко…»
На восьмом десятке тяжелая (самой тяжелая в его жизни) болезнь 1901–1902 годов, внешне сильно его согнет, состарит, – это в первый момент удивляет многих, кто знакомится с ним в его позднем возрасте.
«Вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека…» – рассказывает Куприн, встретивший Толстого тотчас по выздоровлении, в Крыму, на палубе парохода.
Но проходит несколько минут, Лев Николаевич отправляется пройтись по судну, туда, где ютится не имеющая места в каютах беднота, и перед взором удивленного Куприна вместо осторожного старичка совсем иной образ:
«Он шел как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: “Се бо идет царь славы”… И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, – это власть творческого гения…»
В воспоминаниях о последних годах жизни Толстого определение «большой» нередко сменяется на удивленное – в первую минуту – «маленький»; но только – в первую минуту и затем только, чтобы с несравнимо большим удивлением открыть тут же, какая огромность мира живет, действует в этом маленьком стариковском теле.
И об этом хорошо написано у Василия Васильевича Розанова, чутко схватывавшего эту как бы лепящую внешнее внутреннюю сущность. Первое обескураживающее впечатление: «Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста – по портретам и оттого, что он – “Альпы”… Но маленький старичок начинает говорить, точнее мыслить вслух…» И: «Я вижу точно то, что и ожидал, – феномен природы – “Альпы”».
Максим Горький в месяцы «крымского сидения» часто навещает больного Толстого. Он видится Горькому то «странником с палочкой», то – серым, лохматым, в белой войлочной шляпе, верхом на маленькой татарской лошадке – похожим на гнома. Но странник он из тех, которые всю жизнь меряют землю. И гном в мягкой шляпе «грибом» на своей маленькой лошадке, как нож сквозь масло, не свернув с пути, проезжает среди членов императорской фамилии, загородивших было ему узкую дорогу своими рысаками и дрожками.
В известных заметках-воспоминаниях Горького выразительный набросок портрета, сценка, наскоро подсмотренная со стороны: «Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски, – трубой – сложив губы, насвистывал неумело…»
Маленький, и губы по-детски, и свистит неумело, и все-таки – Саваоф!..
К горлу его подступают слезы
В детстве он часто плакал. Домашние подразнивали его – «Лева-рева», братья обзывали «девчонкой».
Он никогда, или почти никогда, не плачет от боли. Он проливает слезы жалости, умиления, восторга, «беспредельной потребности любви» (его слова). Это в нем останется на всю жизнь: встревоженная душа отзывается на волнение, на впечатление, радостное и горестное, слезами.
Музыка особенно трогает его – всегда и сильно. Если музыка нравится ему, он невольно всхлипывает, не может сдержать рыдания. «Чего хочет от меня эта музыка?» – повторяет он, почти страдая. О том же с мучительной страстью говорит герой «Крейцеровой сонаты»: «Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?»









































