Текст книги "Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины"
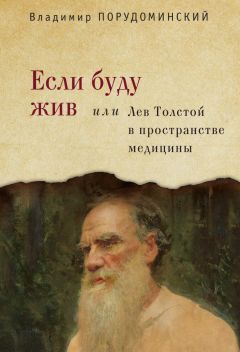
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Петр Ильич Чайковский признается, что ни разу в жизни не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как в тот момент, когда на концерте при исполнении анданте его Первого квартета Толстой залился слезами. Толстой часто плачет, читая или слушая чтение. Некоторые сочинения, сколько бы ни возвращался к ним, всякий раз заново глубоко его волнуют. Среди них рассказ Чехова – «Душечка». В 1899 году, когда рассказ только увидел свет, Толстой четыре вечера подряд читает его вслух, не в силах сдержать чувства, которые возбуждает в нем это произведение. И после снова и снова возвращается к «Душечке». В 1906 году, уже после смерти Чехова, он пишет послесловие к рассказу, объясняя то главное, что, по его мнению, желая того или нет, сказал автор.
В дневнике пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера есть страничка о том, как Толстой читал ему стихотворение Тютчева «Тени сизые сместились», стихотворение, глубоко лирическое и философское одновременно:
«Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «все во мне и я во всем», голос его оборвался».
Он не умеет спокойно принимать разговоры, знакомиться даже с обычными газетными сообщениями о творимых в мире несправедливостях, жестокостях. Татьяна Львовна очень точно замечает, что у отца норма получаемых впечатлений намного превышала обычную. Заносит, например, в дневник, что нашел в журнале статью с иллюстрациями о мучениях заключенных в французских дисциплинарных батальонах, и «разрыдался от жалости и к тем, которые страдают, и больше к тем, которые обманывают и развращают».
И залился смехом
Зато и смеется Толстой как мало кто другой. Репин прямо убежден, что никогда в жизни не встречал более заразительно смеющегося человека. Это определение «заразительный» находим почти у всех, кто вспоминает толстовский смех.
У Гольденвейзера, например: «Смеялся Лев Николаевич детским, заразительным, необыкновенно искренним смехом, но смеялся довольно редко». Еще одно повторяемое обозначение толстовского смеха – детский.
Горький вспоминает: за завтраком Лев Николаевич повторил шутку, которую только что услышал от навестивших его мужиков, – «и залился детским смехом, так и трепещет весь». И у него же – как рассказывал Толстому забавную историю из собственной жизни: «Он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько…»
Человек, который краснеет
Герои Толстого краснеют очень часто. Вспыхивают, багровеют, кровь бросается им в лицо.
Герои Толстого краснеют от стыда, или, мягче, от смущения, от того, что человек увидел в своей душе нечто, чего не хотел бы увидеть, или страшится, что это, пусть неосновательно, могли увидеть в ней другие.
Толстой придает исключительное значение способности человека краснеть. «Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, – всё может», – пишет он в пору работы над «Войной и миром».
В «Войне и мире» неизмеримо больше других краснеют Пьер, Наташа, Николай Ростов, княжна Марья. Князь Андрей впервые неожиданно краснеет, когда его любовь к Наташе становится для него счастливым открытием. Толстой пишет – и это очень важно для уяснения его собственного к этому отношения: «Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа».
Самые «краснеющие» в «Анне Карениной»: сама Анна, Левин, Кити, – конечно, самые совестливые и сомневающиеся. Только знакомя нас с Анной, Толстой замечает одобрительно: «Анна имела способность краснеть». Левин, по свидетельству близких, столь похожий на автора, краснеет беспрестанно. Опять же при первом его появлении Толстой отмечает, что краснеет он «не так, как краснеют взрослые люди… но так, как краснеют мальчики… вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез».
Лучше красоты
Всматриваясь в портрет Пушкина, Толстой сказал однажды: «Экое прекрасное лицо!» Пушкин писал о себе: «Потомок негров безобразный»…
Лев Николаевич с малолетства знал, что нехорош собою.
В «Детстве» maman старается найти в лице сына привлекательные черты – умные глаза, приятную улыбку, – но наконец, уступает мнению отца, что мальчик дурен: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть добрым и умным мальчиком».
Сцена вымышлена, матери, мы знаем, Лев Николаевич не помнит, но здесь, без сомнения, нашло место какое-то подлинное воспоминание (в заготовках к несостоявшейся автобиографии Толстой также особо помечает свою «дурноту»). Трилогия – «Детство», «Отрочество», «Юность» – (при фактических расхождениях с действительностью, по глубинной своей сущности, конечно, автобиографическая) пронизана страданиями героя-рассказчика, сознающего свою некрасивость, – такое вряд ли случайно.
В «Отрочестве» Толстой напишет, что убеждение в собственной уродливости сильно отразилось на формировании его натуры, напишет крайне резко – рассказчик еще молод, говорит о наболевшем: «Ничто (!) не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее».
«Я… по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим», – читаем там же, в «Отрочестве». «Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа, и я вполне верю в это».
Точнее: хотел бы «вполне верить», но, признается дальше, разглядывая себя в зеркало, всякий раз отходит с тяжелым чувством уныния и даже отвращения: «Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было – самые обыкновенные, грубые и дурные черты: глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше, несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие руки и ноги; а это в то время мне казалось очень стыдно».
Не раз замечено – да и нетрудно заметить, сопоставляя портреты и фотографии разных лет, – что Толстой с годами «становится красивее». Так оно и было, конечно, так и должно быть: отроческое разглядывание себя в зеркале, уступает место все более проницательному, вдумчивому всматриванию в свой внутренний мир и мир вокруг. Перефразируя приведенные слова Толстого, читая их «с другой стороны», можно сказать, что направление его жизни, внутренняя, духовная работа, которой он постоянно занят с юных лет и до последней своей минуты, разительно влияют на его наружность.
Но близким людям не нужно дожидаться его старения, чтобы сознавать конечный результат. По прекрасно точной формуле Александры Андреевны Толстой: некрасивое его лицо было лучше красоты.
Другие покажутся скучны
Трудно найти в России человека (и в мире таких немного), который не знал бы его лица. Лицо Толстого сопровождает нас на протяжении всей жизни, сделалось частью нашего духовного бытия, даже быта.
Его портреты писали, рисовали, лепили многие художники.
Но никто из них не одарил нас таким количеством живописных и графических изображений Толстого, как Репин. Два с лишним десятилетия всматривается художник в его лицо, стараясь «охватить необъятное» и запечатлеть при этом изменения, которые вносят в образ различные душевные состояния, события и перемены во внешней и внутренней жизни, само время. Поэтому так дороги и черты словесного портрета Толстого, оставленного Репиным (неслучайно к его текстам приходится то и дело обращаться), тем более, что слово у него по-своему не отстает от кисти и карандаша – свежее, точное, выразительное.
«Вырубленный задорно топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд грубых, простых черт, все другие покажутся скучны», – начинает Репин.
С репинским «задорным топором» перекликается смелое суждение другого пытливого наблюдателя – американского журналиста Джорджа Кеннана, изучавшего в Сибири жизнь ссыльных; путешествуя по России, он навестил Ясную Поляну: «Черты графа Толстого лучше всего определить словами тосканцев: сформовано кулаком и отполировано мотыгой».
«Превосходный образец для френологии: выпуклости на черепе», – помечает Репин. И называет особенные возвышения на лбу, темени и затылке. (Согласно данным френологии, сторонники которой полагали, что по строению черепа можно узнать душевные особенности человека, такие возвышения являются признаками религиозности, высшего разума, страстей.)
Сильное, зримое устройство толстовского черепа, с выпуклыми лобными костями, обращало на себя внимание, но когда скульптор Наум Львович Аронсон, исполняя бюст Толстого, особенно сосредоточенно вылепил мощный лоб мыслителя, Лев Николаевич отозвался критически: «Мне кажется, что умственность преувеличена – выпуклый лоб».
Репин особым пунктом ставит: надбровные дуги. Черта схвачена многими, описавшими облик Толстого, но без репинской анатомической точности. Обычно пишут по-житейски – о небольших глазах, глубоко спрятанных под нависшими, густыми, энергично сдвигавшимися, даже суровыми бровями.
«Большие низко поставленные уши», – тоже точное репинское наблюдение.
«Цвет толстой кожи – терракоты», – опять же у Репина. Очень хорошо, образно найдено обозначение цвета: помимо прямого перевода с итальянского (terra cota – «обожженная глина»), «терра» (terra) по-латыни – земля, главное, дорогое для Толстого понятие. Американец Кеннан пишет о «мужественном лице, глубоко прокаленном солнцем полей».
Репин находит особую привлекательность, аристократическое благородство в рисунке толстовского рта. «Широкий рот очерчивался смело, энергично, углы тонко извивались, прячась под львиными усами. Середина губ так плотно и красиво сжималась, хотя и мягко: их хотелось расцеловать. Очертание всего рта было классически прекрасно. Выдающийся подбородок…»
Большой нос, своеобразно расширенный книзу, полные, плотно сжатые губы остаются в памяти и Джорджа Кеннана. «А подбородок и скулы, – продолжает он, – насколько они проглядывают сквозь густую седую бороду, лишь подчеркивают выразительную мужскую силу, отличающую его широкое, изборожденное морщинами лицо».
Зоркий американский журналист и путешественник провел в Ясной Поляне всего один день, но увидел многое. Строки, завершающие набросанный им портрет, открывают во внешности Толстого то главное, о чем поведала друг всей его жизни Александра Андреевна: «В лице графа Толстого есть нечто более прекрасное и более высокое, чем простая красота или правильность черт. Это впечатление глубокой моральной, духовной и физической силы».
«Луна подняла мена кверху»
С луной и светом луны у Толстого отношения особые. «Ночь удивительная… Луна за березами и коростель». «Нельзя уйти с балкона до 12. Ночь с луной перевернутой – черная, коростели везде».
Он полагает, что свет луны возбуждает мир наших ощущений. На него самого во всяком случае сильно действует. Тревожит, пробуждает к деятельной жизни – и, наоборот, успокаивает, помогает почувствовать гармонию мира, а себя – одной из бесконечных частиц его.
Мир, залитый лунным светом, – это иной, волшебный мир, который дарит человеку чувство внутреннего преображения, помогает ему открыть в себе новые духовные силы. Неслучайно луна, лунный свет появляются на страницах его дневника, оказываются важной, иногда по-своему решающей подробностью в его сочинениях.
Весной 1857 года он, впервые путешествуя за границей, до расстройства нервов измученный парижскими впечатлениями – бесчеловечной жестокостью того, что восторженно именуют «прогрессом», нравственной грязью, потрясшим его зрелищем смертной казни, бежит из Парижа в поисках тишины, покоя, природы, простоты и ясности жизни. «Скучно в железной дороге. Но зато, пересев в дилижанс ночью, полная луна… Все выскочило, залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренне опять благодарил Бога за то, что живу».
Через несколько месяцев уже в Германии, в Штутгарте, напряженной, бессонной ночью, заполненной тревожащими мыслями и замыслами, к нему приходит вдруг ясное решение, во многом определившее его жизнь: «Увидел месяц отлично справа. Главное – сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде. Главное, вечная деятельность».
В июне 1863-го, вовсе поразительная дневниковая запись: «Нынче луна подняла меня кверху, но как, этого никто не знает. Недаром я думал сегодня, что такой же закон тяготенья, как материи к земле, существует для того, что мы называем духом, к духовному солнцу».
Речь здесь, конечно, не об одних литературных занятиях. Еще года не прошло после женитьбы. Резкая перемена в привычном течении жизни, необходимость заботиться о благополучии будущей растущей семьи (вот-вот появится первенец), занятия хозяйством, затянувшиеся творческие искания – все это тяжело отражается на душевном состоянии Толстого: «Все это было тяжелое для меня время физического и оттого ли, или само собой, нравственного тяжелого и безнадежного сна… Я думал, и что стареюсь, и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои – деньги или пошлое благосостояние…»
«Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю»… Это – несколькими строками выше приведенной записи. А следом о том, что «безумная ночь вдруг подняла меня на старую высоту правды и силы»…
Но высота правды и силы – это и открывшаяся ясность будущей литературной работы, которой он уже не в силах не отдать всего себя. Начинаются первые подступы к «Войне и миру»: «Завтра пишу… В третий раз сажусь писать… Господи, помилуй и помоги мне».
Его глаза
Когда художник Николай Николаевич Ге написал портрет Толстого за письменным столом, Софья Андреевна посетовала: жаль, голова опущена и глаз нет – «все выражение у Левочки в глазах». Сергей Львович спорит с матерью – считает портрет работы Ге лучшим «по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза».
Ге, выполняя портрет, решал свою задачу и решил ее глубоко и сильно. Но примечательно, что несовпадение суждений о портрете касается именно глаз. Едва не во всяком свидетельстве современников, встречавшихся с Толстым, даже если речь менее всего о наружности, так или иначе, непременно появляются особенные толстовские глаза. «Все выражение у Левочки», действительно, в глазах. «В них как бы сконцентрировались все яркие особенности толстовской личности. И кто не видел, как вспыхивают и загораются эти глаза, как они приобретают вдруг какой-то сверлящий и пронизывающий характер, тот не может иметь полного представления о личности Л.Н. Толстого», – еще при его жизни замечает один из первых биографов писателя П.А. Сергеенко.
Однажды никому неведомый псаломщик, после беседы с Толстым сказал: «Глаза у Льва Николаевича хорошие. Когда его слушаешь, хочется дальше слушать». Необыкновенно точно схвачено: убедительность толстовской речи не только в словах – в глазах.
Глаза Толстого, в зависимости от содержания беседы вообще, от того, что он говорит, делает и т. д., вспоминаются мемуаристам «суровыми», «острыми», «колючими» и, наоборот, «добрыми», «мягкими», «веселыми». Но, наверно, самое частое определение – проницательные.
Проницательность Толстого – в его поразительной способности проникнуть во внутренний мир человека, который находится перед ним, с которым он общается, понять самые тайные побуждения, которые человек порой пытается скрыть, даже успешно скрывает от самого себя. Один из посетителей после разговора с хозяином Ясной Поляны метко обозначил свое состояние: перед Львом Николаевичем он «чувствовал себя совершенно стеклянным».
Но при этом Толстой умел не выказывать собеседнику своей проницательности как превосходства. «Мне всегда казалось, когда я смотрел ему в глаза, что он знает все, что я думаю, и при этом старается скрыть эту свою способность проникновения», – пишет Репин, много и откровенно беседовавший с Толстым. И прибавляет: «Да, это была самая деликатнейшая натура».
«Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает, – вспоминает детство старший сын писателя. – Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, – а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, – я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось».
И еще одно свидетельство человека, который сам обладал огромным дарованием вглядываться в людей, улавливать диалектику их души и тела и потом воспроизводить ее, но не на бумаге, а в сценическом действии, – портрет, написанный великим артистом и режиссером Константином Сергеевичем Станиславским:
«Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или холсте глаза Л.Н. Толстого, которые пронизывали душу и словно зондировали ее! Это были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, то становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал всё, что было в нем скрытого – хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили».
Глава 5
Верьте себе
Мне хочется свободы
Вспомним первое и самое сильное впечатление жизни Толстого: его пеленают, связывают. «Мне хочется свободы, и меня мучают».
Стариком, перебирая в памяти впечатления детства, он назовет еще одно, на сторонний взгляд, не стоящее внимания, но вот, оказывается, всю жизнь не давало покоя: какой-то заезжий родственник «хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться…»
Еще ребенок, он видится окружающим «чудаком» и «оригиналом». Он, например, входит в залу спиной вперед и кланяется, откидывая назад голову. О том, что это не просто шалость, а нечто существенное (принцип, протест!) свидетельствует особая помета к позднейшим материалам для автобиографии: «Кланяться задом».
В конечном счете (можно и так взглянуть) «Детство» – первое завершенное произведение Толстого, повесть о том, как насилие (переезд отца с сыновьями из деревни в Москву, затеянный им ради удовлетворения собственных прихотей) оборачивает трагедией, убивает «счастливую невозвратимую пору детства».
Теме насилия над ребенком – истории о том, как гувернер-француз пытается высечь мальчика – отданы центральные главы следующей повести трилогии – «Отрочества». Здесь весьма сходно передано событие из жизни самого автора. «И я испытал, – с детским содроганием будет вспоминать Толстой-старик, – ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St.Thomas <имя гувернера>, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною».
Одна из самых ранних публицистических работ Толстого, еще в 50-е годы, – статья о насилии: «Во все времена, на всех местностях земного шара, между людьми повторяется один и тот же непостижимый факт: власть, закон, сила, людская же сила, заставляет людей жить противно своим желаниям и потребностям».
И не хочет и не может
Семинарист Поплонский, приглашенный помочь трем младшим братьям Толстым подготовиться к поступлению в университет, оставляет в «классной ведомости» характеристику способностей к учению и прилежания своих воспитанников: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может <«Это была неправда», – пометит позже Лев Николаевич>, Лев и не хочет и не может» <«Я думаю, что это была совершенная правда», – тоже позднейшая пометка Льва Николаевича>.
Братья поступают в Казанский университет. Сергей и Дмитрий, по примеру старшего, Николая, идут на математический, Лев выбирает факультет восточных языков. Может быть, даже скорей всего, при его интересе к математике, потому и выбирает, чтобы не подражать, не следовать даже старшему брату и любимому другу, чтобы не «как другие».
По собственному признанию Толстого, к университету он готовился «поневоле и неохотно». На приемных экзаменах: оценки – поразительные: нет средних. Безнадежно провалил все четыре экзамена по разным разделам истории, оба по географии, общей и русской, и рядом – очень хорошие оценки по математике, по всем языкам, кроме латыни. Все, что освоено для себя им самим, освоено быстро и отлично. Но общий итог не в его пользу: «принятия в университет не удостоен».
Он добивается переэкзаменовок, осенью 1844-го 16-летний Лев Толстой – студент Казанского университета. Осенью 1845-го он переводится с восточного факультета на юридический. Еще через год и семь месяцев, весной 1847-го, не выказав особых успехов в учении, вообще подает прошение об увольнении из университета. Лев Николаевич – единственный из четырех братьев Толстых, не получивший высшего образования.
Некоторые преподаватели находят в нем способности, но он не в силах заучивать, а затем повторять то, что сам не осмыслил, не уяснил. В поисках биографии для Нехлюдова, героя «Воскресения», Толстой в черновой рукописи романа напишет: Нехлюдов потому по своей воле вышел из университета, что «выучивание лекций о предметах, которые не решены, и пересказывание этого на экзаменах не только бесполезно, но унизительно». Унизительно! Разговор все о том же – о насилии. О насилии в образовании: не в образовании школьном или высшем (об этом Толстой тоже не раз будет говорить, писать, спорить) – в образовании личности.
Семинарист Поплонский в самом деле вывел о своем ученике Льве «совершенную правду»: и не может и не хочет. Не может учиться тому, чего не хочет, и не хочет учиться тому, чего не может освоить, потому что предметы эти им самим не обдуманы, «не решены».
Это у него до конца дней.
В старости, подводя итоги, он скажет: «Я всю жизнь учился и не перестаю учиться, и вот что я заметил, ученье только тогда плодотворно, когда отвечает каким-нибудь моим запросам».
Зимой 1870-го – уже напечатана «Война и мир» – Лев Николаевич, в ответ на свои «запросы», решает изучать древнегреческий. Через две недели («невероятно и ни на что не похоже» – не без гордости докладывает Фету) уже прочитал без словаря Ксенофонта, читает Гомера. «Живу весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески». Софья Андреевна пишет с некоторым неодобрением: «Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот».
Десятилетие с лишком спустя, осенью 1882-го (ему пятьдесят четыре), берется за древнееврейский. Язык необходим для исследования Библии. Ученый раввин, его наставник, поражается быстроте и глубине освоения материала Толстым. Жена опять недовольна: «Левочка – увы! – направил все свои силы на изучение еврейского языка, и ничего его больше не занимает и не интересует. Нет, видно, конец его литературной деятельности, а очень мне это жаль».
Литературной деятельности – не конец. Впереди – «Холстомер» и «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», «Воскресенье» и «Хаджи-Мурат». Но у Софьи Андреевны для него свой план жизни. А для Толстого с детства мучительно, когда его «насильно втискивают» в чужие, не им самим выношенные и выболевшие планы.
Музыкант А.Б. Гольденвейзер заносит в дневник 1 февраля 1901-го: «Лев Николаевич начал месяца два-три назад учиться голландскому языку, а сейчас уже довольно свободно читает, – это на семьдесят третьем году!»
В связи с выходом из университета он вынужден явиться для беседы к управляющему Казанским учебным округом. Управляющий «очень тогда хорошо со мной говорил, – полвека спустя вспомнит об этой беседе Лев Николаевич, – жалел, что мои университетские занятия так плохо удались, говорил: “было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли применения”. В чем он тогда мог видеть мои способности, уж не знаю». А вот смог, увидел! Правда и управляющий – необыкновенный, не обыкновенного ума и взгляда человек: Лобачевский – великий математик!
Видел и слышал великие истины
Тетенька Т.А. Ергольская свидетельствует с пристрастным вниманием человека любящего: «Л. – непонятное существо, обладающее странным характером ума… Он думает только о том, как углубиться в тайны человеческого существования, и чувствует себя счастливым и довольным только тогда, когда встречает человека, расположенного выслушивать его идеи, которые он развивает с бесконечной страстностью».
Об этом он и сам говорит в «Отрочестве: «Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, – так они были несообразны с моим возрастом и положением…Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему…»
Лето 1845 года он проводит вдвоем с тетенькой в Ясной Поляне. Недавний юный завсегдатай гостиных казанского «высшего света», он вдруг внешне «опрощается»: туфли на босу ногу, парусиновый халат, сшитый по собственному покрою, – днем он носит его и дома и на улице, ночью халат служит ему простыней и одеялом.
В то лето в Ясной он читает философские труды, сам излагает свои суждения на бумаге, но всего больше – думает, напряженно, страстно, во всем стараясь дойти до оснований, до корней, до сердцевины, по слову поэта. «В голове моей происходила горячечная усиленная работа», – после расскажет он об этом лете 1845-го.
Часто от наплыва мыслей он не мог заснуть, вставал с постели, шагал из угла в угол по комнате, выходил на балкон, влезал на крышу, ум его действовал, не переставая, «с страстностью молодости»; наконец, он засыпал, но и во сне «видел и слышал великие новые истины и правила».
Верьте себе
В «Отрочестве», поведав о напряженной работе «детского слабого ума», Толстой заключает, что мысли эти представлялись его уму с такою ясностью и поразительностью, что он воображал даже, будто первый открывает такие великие и полезные истины.
Н.Н. Гусев, секретарь и биограф, подмечает: на всем протяжении жизни Толстого в его высказываниях встречается – «я в первый раз понял», «я в первый раз заметил», «я испытал в первый раз», «в первый раз я почувствовал»…
В первый раз!.. «Вся его жизнь представлялась ему обычно в виде целого ряда больших и малых следовавших один за другим переворотов…»
И всякий раз то, что вчера представлялось ясным и определенным, сегодня (будто впервые увиденное) непременно должно быть уточнено, изучено заново, уяснено, заменено, отброшено вовсе.
«Я первый»… Толстой убежден, что каждый человек совершает в своем внутреннем развитии тот же путь, который человек вообще, развиваясь, проходит «в целых поколениях». Что найти свое я значит передумать, сознавая это или нет, все то, над чем до тебя веками трудился ум человечества.
Главное: самому передумать, уяснять, постигать, самому свое я найти. «Помню, как я, когда мне было 15 лет… как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее».
Он скажет это на восьмидесятом году жизни в «Обращении к юношеству», которое озаглавит: «Верьте себе».
Озарение светом истины
В этом постоянном ощущении первооткрывательства – одна из особенностей мышления Толстого.
Мы привыкли к увлекательной истории замысла «Анны Карениной», такой, как о ней чудесно поведал сам Толстой: как-то после работы взял том прозы Пушкина «и как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения… И там есть отрывок “Гости собирались на дачу”. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события и стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман…»
Толстой пишет это в марте 1873 года, между тем тремя годами раньше Софья Андреевна заносит в свою тетрадь слова мужа о том, что «ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя».
В эти три года Толстой составляет «Азбуку», обдумывает роман о Петре, но вряд ли позабыт замысел истории о женщине, «потерявшей себя», тем более, что, согласно той же записи Софьи Андреевны, «как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. «Теперь мне все выяснилось», – говорил он. Но, видимо, еще не «выяснилось», что нужно полностью отдаться замыслу. Чтение Пушкина резко возвращает Толстого к роману о женщине из высшего света, разрешает все его сомнения. И вместе с этим вдруг все завязалось…
В книге «В чем моя вера?» (1884 год) Толстой рассказывает о своей работе над религиозно-философскими сочинениями: «…Я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать все то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия. Работа эта продолжается уже шестой год… Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, – это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины».
Так в финале «Воскресения» читает Евангелие герой романа Дмитрий Нехлюдов.
«– Да неужели только это? – вдруг вслух воскликнул Нехлюдов… Он… в первый раз, читая, понимал во всем значении слова, много раз читанные и незамеченные».









































