Текст книги "Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины"
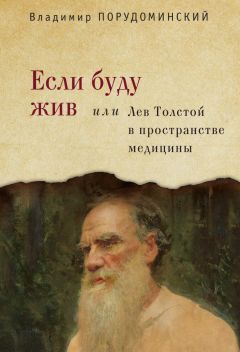
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В первый раз
Однажды в разговоре он признается: «Когда я писал “Детство”, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства». Каждое слово он пишет с чувством, что слово это пишется изначально, что никто до него не писал такого. Да так оно, конечно, и было. Как ни мечтал он порой, подобно своему Пьеру Безухову, скинуть с себя бремя «внешнего» особого человека, всем существом войти в «общую жизнь», ему определена иная судьба. Именно эта – открывать в первый раз.
Многое, о чем он думает и пишет, уже тысячелетия тревожит человечество, но могущество личности и гений художника оборачивают, заставляют других ощущать тысячелетнее первозданным. Читая Толстого, вслушиваясь в его суждения, чувствуем, как сила и ясность его духа, чистота взгляда, исключительность художественной новизны и в нас, как в нем самом, как в его героях, освежают, перетряхивают все духовное существо, снимают с глаз пелену предрассудков, заставляют взглянуть на мир в себе и мир вокруг с ощущением этого первого раза.
Взгляд его глубоко запрятанных серых глаз, которые, кажется, видят человека насквозь, и взгляд-суждение его, о чем бы он ни задумывался, о чем бы ни вел разговор, – поразительно свободен, не заслонен существовавшими до него чужими мнениями, впечатлениями, оценками. Оттого мир вокруг, все, что он видит в нем, является ему новым, неожиданным, необычным.
Целое и невредимое
В 1873 году он заносит в дневник: «Я смолоду стал преждевременно анализировать все и немилосердно разрушать. Я часто боялся, думал – у меня не останется ничего целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей… У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 того».
В том-то и дело, что анализирует он и разрушает не уничтожения ради – ради созидания.
Завершив грандиозную эпопею «Войны и мира», он берется за создание «Азбуки» для детей.
Грандиозная эпопея – и «аз-буки», первое знакомство с грамотой и арифметикой, «счетом», как именует Толстой? Но для него огромность задач сопоставима: «Гордые мечты мои об этой “Азбуке” вот какие. По этой “Азбуке” только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту “Азбуку”, мне можно будет спокойно умереть».
Он мечтает, что его «Азбука» поможет открыть таящиеся в народе бесчисленные дарования, поможет этим дарованиям раскрыться: «Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей… И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу… спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе».
Вот его масштабы! И так у него всю жизнь.
И того более. Однажды он напишет с его поразительной точностью: «Дети увеличительные стекла зла. Стоит приложить к детям какое-нибудь злое дело, и то, что казалось по отношению взрослых только нехорошим, представляется ужасным по отношению детей». Работая над «Азбукой», он хочет не только научить детей читать, писать, считать, дать им разнообразные сведения об окружающем мире, но и посеять в их душах как можно более семян добра.
На основе собственного опыта работы в открытых им школах для крестьянских детей он предлагает особый, им самим найденный способ обучения чтению, новые приемы счета, знакомит учеников с физикой и химией, ботаникой и зоологией. Он сочиняет рассказы для детского чтения, среди них и маленькие рассказы-статьи из разных областей знания, перерабатывает для своей книги произведения писателей иных времен и народов, сказки, басни, былины. Толстовская «Азбука» и сегодня одна из лучших начальных книг для детей. В ней мы впервые знакомимся со сказкой «Три медведя», рассказами «Филипок», «Акула», «Лев и собачка», с историями про собак Бульку и Мильтона, с «Кавказским пленником».
Кавказские пленники
Для рассказа «Кавказский пленник» Толстой берет название, хорошо известное в русской литературе, но, в отличие от пушкинской поэмы, у него не один пленник, а два.
Жилин и Костылин – два человека, которые во всем разнятся. Они противопоставлены физически и психологически, по-разному относятся к тому, что с ними происходит, по-разному ведут себя в одном и том же положении. Толстой не дает имен героев, только фамилии, – но в фамилиях угадывается характер.
О Жилине говорится: «хоть невелик ростам, а удал был». Толстой, конечно, знал такие народные речения, как «молодецкая жила», «кость да жила, а всё сила», «хоть жилимся, да тянемся». Слово «жилиться» имеет толкование: напрягаться, натуживаться, стараться изо всех сил. В мыслях, решениях, поступках Жилин непременно удал, и, хотя портрета его в рассказе не находим, перед глазами у нас встает человек поджарый, ловкий, сильный и выносливый.
Костылин, в отличие от своего товарища, с первого появления обрисован внешне: «мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет». Фамилия Костылин – напоминает о его физической и душевной слабости, неуверенности, нерасторопности. Он тяжел и неловок в ходьбе (здесь тоже «работает» фамилия): при попытке бежать из плена он движется тяжело, охает, отстает, сапоги трут ему ноги, босиком он обдирает ноги о камни.
Начало рассказу дал случай из кавказской жизни самого автора. Однажды Толстой и его приятель, когда им надоело тащиться с медленно идущей воинской колонной, точь-в-точь как герои рассказа, поехали вперед, натолкнулись на группу конных чеченцев и едва не попали в плен. Лошадь под Толстым была более резвой, чем под его приятелем, но он продолжал скакать с ним рядом, не желая оставлять его в опасности.
В дневнике Толстой записал: «Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно». «Слишком чувствительно» – это, скорее всего, бурная радость, им проявленная, когда удалось уйти от преследователей и добраться до своих. Вот ведь и удалой Жилин в конце рассказа, несмотря на погоню спасшийся из плена, «сам себя не помнит, плачет и приговаривает: «Братцы! Братцы!»
В рассказе две натуры, два характера, два подхода к жизни. Мы видим, что отношение человека к обстоятельствам зависит от его физического и психического здоровья. И видим при этом, насколько крепко взаимодействуют физическое и психическое здоровье.
На протяжении жизни Толстой постоянно думает, как должен вести себя человек, прежде всего – он сам, в трудных, порой вроде бы безысходных жизненных положениях. И к каким бы выводам не приходил, размышляя, поступает, как герой любимого им самим «Кавказского пленника».
Только постоянное действие приводит к желанной цели.
Если я остановлюсь
«Меня мучит мелочность моей жизни… Я стар – пора развития или прошла, или проходит» (ему двадцати четырех нет – служит на Кавказе, участвует в походах, пишет «Детство»). Давно настала пора «принимать большое влияние в счастии и пользе людей».
Два года спустя (уже сложившийся писатель, «Детство» напечатано, «Отрочество» закончено, Кавказ позади, он по-прежнему в армии, до участия в обороне Севастополя считанные месяцы): «В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя».
Уже в Севастополе (идут бои, он занят первым из севастопольских рассказов, одновременно работает над собственным «проектом о переформировании армии») его озаряет «великая громадная мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь»: «Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».
Он и в самом деле, так или иначе, а в последние десятилетия отдавая этому все свое я, посвятит жизнь осуществлению явившейся ему в тот мартовский севастопольский день великой громадной мысли: будет содействовать основанию религии любви и единения между людьми, религии отрицания насилия, – эта религия, по его убеждению, изначально живет в душе каждого человека, заглушенная пороками, условностями, привычками, накопившимися во всей неправедности истории человечества.
К старости его все больше будет манить желание не только жить простой трудовой жизнью крестьянина, но и вовсе раствориться незнаемым, неузнанным, человеком без роду и племени в массе народа на бескрайних просторах России. Но вместе в сознании его, в душе постоянно и властно восстает его предназначение, требовательно зовет к деятельности.
Узнав о нежданной смерти яснополянского мужика, с которым накануне выполнял вместе крестьянскую работу, он, с некоторой даже завистью, заносит в дневник: «Лег в клети на прелую солому и умер. Хорошо». Но тотчас следом – о своей работе: «Хочется писать с эпиграфом: “Я пришел огонь свести на землю и как желал бы, чтоб он возгорелся”».
В своей эпопее посмеивается над Наполеоном, говорившим о сорока веках, которые смотрят на него с высоты пирамид; но в пору полной собственной зрелости признается: «Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид и что весь мир погибнет, если я остановлюсь».
Рваться, путаться, биться, ошибаться
В канун нового, 1851 года старший из братьев Толстых, Николай, – он уже пять лет почти как в Кавказской армии – приезжает в долгосрочный отпуск; в апреле срок побывки подходит к концу, и тут Лев вдруг решает отправиться в путь вместе с ним.
В письме к Татьяне Александровне Ергольской, он назовет свой неожиданный отъезд на Кавказ «внезапно пришедшей в голову фантазией». В дневнике – для себя – не найдет одного ясного объяснения: надеялся на благотворное влияние кавказской природы, ожидал, что его «лихости» представится случай выказать себя вовсю на Кавказе (его манит слава – пусть смерть, но уж непременно героическая), наконец, попросту «бежал от долгов и, главное, привычек».
В разное время, в разном настроении причины «бегства» будут называться разные. Называются, нет сомнения, всякий раз искренно, но не только нам, из нашего сегодня, – даже близким Толстого, ему самому даже, ни одна из этих причин порознь (иначе чего бы называть другие) не видится достаточной. Более того: и вместе, в сумме, они не охватят того целого, которое владеет им в момент неожиданного решения.
А потому останемся при этом толстовском – «внезапно пришедшая в голову фантазия». Тем более, что в Словаре Даля, рядом с толкованием слова «фантазия» – пустая мечта, выдумка воображения, причуда и т. п., найдем нечто весьма существенное: «фантазия – воображение, изобретательная сила ума, творческая сила художника, самобытная сила созидания».
Такого – фантазии, внезапно им овладевшей, – от него всегда должно ожидать.
Совсем юным, в докавказскую пору, с головой, кажется, уйдя в хозяйство, охоту, домашние музыкальные занятия, кутежи у тульских цыган, с головой, одним словом, уйдя, кажется, в жизнь помещичью, он вдруг оставляет Ясную Поляну и отправляется в Москву с целью попасть в высший свет, выгодно жениться, найти почтенное и доходное место для службы, стать игроком (ни много, ни мало!). Но, еще прежде, живя в Москве завсегдатаем светских гостиных, приметным женихом, карточным игроком (мало удачливым), он мечтает о деревенской жизни, намеревается скорее вернуться к ней, однажды разом бросает всё… но вдруг уезжает вместо деревни в Петербург – служить по военной или гражданской части, сделаться «практическим человеком» (объясняет: приятели уезжали в столицу, он вдруг сел в дилижанс и поехал с ними»). Когда какой-то родственник отправляется по делам в Сибирь, он «вскочил к нему в тарантас без шапки, в блузе, и не уехал в Сибирь, кажется, только оттого, что у него не было на голове шапки» (это Лев Николаевич сам о себе в старости расскажет).
Татьяна Александровна, внимательно присматриваясь к любимцу, угадывает в нем «человека, испытывающего себя». Сам Лев, размышляя об испытаниях, которым желал бы себя подвергнуть, выводит в своем журнале: «Правило: искать положений трудных» (и подчеркивает).
Что же толкает его, гонит вперед, к цели, пусть до поры неведомой, постоянно в первый раз открывает ему мысли и чувства, без которых он далее, кажется, уже не в силах существовать, побуждает перечеркивать прошлое и поворачивать к новому, не оставляет ни минуты покоя?
С самых юных лет и до поздней старости, до последнего своего дня, он напряженно, мучительно ищет самого себя, но не себя ради, – он сознает, каждой клеточкой ощущает свою нужность людям («Я был бы несчастнейший из людей, ежели бы я не нашел цели для моей жизни – цели общей и полезной», – это тоже на самых первых страницах дневника его юности) – и оттого постоянно – опять же с самых молодых лет и до последнего своего дыхания – стремится осуществить себя как можно полнее.
В молодости, при его трудно поддающейся обузданию страстности, это стремление с совершенной полнотой осуществить себя бросает его в чрезмерность, к неуступчивому «или-или»: он застрелится, убьет себя, если завтра же, немедленно не поймет цели своей жизни, не сделает что-либо подлинно необходимое для блага людей, не женится…
В молодом рассказе «Люцерн», поведав читателям действительное происшествие, когда обитатели роскошного швейцарского отеля, по большей части богатые англичане, полчаса слушали бродячего певца, но никто из них не подал ему ни копейки, он, автор, признается, что готов был с наслаждением подраться с наглыми кельнерами и швейцаром, «палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню», а, будь он в эту минуту в Севастополе <речь о недавней Крымской войне>, бросился бы с наслаждением «колоть и рубить в английскую траншею».
Александр Иванович Герцен, которого он нелегально посещает в Лондоне, пишет о резкости его суждений, что Толстой «всё, как под Севастополем, берет храбростью, натиском». Его молодая чрезмерность (она и с годами во многом при нем останется) делается понятной, если держать в памяти, что он живет и действует с ощущением, что «сорок веков смотрят на него с высоты пирамид», что он ни на миг не имеет права остановиться.
Из письма к Александре Андреевне Толстой: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость».
Ничего не утаю
В недолгие университетские месяцы предмет истории, как читают ее с кафедры, Толстому не по душе: «собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен».
Пятью годами позже, на Кавказе он начинает «любить историю и понимать ее пользу». И тотчас у него возникают грандиозные замыслы собственных исторических трудов: «Составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь». Не басни, не имена и цифры, а история как «жизнь народов и человечества». Он всю жизнь и посвятит этой цели: не историк – великий писатель. Художник и мыслитель – вместе.
«Эпиграф к истории я бы написал: “Ничего не утаю”. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно – умалчивая».
«Ничего не утаю»… Этим словам суждено стать эпиграфом, программой всей его жизни, его творчества, деятельности его на всех и всяких поприщах.
Человек в своем поведении, в своих отношениях с другими людьми и с самим собой постоянно, хочет того или нет, решает вопрос: быть или казаться? Толстой смолоду выбирает: быть.
Александра Андреевна Толстая вспоминает: «Он страшно боялся быть неправдивым не только словом, но и делом, что, однако ж, иногда приводило к совершенно противоположному результату.
Так, например, приглашенный один раз к моей сестре на вечер, где должно было собраться довольно многочисленное общество, утром этого дня Лев написал мне, что быть к нам не может, – только что получив известие о смерти брата. (Братьев своих он любил страстно.) <Речь о Дмитрии Николаевиче Толстом, умершем первым из четверых в январе 1856 года.> Разумеется, я отвечала ему, что совершенно его понимаю.
И что же? Вдруг он является на вечер как ни в чем не бывало.
Это появление взволновало меня до негодования.
– Зачем вы пришли, Лев? – спрашиваю я его потихоньку.
– Зачем? Потому что то́, что я написал вам сегодня утром, было неправдой. Видите, я пришел, следовательно, я мог прийти.
Мало того, через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр.
– И вероятно, вам было очень весело, – говорю я ему с еще большим негодованием.
– Ну нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе. Будь тут пистолет, я бы непременно застрелился…»
Он боялся солгать другим, себе, преувеличивая свое горе. Мучил себя, чтобы случайно не казаться тем, кем не был на самом деле.
Человек, испытывающий себя…
«– Хочу проверить себя до тонкости, – говорил он», – вспоминает Александра Андреевна Толстая.
Делай, что должно
Весной 1847 года Толстой делает первую запись в дневнике. Он будет вести дневник, с перерывами, иногда значительными, шестьдесят три года. Последние строки дневника – 3 ноября 1910 года, в комнате начальника станции Астапово, за три дня до смерти: «Ночь была тяжелая… Вот и план мой. Fais се que doit, adv…» Запись обрывается на недописанном французском изречении, которое Толстой усвоил смолоду: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
Смолоду и до этих своих последних часов Толстой со всем напряжением ума и души ищет, что должно делать. Дневник с первой страницы заполнен правилами. Составляются правила «для развития воли телесной», «воли разумной», «воли чувственной», «для развития памяти», «умственных способностей» и т. д. Жизнь внутренняя и внешняя, учение и практический труд, идеалы и повседневность – всё этот проверяющий себя молодой человек готов определить и сопрячь в правилах. Но первая же страница дневника честно итожится: «Легче написать десять томов философии, чем приложить одно какое-нибудь начало к практике».
В «Исповеди», над которой Толстой будет работать в конце 70-х – начале 80-х годов, он с позиции нравственной безжалостно перечеркнет свою юность и молодость:
«Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны… Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах… Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком…»
Читая, ни на минуту не забудем беспощадную требовательность, с которой Толстой к себе относится. (Следом за приведенными строками он признается, что и писать стал из тщеславия, корыстолюбия и гордости, что в писаниях своих был так же безнравственен, как и в жизни, – это про «Детство», «Отрочество», «Юность», про «Казаков», про севастопольские рассказы, главный герой которых, по замыслу Толстого, «герой, который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда».) Эта сокрушающая все возможности оправдания требовательность к себе у него – смолоду.
Заведя дневник, он однажды записывает для себя как правило: без чрезмерностей. Все было, конечно, и тщеславие, и гордость, и гнев, и «любострастие», и иные «страсти», но Толстой (в отличие от Наполеона с его пирамидами) и судит себя всегда чрезмерно.
Кроме обычного (для Толстого – обычного) дневника, он заводит «журнал для слабостей», или «франклиновский» – по примеру известного американского политического деятеля и ученого Вениамина Франклина, который ежедневно отчитывался перед собой в тетради в своих недостатках и проступках.
Молодой Толстой, похоже, не в состоянии быть довольным собой. Мало работал – дурно. Много работал – тоже дурно: «писал не только без увлечения, но с какой-то непреодолимой ленью». Наконец кончил то, что писал, и: «едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но… бросить все литераторство; потому что ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли, – выходит ничтожна на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта…»
«Главный мой недостаток»… Нетерпимость… Нескромность… Неосновательность… Непостоянство… (Не… не… не…) Тяжелый характер. Излишнее самолюбие. Тщеславие…
И так по всему дневнику молодости: «Смотрелся часто в зеркало». «Много рассказывал про себя, желание выказать». «Вечером читал без системы, необдуманность». «Выписок не делал, лень». «Живу совершенно скотски»…
Но вот в записях Толстого появляется исполненное для него глубокого смысла, более того – исполненное дела слово: усовершенствование: «Невольно, как только я остаюсь один и обдумываю самого себя, я возвращаюсь к прежней мысли – мысли об усовершенствовании; но главная моя ошибка – причина, по которой я не мог спокойно идти по дороге, – та, что я усовершенствование смешивал с совершенством».
Все дурное о себе в его молодых дневниках (да и в старых тоже – за три месяца до смерти записывает: «Редко встречал человека, более меня одаренного всеми пороками»!), все в дневниках заострено, преувеличено, но именно в заострении, преувеличении – непрощении себя! – залог усовершенствования, движения к идеалу.
Много позже Толстой напишет, что идеал тогда идеал, когда представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему – бесконечна. Без того, чтобы биться, ошибаться, бросать и начинать сначала, без этого не обойтись, главное – не сбиться с общего курса, не утратить нравственный компас в своей душе.
Усовершенствование себя – нравственное самоусовершенствование – как начало усовершенствования жизни общей составляет одну из важнейших основ толстовского учения.
В последней книге Толстого «Путь жизни» читаем: «Жизнь каждого отдельного человека только в том, чтобы становиться с каждым годом, месяцем, днем всё лучше и лучше. И чем люди становятся лучше, тем они ближе соединяются друг с другом. А чем ближе соединяются люди, тем жизнь их лучше».









































