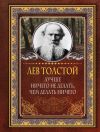Текст книги "Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины"
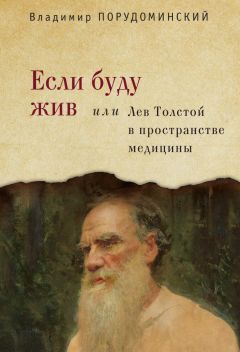
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 3
Ни хорошо, ни плохо
Малые причины – большие действия
Первую запись, сделанную самим Толстым о своей болезни, находим в дневнике 17 марта 1847 года: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику… Я получил гонорею, понимается, от того, от чего она обыкновенно получается…»
Как правило, при публикации дневника эти строки опускаются. Мы бы тоже не рискнули их привести, если бы не разрешение Льва Николаевича, который, после серьезных раздумий, согласился с тем, чтобы, коли явится необходимость, были полностью напечатаны дневники его молодости: в них и «пошлость и дрянность» собственной жизни, как она видится Толстому (все те же «строки постыдные»), и постоянное, зовущее к совершенствованию чувство, что он тем не менее «не оставлен Богом».
Приведенные строки замечательны во многих отношениях. И не только тем, что именно с них вообще начинается известный нам дневник Толстого, дневник, который он, правда, порой с перерывами на месяцы и годы, будет вести на протяжении шести с лишним десятилетий.
Ценность записи неисчислимо возрастает, когда читаем сказанное в дневнике целиком, в контексте, – только в этом случае становится понятно, почему, приняв решение вести дневник, Толстой упоминает в нем, того более – начинает его с признания, казалось бы, не слишком для него приятного. Целиком, в контексте, запись, как ни странно, обретает противоположный, чем можно ожидать, положительный смысл (тут-то – пусть Льву Николаевичу едва перевалило за восемнадцать – вся особость и глубина толстовского мышления).
«Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, – заносит в тетрадь Толстой и продолжает: – и вот шесть дней, как я почти доволен собою…» Следом французская поговорка, до которых он всю жизнь любитель, – по-русски она звучит: «Малые причины производят большие действия». Малая причина – болезнь, тут же упомянутая, а большие действия – в том, что «это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которую я уже давно поставил ногу, но никак не мог перевалить туловище». Больничное одиночество оказывается необходимо ему, чтобы оглядеться, вдуматься в себя и для этого на какое-то время выбраться из потока привычного существования, который, подхватив, увлекает его.
«Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи», ему даже непонятно будет, «как не видал он всего того прежде». Здесь целый план жизни и прозрение того, что станет главным его содержанием. Малая причина в самом деле вызвала огромные последствия, как сорвавшийся с места камень приводит к обвалу в горах. До писателя Льва Толстого еще годы, казанский студент, попавший в госпиталь со своей «малой причиной», не предполагает, конечно, своего будущего, но, по существу, в приведенном отрывке вся творческая программа Толстого-писателя, ее нравственное и художественное направление.
Но если и поуже взглянуть, остаться в пределах размышлений об отношении Льва Толстого к медицине, а, следовательно, и, может быть, прежде всего к собственным болезням, – и в таком случае первая дневниковая запись окажется для нас очень важной. Прежде всего уже потому, что вызвана – болезнью. Болезнь вносит серьезные изменения во внешнюю и внутреннюю жизнь Толстого, открывает перед ним простор для серьезных раздумий, оценок и переоценок. Толстой, как видим, не только ощущает, но сознает это – и навсегда усваивает. На протяжении всей жизни в нем, в период всякой болезни, будут сплетаться, смешиваться, противоборствовать обычное для всякого больного внимание к своим страданиям, тревога, огорчение, усталость – и убеждение или желание убедить себя (часто не слишком успешное), что болезнь необходима, идет ему на пользу, помогает совершенствовать себя.
Необходимое отступление
Болезни, подобные той, что привела его в клинику Казанского университета, еще не раз омрачат дни молодости Льва Николаевича, потребуют мучительных и, что еще важнее, нравственно унизительных лечебных процедур, будут угнетать осложнениями – осложнениями от болезни и осложнениями от лечения.
Микробы, являющиеся возбудителями венерических заболеваний, откроют десятилетия спустя. До полноценно действенных лекарственных средств – тоже целые эпохи в медицине. Обильно применяемые препараты ртути вызывают отравление, аллергические реакции, проявления которых и больные, и врачи часто считают продолжением болезни.
Умолчания о венерических заболеваниях в жизнеописаниях людей, одаривших человечество своими творческими открытиями, как, впрочем, и в обычном разговоре, касающемся лица, ничем «не выдающегося», – следствие предубеждения, издавна поселенного в нас религиозным воспитанием и принятыми бытовыми устоями. Между тем, если обратимся лишь к биографиям выдающихся наших писателей, то не только в дневниках молодого Льва Николаевича, но, к примеру, в переписке Пушкина, Некрасова, Тургенева также обнаружим откровенные признания на этот счет. Оно и понятно. Даже самый поверхностный исторический взгляд на жизнь молодого человека времен толстовской молодости должен бы изменить наше отношение к явлению. Мужчина, желавший до или вне брака удовлетворить половую потребность, шел в публичный дом, к женщинам легкого поведения или, если социальное положение давало ему на это право, к более разборчивым в выборе клиентов «дамам полусвета». Число таких женщин было не безгранично, а в небольших городах, местечках, станицах, где располагались воинские подразделения, и вовсе ограничено. К тому же люди определенного круга посещали, как правило, лишь небольшое число известных им заведений.
В дневнике Толстого после первого – казанского – свидетельства, большинство записей о венерических заболеваниях или, куда чаще, подозрений, что они у него есть или могут появиться, относится как раз к периоду военной службы и скитаний, с ней связанных.
«До» и «после»
В той же первой дневниковой записи, объясняя, что болезнь, которая заперла его, 18-летнего, в палате казанского госпиталя получена им «от того, от чего она обыкновенно получается», Толстой не вполне обыкновенно определяет эту «обыкновенную» причину: «беспорядочная жизнь, которую большинство светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души».
Придет время, он, вызывая полемики, осуждение, насмешки, будет энергично проповедовать целомудрие, до этой поры еще четыре десятилетия, но глубинную связь между утратой целомудрия и какими-то серьезными душевными потерями он ощущает, сознает с молодых лет.
Максим Горький рассказывает: Лев Николаевич однажды признался ему и Чехову, что был в молодости «неутомимый…» – «он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово». Еще бы не сокрушенно! Мало того, что говорил это старый Толстой, каявшийся перед самим собой в прошлой своей жизни и во многом ее отвергавший. Горький, когда написал это, не читал дневников толстовской молодости. Иначе узнал бы, как мучительна была для «неутомимого» каждая встреча с женщиной, мучительна «до» и «после», как он, человек огромной физической силы, мощных чувственных желаний, постоянно стремится подавить в себе страсть, терзается страданиями совести, когда не умеет совладать с естественными порывами – «мне совестно так жить». Он и в ежедневной молитве просит Бога избавить его от сладострастия, в поденных записях, отмечая свои промахи, ругает себя за употребление горячительной пищи, возбуждающей плоть, ищет воздержания и радуется всякой помехе его чувственным стремлениям («не пустила», «помешал прохожий»), хотя иной раз полагает воздержание причиной разных недомоганий.
Дневники молодого Толстого хранят признания в победах плоти, сожаления, раскаяния. «Не могу преодолеть сладострастия»… «Спал с женщиной; все это дурно и сильно меня мучает»… Здесь же – ограничения: «У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать»… И – суровые, монашеские правила, заведомо неисполнимые, вроде: «Отдаляйся от женщин. Убивай трудами свои похоти»… Или: «Сообразно закону религии, женщин не иметь» (записано, увы, через неделю после пометки: «Вечером к девкам»).
Чувственность, желания молодости вступают в противоборство с жесткими нравственными задачами, перед собой поставленными. Он то огорчается своей неловкости, застенчивости с женщинами и «девками», то радуется, что стыдливость спасает его от разврата.
«Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. – Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам… Чувство долга и отвращение говорили против, похоть и совесть говорили за. Последние одолели…»
А вскоре он пишет о сладости чувства, которое испытал на молитве: «Как страшно было мне смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня… Я не чувствовал плоти, я был один дух…» Но: «Но нет! плотская – мелочная сторона опять взяла свое… Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог. – Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы».
«Посвящение» – просвещение
Тема целомудрия, утрата которого решительно меняет нравственный облик человека, занимает важное (пусть не всегда явное, нередко затаенное) место в духовных поисках Толстого и, соответственно, в его творческих замыслах. Указание на это встречаем в планах романа «Четыре эпохи развития». Мы хорошо знаем трилогию, начатую первой толстовской повестью «Детство», но за «Отрочеством» и «Юностью» предполагалась еще «Молодость». В наметках к роману находим: «Я узнаю различие полов, порывы сладострастия», «потеря невинности».
В начале 1853 года, между «Детством» и «Отрочеством», Толстой занят рассказом «Святочная ночь», который остается незавершенным. В рукописях название несколько раз сменяется: от прямолинейно ударного «Бал и бордель» до несколько назидательного «Как гибнет любовь». Определение «святочная» несет оттенки понятий «праздничная», «радостная», даже «умиленная» (святки – праздник, «святочный рассказ» – как литературный жанр). Но для героя толстовского повествования, прекрасного мальчика с светлыми мечтами и благородными побуждениями, «совершенного ребенка душою и телом», святочная ночь оборачивается трагедией: бывалые светские люди везут его с бала в бордель, где их стараниями и к их удовольствию «мальчуган потерял свою невинность».
То, что для светских приятелей – привычное житейское дело, ощущается юношей как утрата лучшего своего я, прощание со светлыми мечтами: «Он вспомнил чувство невинной любви, которое наполняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невозвратимо прошло для него».
В «Записках маркера» – они пишутся почти следом за «Святочной ночью» – снова сцена, когда героя рассказа, доныне невинного, приятели везут к женщине, а, возвратившись, весело поздравляют (по выражению рассказчика-маркера) «с посвящением ли, с просвещением ли, не помню уж хорошенько». Не радуется произошедшему лишь сам «посвященный»:
«– Вам, – говорит, – смешно, а мне грустно. Зачем, – говорит, – я это сделал…
Да как зальется, заплачет».
И десятилетия спустя, в «Крейцеровой сонате», где Толстой во всю мощь своего голоса выскажет свое отношение к тому, что когда-то, в первой дневниковой записи обозначил как «следствие раннего разврата души», герой повести Позднышев, убийца жены, поведает о первом падении: «Помню, мне… сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине».
Рассказ «Святочная ночь», кажется, не автобиографичен. Но потрясение, вызванное «посвящением», потрясение именно такое, какое переживают герои его рассказов, пережито самим Толстым. Известно его исповедальное признание в беседе с близким другом: «Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал!..»
Илья Львович Толстой, сын, вспоминает:
«Я не забуду того, как один раз в Москве он сидел и писал в моей комнате за моим столом, а я невзначай забежал туда, чтобы переодеться.
Моя кровать стояла за ширмами, и оттуда я не мог видеть отца.
Услыхав мои шаги, он, не оборачиваясь, спросил:
– Илья, это ты?
– Я.
– Ты один? Затвори дверь. Теперь нас никто не услышит, и мы не видим друг друга, так что нам не будет стыдно. Скажи мне, ты когда-нибудь имел дело с женщинами?
Когда я ему сказал, что нет, я вдруг услыхал, как он начал всхлипывать и рыдать, как маленький ребенок. Я тоже разревелся, и мы оба долго плакали хорошими слезами, разделенные ширмами, и нам не было стыдно… Такие слезы шестидесятилетнего отца не забываются даже в минуты самых сильных искушений».
Отрывок повествует как раз о времени создания «Крейцеровой сонаты». «Рассказ о любви плотской», – обозначит автор тему повести.
Вспоминая о своем падении, герой повести объясняет: «Я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни – самое законное и полезное для здоровья отправление, другие – самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека».
Потеря целомудрия – одно из самых ранних и потому самых значимых разрушений, которое вносит в душу человека общество, безнравственное по ложным убеждениям и привычкам. С потери целомудрия начинается цепная реакция разрушения нравственности вообще (падение – «не шутка, а великое дело», отныне он «испорченный навсегда человек», говорит о себе герой «Крейцеровой сонаты»). Эта мысль, завязавшись на первой странице толстовского дневника, в пробах раннего рассказа, уже не оставляет творчество Толстого.
В искреннейшей его «Исповеди» читаем: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего… Добрая тетушка моя <Т.А. Ергольская>, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut» <«ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной»>.
В дневнике 1900 года, через 53 года после первой записи, Толстой снова возвращается к теме (томит!): «Вспомнил свое отрочество, главное юность и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал – никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали)… И многое дурное я делал, не желая делать – только из подражания большим».
Рассказ о любви плотской
«Крейцерову сонату», написанную в 1880-е, разрешат напечатать в 1891 году, но рукописные экземпляры, списки широко читаются, множатся, передаются от одного другому тотчас по завершении писателем работы над повестью, двумя годами раньше, в 1889-м.
«Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой», – вспоминает современник о первом появлении «Крейцеровой сонаты».
«Рассказ о любви плотской», поведанный миру с толстовской беспощадной искренностью, побуждает людей заглянуть в себя, в глубины своего я, куда мы менее всего склонны заглядывать.
Герой повести Позднышев (он и рассказывает автору, нам свою историю) убивает жену. Убеждает себя, что из ревности, но Толстой тонко показывает, что ревность лишь повод, что Позднышев сам возбуждает в себе это чувство и одновременно сам подталкивает жену к измене, создает улики для подозрений. Подлинная же причина убийства не измена, которой, похоже, и вовсе не было, а скопившаяся и восставшая в нем ненависть к жене, к себе, к воплощенному в них, в их отношениях «всему строю жизни», при котором животное начало подавляет в людях их высшую человеческую природу.
Отказ от физического труда, праздность, изобильная пища, одежда, оголяющая тело, напоминающая о любовных отношениях, танцы, зрелища, «вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм», – все это разжигает чувственность, которая высвобождается из-под руководства людей, начинает своевольно руководить ими. Половые отношения без связи с «мыслью семейной», с рождением детей превращаются лишь в средство добычи физического удовольствия. Такое не остается безнаказанным, жестоко мстит людям, убивая в них величие и красоту духа.
Не предписание – идеал
Первые же читатели «Крейцеровой сонаты» задаются вопросом: как изменить отношения в семье, в обществе, как уйти из страшного тупика, куда забрели герои повести. В письмах к Толстому читатели задают ему этот вопрос. И он пишет «Послесловие» к «Крейцеровой сонате».
Размышляя об исправлении жизни Толстой (его слова), «ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было».
Против распространенного мнения о необходимости и полезности полового общения он выдвигает идеал целомудрия. Он понимает: прийти к нему не просто, для этого необходимо изменить нынешнее общественное устройство, само мышление нынешнего человека. Труднее всего, наверно, переменить взгляд на плотскую любовь, не «как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унизительное для человека животное состояние».
«Послесловие» смутило многих читателей. Одни увидели в нем предписания, правила, реально неисполнимые; другие не соглашались с самым смыслом того, что вычитали в «Послесловии». Но Толстой стоит на своем: «Мысли, высказанные там, верны, искренни, и я с величайшим напряжением и радостью открывал их». Открывал!.. Упорная, напряженная работа над «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» тем и отличается, что на каждом шагу дарит самому автору поразительные, неожиданные открытия: «Мне… открылся идеал, столь далекий от действительности моей, что сначала я ужаснулся и не поверил».
Он просит не смешивать разнородные вещи: правила (предписания) и идеал: «Идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему – бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом».
В письме к другу он рисует прямую линию, а поверх нее – ломаную: искренний, настояще живой человек никогда не может идти по прямой, отступление от идеала в приложении к действительности неизбежно. Пусть линия ломаная, лишь бы человек продолжал идти «так» (в направлении прямой), а «не ходил так» – он рисует ломаную линию, уходящую под углом вниз от прямой.
Мы живем в разладе мысли, слова и дела – все человечество и каждый человек в отдельности. Улучшить общую жизнь на земле каждый человек может лишь начиная с усовершенствования себя самого. Есть области жизни, в которых самоусовершенствование наиболее доступно человеку, – хватило бы решимости. Область половых отношений – одна из них. Можно идти ломаной линией, путаться, биться, ошибаться, но помнить о направлении прямой, о стрелке компаса, который несешь с собой. Толстой проповедует неосуществимые идеалы, радея о нашей сегодняшней земной жизни.
Он слышит упреки: предлагая свой идеал целомудренной жизни не только до брака, но и в браке, вообще, он ради иллюзии готов ограничить деторождение. А он как раз и предлагает свой идеал, противопоставляя деторождение простому удовлетворению страсти.
Он говорит задорно: если «конец света» так или иначе неизбежен, не лучше ли всего, если он наступит, когда совершенные люди соединятся воедино чистой любовью – тогда ведь и жить дальше будет незачем? Но, заботясь об исправлении сегодняшнего мира, объявляет решительно: «Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими, свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее».
«Люди лунного света»
Разобщенность, «сшибка» сексуального начала и нравственной его оценки заявляет о себе в Толстом смолоду, с первых шагов на поприще физической любви.
Он «боролся с соблазном похоти в продолжение всей своей жизни и знал всю силу этого соблазна», – размышляет об этой стороне жизни отца Александра Львовна Толстая.
Сам же он на седьмом десятке кается: «Совокупление есть мерзость… о которой можно думать без отвращения только под влиянием похоти… Пишу это в то время, как сам одержим похотью, с которой не могу бороться».
Василий Васильевич Розанов, один из интереснейших наших писателей-публицистов, в начале только что минувшего века издал книгу со странным названием «Люди лунного света». На страницах книги Розанов, по обыкновению горячий, парадоксальный, спорит с людьми, которые «и вообразить себе не могут этот <половой> акт иначе, как позорным, глупым, скверным, грязным, обобщенно и отдаленно – греховным, противным Богу, безнравственным». Это-то и есть «люди лунного света». Люди же иного типа, «супруги» (именует их Розанов), «любят солнышко», полно и радостно отдаются «нормальной любви», сексуальной жизни.
Луна, толкует Розанов, «запрещает очень любиться»: «Полюбуйтесь, помечтайте, но – и довольно». Это – монашеская любовь… В мечтах, под лунным светом, родится идеал; а идеал всегда ощущает себя оскорбленным действительностью. Солнце – сама действительность. Луна – вечное «обещание», греза, томление: «что-то совершенно противоположное действительному» <Курсив автора – В.П.>. Солнце – живое, горячее супружество, совокупление.
Розанов с самого начала книги спорит с Толстым. Он не читал дневников Толстого, но тотчас схватил то, что вызывает у него отторжение, многое угадал в закромах душевной жизни писателя, цепко пройдя по его романам, рассказам, статьям.
Толстой для Розанова – завершенный человек «лунного света» (такое впечатление даже, будто то ли «вычислил», то ли интуитивно почувствовал действие, которое оказывал лунный свет на Толстого). «Какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не внушенное, отвращение к совокуплению», «ощущение гнусности полового акта», которое он находит в толстовских сочинениях, Розанов связывает с «христианским гнушением к полу». Эту особенность христианства он противопоставляет ветхозаветному признанию святости пола, полового общения: «Та самая “святость”, которая отнесена была потом к девству, она ранее принадлежала совокуплениям».
Мысль Розанова, во многом спорная, не вбирающая всей широты толстовской проповеди, но по-своему увлекательная и увлекательно выстроенная, горячо, гневно даже, не желает соглашаться с тем, что смолоду исповедует и убежденно проповедует Толстой.
«Грех и пол для нас тождественны, пол есть первый грех, источник греха, – пишет Розанов. – Откуда мы это взяли? Еще невинные и в раю мы были благословлены к рождению». Розанову чудится здесь «мировое извращение», «поворот земной оси на другой градус».
Понятие сексуальности включает в себя не только половую жизнь человека – в неменьшей степени его отношение к ней. Но и то, и другое выходит далеко за рамки только лишь сексуальности, помогает вообще глубже понять физическое и душевное здоровье человека.
По разным ведомствам
Естественная чувственность Толстого, чувственность мощная, требовательная – ему все отпущено природой в обилии – заставляет его искать возможности ее удовлетворения. Нравственные начала, с юных лет настолько сильно и будто интуитивно, вне осознания, им владеющие, что кажутся врожденными, удерживают его, противодействуют «похоти», им в себе ненавидимой.
Эта изнуряющая его внутренняя борьба отягощается к тому же постоянным страхом венерической болезни. Едва не всякое расстройство здоровья кажется ему признаком заражения. Боль в горле, малейшее поражение на коже повергает его в панику. Что греха таить, несколько раз, мы об этом уже говорили, предположения Толстого оправдываются. Но дневники свидетельствуют о почти постоянном напряжении страха, в котором он пребывает. Он подчас понимает необоснованность своих опасений, называет свое состояние – «моральная венерическая», то есть болезни нет, только страх ее. Но поделать с собой ничего не может.
Страх болезни возникает внезапно: «Пил дома воду и убедился, что у меня снова <…>» На другое день он у доктора: «сказал, что у меня нет <…>» Но страх не отпускает. Через неделю: «Кажется, я ужасно болен физически». Еще через неделю: «доктор меня успокоил». Но не тут-то было. Еще через неделю: «Горло болит. Я подумываю о <…>» Здоровье все хуже. Ему, по его просьбе, пускают кровь. И – назавтра: «Поправляюсь, и морально очень свеж».
Толстой – очень смелый человек. Приведенные записи – военного времени, когда смелость его особенно очевидна и всеми признана. В Севастополе он на знаменитом четвертом бастионе – самый опасный пункт осажденного города: «Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самим образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме…» Но рядом в дневнике – про какие-то ранки, которые кажутся ему, конечно же, определенной болезнью, признание в том, что все смотрит на них, что из-за них ничего не может делать, не может писать. А день спустя: «Здоровье кажется хорошо».
Похоже, что мнительность и смелость проходят «по разным ведомствам».
Размышляя (непомерно) о возможности болезни, он ищет в ней положительные стороны: «Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу, поэтому и за это благодарю Его». Ему представляется, что физические тяготы, унижение, отказ от многих радостей жизни, доступных здоровому человеку, пренебрежение многими сиюминутными стремлениями, условностями помогут ему усовершенствоваться нравственно: «Вчера при мысли, что у меня может провалиться нос, я вообразил себе, какой огромный благой толчок это дало бы мне на пути нравственного развития. Я так живо представил себе, как бы я был благороден, предан благу общему и полезен ему, что мне почти захотелось испытать то, что я называл несчастьем, извиняющим самоубийство». Но на той же странице читаем: «беспокойство о болезни» так велико, что он два дня провел в тумане, у него «дрожание в глазах», сильная головная боль.
Похоже, что мнительность и доводы разума – также «по разным ведомствам».
С таким несовпадением будем встречаться до последних дней жизни Толстого. Речь уже не о венерических болезнях – вообще о мнительности.
В 1897 году, за 13 лет до окончательного ухода из Ясной Поляны, он напишет письмо жене о желании уйти: «меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями». Как старые индейцы уходят умирать в леса, так и он хотел бы дожить в уединении согласно своим убеждениям.
Нет никаких оснований не верить хоть одному слову в этом горячем, искреннем письме. Но несколько недель спустя «Лев Николаевич, – по свидетельству жены, – угнетен прыщиком, вскочившем у него на щеке, и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает». На месте прыщика развивается большой нарыв. Через десять дней Лев Николаевич помечает: «Страшный чирей на щеке. Я думал, что рак, и рад, что не очень неприятно было думать это». Но думать об этом Льву Николаевичу, видимо, все же очень неприятно. Софья Андреевна настроена в отношении мужа заведомо критически, но в данном случае ее запись вряд ли можно опровергнуть: «У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен он ужасно. Без меня ездил два раза к доктору, и на третий его уже сюда привозили. Все твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше».
Софья Андреевна не знает про письмо, которое он ей написал, – Толстой решил на этот раз его не передавать, – но запись в дневнике жены продолжается так: «Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания! Помоги ему Бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его». Через две недели она заносит в дневник: «Нарыв его прошел, но теперь нос чего-то заболел, и Лев Николаевич ужасно струсил». В то, что из Льва Николаевича получится старый индус, который, почуяв конец, уйдет один умирать в леса, Софья Андреевна не верит.
Настанет пора – уйдет. Об этом разговор впереди. Пока же нас интересует мнительность как одна из особенностей личности Толстого. Мнительность, которая являет себя в молодости, может быть, особенно заметно в связи со страхом заразиться венерической болезнью, но которая не оставит его вместе с молодостью.
За четыре года до смерти Толстого, его зять, Михаил Сергеевич Сухотин, муж Татьяны Львовны, отмечает в дневнике: «Второй день Л.Н. хворает: жар, слабость, хрипота. Советуется с Душаном Петровичем <Маковицким> …и задает ему все те же вопросы, которые задает доктору самый обыкновенный мнительный человек и которые всегда возбуждают иронию Л.Н., когда он слышит эти вопросы в устах других людей. Говорит о смерти, о том, что он чувствует, что это начинается серьезная болезнь, что он умрет теперь, что все это очень хорошо. Но это очень хорошо <курсив Сухотина В.П> звучит как-то слабо и неуверенно».
Ни хорошо, ни плохо
Мы начали с разговора о венерических заболеваниях, потому что с них начинается дневник Толстого и потому также, что этот разговор помогает нам обнаружить некоторые значимые черты его натуры. Но Толстой в своих поденных записях упоминает не только об этих болезнях. Упоминаний о болезнях самых разных очень много, и они несколько меняют привычный образ, который сложился в нашем воображении. В самом деле, Лев Толстой – это сила, смелость, энергия, решительность, наконец, или прежде всего, постоянная напряженная работа мысли. Со всем этим как-то не вяжется постоянное пристальное вглядывание в состояние своего организма и его отправления. А ведь это у него смолоду, когда он еще «здоровый малый», как себя аттестует.
Читаем дневник молодого Толстого – сколько интересных тонких наблюдений, неожиданных сведений, глубоких раздумий! На страницах тетрадей молодой, ищущий себя, проникновенно умный человек размышляет о своем пути, о людях вокруг, о человечестве вообще, о правилах жизни, совершенствовании, идеале…
А рядом: о прыще на носу, ревматизмах (во множественном числе), боли в ногах, поносе, изжоге, чесотке, расширении жил, маленьком жаре, ломоте скул, крови носом, насморке, и ко всему – «тоска страшная», «тоска неодолимая».
Сильное беспокойство насчет насморка «усиливает ежели не физическую, то моральную болезнь (мнительность)». Знает, что – мнительность, но «нос все еще не чист, и я не спокоен». На другой день: «Все болен и боюсь». Наконец: «Убил зайца и фазана», но – «здоровье моральное и физическое еще не совсем хорошо».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?