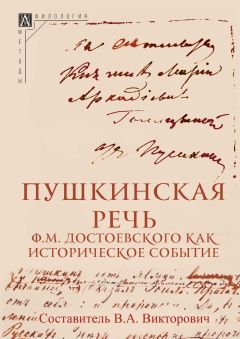
Автор книги: Владимир Викторович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Нет сомнения, что литература и публицистика не выигрывают, что представители ее «сидят по углам», как замечают «Соврем<енные> известия». Справедливо, что от крайнего разъединения происходит – в значительной степени – «нестроение в печати, и ее раздор, и разрыв с преданиями, наконец, самая грубость в приемах полемики, доходящих иногда до пределов, просто нетерпимых в обществе, сколько-нибудь уважающем приличия». Бывают, правда, элементы совсем несоединимые; но зато есть много других, которые, при всей разности мнений в частностях, могли бы вполне понять друг друга и идти вместе к общим, одинаково понимаемым целям. Нам случилось встретить на Пушкинском празднике немало старых друзей, встретить новых, в том числе между полупротивниками, и это было не последним удовольствием праздника.
К сожалению только, это было его случайной подробностью. Праздник ограничился интересами художественными и платоническими. Речи изображали нам Пушкина как великого поэта и мало, почти совсем не касались его как человека своего времени, ставившего себе патриотические вопросы о предметах общественных, горячо желавшего для них работать со своими идеями об истории России и особенностях ее внутреннего быта. Общественные взгляды Пушкина представляют, конечно, великий интерес: они не были посторонней прибавкой к его поэзии, а напротив, тесно с ней связаны; многие из его основных произведений внушены – его идеями историческими, его пониманием современных политических и внутренних отношений. В своей поэзии он искал пользы своему народу, не одной отвлеченной, платонически-художественной, но прямой, живой и непосредственной пользы, считал своей заслугой, что лирой пробуждал добрые чувства и призывал милость к падшим – трогательная черта, не забытая поэтом в представлении о труде его жизни.
Выяснить эту нить общественных идей, которая идет от Пушкина к нашему времени, могло бы быть любопытной темой, – которая, между прочим, выяснила бы значительно его историческое значение, о каком мы выше упоминали. Но почти не была тронута ни эта доля его истории, ни состояние общества, в котором ему пришлось действовать, – и не была выведена параллель, из которой можно было бы, напр., видеть, в чем улучшились условия общественной деятельности и литературы или в чем совсем не улучшились.
Заметно было, что такая параллель была близка, что хотелось из самого праздника вывести практический результат, выразить желания, которые являлись сами собой; но мысли останавливались на полдороге, слова не были досказаны (напр., речь г. Сухомлинова, как в Петербурге речь г. Градовского).
Нет надобности объяснять, откуда происходила эта сдержанность или молчаливость… И невысказанными ясно, но у большинства, несомненно, присутствовавшими, были желания самые мирные, самые скромные: чтобы явилось наконец больше простора для печати, которая у нас есть единственное средство общественности; чтобы широко развилось умиротворение общества. В речах московского праздника не раз вспоминались слова Пушкина о добрых чувствах и милости к падшим, и вспоминалось одно из прекраснейших его созданий: «Пир Петра Великого».
Сбудутся ли пожелания? Или не обманывали ли мы себя жестоко, полагая в минуты увлечений, что с нами думает и чувствует русское общество, что думы и чувства нашего собравшегося круга имеют силу? Сколько отсутствовало здесь тех, кого нужно было бы здесь видеть, не из одной области литературной, а и из многих других!
Мы все-таки можем только присоединиться к пожеланиям и вместе высказать более скромную надежду, что Пушкинский праздник, в котором господствовали столь возвышенные ноты, надолго и крепко останется в памяти тех, кто был его участником.
Л.О. <Л. Е. Оболенский>
А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции
(«Мысль». № 7. С. 78–80)
Конечно, читатель, вы уже прочли в газетах все подробности торжества, устроенного в честь нашего великого поэта, вы узнали также и о речи г. Каткова, и о гениальной речи Ф. М. Достоевского. Первый своей речью заставил протянуть себе руку некоторых своих бывших противников, второй заставил обняться славянофилов и западников, но только ли это?.. Далеко нет! Всё, что совершилось, совершилось, так сказать, у подножия Пушкинского памятника, а потому и то, что совершилось более или менее естественно, приписывается Пушкину. Быть может, нашим читателям будет не безынтересно узнать и наше мнение об этом «совершившемся», о тех силах мысли и поэтического чувства, которые, заключаясь в Пушкине или будучи ему приписываемы, могли произвести это «совершившееся»? Мы поставили в оглавлении слово «объединение»; но это слово ровно ничего не значит: вы сейчас увидите, что совершился факт гораздо более крупный, который вполне оценит только история.
По нашему мнению, обозначился новый момент в истории развития нашего сознания, момент до такой степени потрясающий, что многие участники факта, как, например, редактор «Недели» г. Гайдебуров, искренно и честно признаются сами, что не понимают, что такое с ними происходило: «я думал, думал, думал об этом, – говорит г. Гайдебуров, – и, признаюсь, ничего не придумал». Но происходило, очевидно, что-то необыкновенное, очень высокое, очень хорошее, когда хотелось забыть всё личное, всё условное, всё привычное, простить тому, с кем враждовал, обнять того, кого до сих пор ненавидел. Что же это случилось?
Что случается с людьми, когда они вдруг становятся на несколько моментов выше своих личных расчетов, симпатий или антипатий, начинают даже во враге видеть общее с самими собою, и не только общее, но любимое, дорогое, что хочется обнять как брата, как друга, как самого себя? Это может только тогда случиться, читатель, когда человек, действительно, становится выше своей личности, а это бывает, бывает всегда в тех случаях, когда человеческие организмы охватываются вдруг одной общей идеей или чувством, которые в данный момент вырастают по своей силе выше всех других их привычных, обыденных, личных чувств и идей, заслоняют эти последние силой своей яркости. Тогда-то человек видит вдруг, что его враг чувствует то же, что и он, мыслит то же, что и он сам, переживает тот же момент величайшей любви к той же идее, величайшего восторга от того же чувства. Эта общая идея, общее чувство заслоняют на время всё привычное, личное, обыденное, принадлежащее только индивидууму или партии. Эта – не личная, а общая идея, чувство таким путем становятся временно сущностью, существом всего сознания в каждом отдельном лице, становятся, таким образом, существом всех одновременно. Каждый, видя в такие моменты, что он – всё и что все – он, что во всех людях с ним единая сущность – его дорогая идея, его любимая мысль, обожает, любит эту единую сущность во всех, как в себе, забывает различие между «я» и «не я», любит всех, как себя, даже более, чем себя, любит всех как свою любимейшую идею, олицетворенную во всех. Такие моменты бывают редко с людьми, это те моменты, на которых строится единство мистическое людей одной религии, одного Бога, для которых этот Бог в минуты просветления и экстаза кажется их сущностью, объединяющей их в одно, а отсюда взаимная любовь: если в вас живет то, что и во мне, то как же я буду обижать вас: ведь я буду обижать себя, свою дорогую идею, своего Бога. Если в вас та же сущность, что и во мне, как я буду не любить вас, если вы то же, что и я, если нет ни меня, ни вас, если я и вы как лица, как отдельные люди, как отдельные чувства и мысли, погасли в лучах общего чувства и мысли, выросшего до такой яркости и силы в каждом из наших сознаний, что эта яркость погасила все остальные чувства и мысли, как солнце гасит яркость света не только свечи Яблочкова, но и звезд, и луны, которых мы не видим днем, хотя они всегда смотрят на нас с неба. Индивидуальность людей, их обыденная партиозность тут не умирает, как не умирают и звезды; при солнце они только не светятся в сознании нашем вследствие ярких лучей одной общей идеи или чувства, сразу и личной для каждого, и общей у всех. Вот почему в такие минуты забывается вражда. Могут сказать, что вражда не есть всегда дело личное, что она иногда может сама быть объединительницей единиц, может заглушать всё, если она является как общая идея во всех против кого-либо стоящего вне, например, во время войны. Тогда мы так же точно, во имя этого единого начала нас всех можем обняться и с личным врагом, полюбить и его за то, что он в известный момент един с нами по своей сущности, если эта наша сущность в этот момент есть вражда, заставившая погаснуть все остальные личные чувства. Но вражда ли объединяла этих людей? О, конечно, нет! В том-то и дело, что тут были люди столь различных партий, что они не могли объединиться чувством вражды к чему-нибудь одному, тут были такие, которые обожают то, против чего могут враждовать другие. Если была у них всех какая-нибудь общая вражда, то разве вражда к тьме как общему понятию, не воплощенному ни в какие личные или патриотические формы, к тьме как к общей идее. Но тьма есть только отрицательная идея, а отрицательная идея хотя и может вызвать общую вражду, единую во всех, не может, однако, дорасти до такой силы, чтобы побороть своей яркостью всё личное, партиозное. Отрицательная идея, такая, как тьма, непременно бы вылилась для каждого в его привычный, любимый, конкретный образ ненавистного, и тогда оказалось бы, что представители различных партий одушевлялись бы такой единой идеей, которая видит врага этой идеи в ком-либо из собравшихся. Так, если бы идея тьмы или ненависть к тьме объединила этих людей, то, привыкнув видеть в одном из собеседников выразителя этой тьмы, они были бы не в силах дойти до единства. Стало быть, была иная идея, иное чувство. Хотя нельзя спорить и против того, что состояние экстаза могло расти не у всех одинаково и до одинаковой высоты. Тут есть также свои ступени. Один в экстазе идет дальше, другой останавливается ближе, быть может, в силу чуткости нервной системы, в силу восприимчивости нервных движений от другого лица. Чем высший экстаз охватывает всех, тем и высшая идея, высшее чувство сказываются в каждом, тем более каждый способен забыть остальное свое «я». Хочу это сказать к тому, чтобы пояснить, почему были исключения, почему, например, И. С. Тургенев или А. А. Краевский не протянули руки г. Каткову на обеде в думе. На этом обеде экстаз, проникновение одной высшей, объединяющей идеей не дошли до того, чтобы охватить всех, хотя они охватили большинство. И в самом деле: тут была провозглашена только общая идея: да здравствует солнце, да скроется тьма! И понятно, что люди менее впечатлительные, как г. Краевский, или чересчур прочной и глубокой впечатлительности, не забывающие легко своего внутреннего мира и его живых чувств даже в минуту сильных возбуждений, как И. С. Тургенев, не могли ввиду этой чисто отрицательной идеи ненависти к тьме и общей положительной любви к солнцу, как бы сильно она ни жила в них, забыть, что перед ними стоит человек, которого они долго считали мыслью и долго чувствовали чувством как врага света и поборника тьмы. Ясно, что на этом обеде идея общая, общее чувство еще не доросли до своего апогея. Эта идея и чувство явились только на другой день, когда г. Достоевский сказал свою речь. Только после этой речи каждый русский, кто бы он ни был, либерал или консерватор, славянофил или западник, враг света или тьмы, обнялись все, потому что почувствовали в себе – единое. Что же это единое, что во всех сразу пробудил г. Достоевский, пробудил, быть может, помимо своей воли, потому что это единое пробудилось в нем самом всеми событиями, но пробудилось ранее, чем в других, формулировалось ему полнее, чем другим, настолько полно и глубоко, что он это «нечто» пробудил и во всех? Что ж такое это нечто? Это нечто, читатель, Россия! Да, Россия как идея, как понятие, как великое чувство, которое живет в каждом и всех объединяет ежедневно как деятелей будничной работы, враждующих и борющихся друг с другом за свое частное понимание этого великого единого, но в этот момент ставшая выше этой будничной России и ее будничного понимания, ставшая единой для всех, обожаемой Россией, абсолютным благом, чувством, идеей, Богом каждого и всех. Что ж это за Россия, ставшая вдруг Богом в душе каждого? О, это великая, великая и несчастная и счастливая Россия, это – любовь и всепрощение, долготерпение, всевыносящая мощь, это – Россия конкретная, как она есть, и Россия идеальная, какой она является только в такие высокие моменты экстаза, это та Россия, которая является выражением высшей человечности, высшего синтеза, высшей интеграции всего того, что добыто другими странами мира, это юное дитя мира, еще грядущее принять все односторонние блага, которые выработались другими нациями, но не для того, чтобы спрятать их, как ленивый прятал свой талант в притче Христа, а для того, чтоб из них создать корону человечества, в которой бы сияли рядом все звезды, все сокровища цивилизации в едином синтетическом, объединенном венце любви, человечности, братства. Вот идея России, вот ее идеал, вот она сама, и идеальная, и конкретная: и та, которая придет, и та, которая идет, и та, которая шла к тому в прошедшем по стезе страшных страданий, бесконечного труда, рабства и мук. Вот почему, поймите, это – Россия и идеальная, и конкретная, и та, которая будет, и та, которая есть и была. Без прошлого не было бы будущего, без той России, как она была и есть, не было бы той, которая будет! В этом синтезе примиряются все ее идеалы, примиряются и все ее конкретные стороны, как бы некоторые из них ни были грустны для русского сердца. Грустные примиряются потому, что дается надежда на великое исцеление, оно светит так ярко, что даже и самый тяжкий больной, так обнадеженный, восчувствовал бы восторг не от своей болезни, конечно, а от обещанного выздоровления.
Если вы поняли меня, а если вы только русский, вы не можете не понять, то вы поймете и то, что каждая нация обязана иметь такой «огненный столб», который вел в пустыне племя Израиля, без этого знамени оно заблудится в степи, оно не захочет идти дальше, томимое жаждой и палимое зноем. Идеал нации – великая сила, великий библейский огненный столб: пока он светит, люди идут, даже умирая, идут, потому что видят его, потому что верят, потому что он светит, значит, он есть, значит – придем. Этот идеализм есть и величайший реализм, ибо что ж реальнее, что же проще даже с физиологической точки зрения того, что уверенный в своих силах сильнее того, который убежден, что он бессилен: прочтите любого реалистического психолога, как Карпентер, и он убедит вас в этом. Стало быть, идеал есть реальная, физическая сила, и эту-то силу Ф. М. Достоевский пробудил в русских сердцах, показал ее воочию, и его не забудут вовеки, как не забыт Моисей и его огненные столбы. Имели ли мы до сих пор идеал? Нет, мы его только вырабатывали! В этой работе принадлежит одинаково великая роль и реалистам, отрицателям больных наших сторон, и идеалистам, освещавшим дальнейший путь слабыми светочами грядущего идеала, отражавшегося в их сердцах, обожающих Россию. Но одним отрицанием жить нельзя, одни Щедрины, как одни Чаадаевы, как бы ни были велики их услуги обществу, в смысле указания его язв, в смысле того, что не должно, не могут вести нации вперед, для этого должны быть и другие, обратные деятели, указывающие, что дóлжно и такими-то являются идеалисты. Один идеализм, как и один реализм, сами по себе бессильны. Чистый идеализм видит только счастье будущего и не видит настоящего; он так же не может быть путеводителем, как человек, который идет вперед, прямо смотря на солнце: он может завести и в море, и в болото, и в пропасть, потому что не смотрит ни на что, кроме солнца. Но, с другой стороны, чистый реалист и чистый отрицатель, который смотрит только в землю и не хочет смотреть на небо и солнце, также никуда не приведет, ибо он не знает, куда идти, где восток и запад, север и юг: перед ним масса дорог, масса путей, и он идет по всем, значит, идет по воле случая. Где же правда? Правда в синтезе обоих, в идеализме и реализме, слитых в одно: такое-то слитие и дано нам вдохновенным чувством Достоевского, в свою очередь вдохновенного Пушкиным и всеми предшествующими событиями. Почему он именно был вдохновлен более других и почему именно Пушкиным? Пушкин представлял уже в себе такой синтез более всех других наших поэтов, а Достоевский соединяет в себе более всех других и идеализм, и страшный опыт реальной жизни, он ближе всех нас стоял к народу, страдая вместе с ним, и вот почему он больше всех реалист, но он больше всех и идеалист, потому что он больше всех человек беззаветной, непосредственной веры, которой, быть может, тоже научился у народа, живя и страдая вместе с ним. Но что же оказывается? Ведь этот синтез идеализма и реализма, труда и веры, страдания и прощения есть сам народ? Да, народ и вся Россия! Достоевский явился выразителем его, как более всех нас русский народный человек по своему прошлому: он говорил не от одной интеллигенции, а от всей массы народа русского и от его интеллигенции как части. Вот почему Аксаков не ошибся, назвав его речь гениальной; она гениальна, ибо выражает целый народ, целую Россию. Кто не поймет и не почувствует этого, тот или не русский, или не дорос еще до того слова, которое, наконец, сказано для России, это слово – национальное самосознание, т. е. «Я» целой нации, ставшее сознательным, произнесенным. В заключение скажем, что в силу личных, особенных, исключительных условий никто из редактирующих журнал «Мысль» не мог участвовать в празднике Пушкину: мы там не были. Но несмотря на то, смеем уверить читателя – мы так же пережили это празднество, как и те, кто на нем был: иначе мы не сумели бы написать то, что здесь написалось. Вот почему мы утверждаем, что всё то, что было на празднике, есть всерусское; что речь Достоевского была сильна той величественной сущностью идеала, который заключается в ней. Мы особенно благодарны г. Гайдебурову, который своим глубоко честным, прочувствованным и художественным описанием праздника дал пережить его так ясно, как бы мы сами там присутствовали.
Пушкинские дни в Москве и Петербурге
(«Исторический вестник». № 7. С. 570–572)
<…> Затем на трибуне появился Ф. М. Достоевский. Взрыв рукоплесканий встретил знаменитого художника и троекратно перекатился по зале. Передать вполне речь г. Достоевского невозможно: глубже и блистательнее ее нельзя себе ничего представить. Форма в ней так слита с содержанием, что никакой отчет не даст и приблизительного понятия об ее силе. К тому же она и произнесена была неподражаемо хорошо. Но мы всё-таки должны, хотя вкратце, дать понятие об этом художественном слове, вполне достойном памяти великого поэта. Ф. М. Достоевский привел слова Гоголя, что Пушкин есть явление чрезвычайное и единственное. Он положил начало нашего самосознания, он является истинным пророчеством народного духа. В деятельности Пушкина можно отметить три периода, между которыми, однако, нет резких границ. Уже в Алеко вложена русская мысль, окончательно развитая потом в Евгении Онегине; тип несчастного скитальца по родной земле, необходимый исторически, до сих пор не утратил своего значения. Русскому скитальцу необходимо всемирное счастие – дешевле он не помирится. (Взрыв рукоплесканий прервал оратора при этих словах). Спасение только в смиренном общении с народом – продолжал г. Достоевский. Нужно, чтобы все четырнадцать классов, на которые разбиты русские люди со времени Петра Великого, послушались призыва: «Смирись, гордый человек! Трудись, правдивый человек!» Далее оратор мастерски охарактеризовал Татьяну, которая глубже и умнее Онегина. Только Лиза в «Дворянском гнезде» Тургенева приближается к светлому образу, созданному Пушкиным (опять раздались громовые рукоплескания). В третьем периоде своей деятельности великий поэт обнаружил поражающую способность усвоять дух всех других народов. В этой недосягаемой для Запада многосторонности г. Достоевский видит национальную славянскую особенность. Вместивши в себя всё богатство европейского духа, Россия и славянство внесут примирение в европейския противоречия. В заключение своей речи г. Достоевский делает такое обобщение:
[Цитируется речь Достоевского от слов «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное» до слов «…а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону»; см. с. 18–19 наст. изд.]
О силе впечатления, произведенного этой речью на слушателей, можно судить по тому, что зала буквально была свидетельницею истерических припадков: женщины плакали, а один молодой человек, потрясенный, стремительно, вне себя, бросился к оратору. Не найдя его на эстраде, потому что члены общества, вместе с оратором, удалились тем временем в смежную с эстрадой залу, молодой человек вбежал туда и упал без чувств; несколько минут продолжался этот его нервный припадок. Члены Общества не менее посторонних слушателей поражены были речью; они бросились, как один человек, поздравлять оратора и тут же провозгласили его своим почетным членом. Следовавший затем антракт заседания был довольно продолжителен. Публика недоумевала, изъявляла нетерпение. Но среди Общества, удалившегося в залу, шел вопрос: уж продолжать ли заседание. По окончании заседания снова потребовали г. Достоевского и поднесли ему лавровый венок, мысль о котором возникла тотчас же после его речи и осуществилась: присутствовавшие в собрании женщины сами увенчали автора романа «Преступление и наказание». <…>
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































