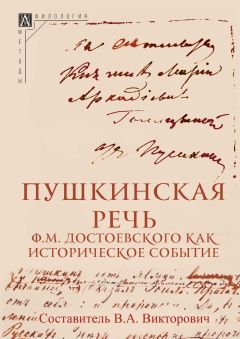
Автор книги: Владимир Викторович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
М.Е. Салтыков-Щедрин – А.Н. Островскому
25 июня
Пушкинский праздник произвел во мне некоторое недоумение. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ее пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки. И по свидетельству Тургенева (в Петербурге подагрой страдающего, но, кажется, сегодня уезжающего за границу), будто бы прибавляет: а если б они знали, что я этими руками перед тем делал!
Ар. Введенский
Литературный отдел. «Отечественные записки», 1880, № 6, июнь
(«Страна». 26 июня)
<…> Нам остается сказать несколько слов о письме из Москвы г. Г. У.: «Пушкинский праздник». Автор, всегда столь наблюдательный и не увлекающийся казовой стороной, показывает закулисную сторону пушкинского праздника, по нашему мнению, в высшей степени «согласно с обстоятельствами дела». То, что говорит он, без труда понятно каждому и могло быть угадано наперед. Весь смысл его сообщения в том, что праздник не был таким, каким должен был бы быть при других обстоятельствах. Незнание народом своего великого поэта – первое условие, лишавшее пушкинский праздник всеобщности и порождавшее недоумение и непонимание в народной толпе. Непривычка к праздникам мысли тоже обесцвечивала и портила до известной степени торжество: на нем мало было сказано живого и значительного. Г. У. указывает только на речи Тургенева, Сухомлинова и Достоевского как на имевшие какое-либо значение. В речи последнего, напечатанной в «Московских ведомостях», однако, он не без основания указывает на отсутствие… ну, логики, что ли; трудно сказать иначе. Странно, в самом деле, видеть, как Онегин и Алеко то являются народными типами-скитальцами, то ненародными беспочвенными искателями чего-то. Первый за ненародность «получает отставку» от Татьяны, а второй изгоняется за то же народом. Татьяна оказывается «всечеловеком» за то, что другому «отдана» и остается потому «отданной». – «Нанялся – продался», с иронией, совершенно законной, замечает автор письма. Так как в конце концов Татьяна является в речи г. Достоевского высшим выражением народного русского идеала, то справедливо, что речь г. Достоевского вышла «проповедью тупого, подневольного, грубого жертвоприношения». С характеристикой г. Г. У. мы вполне согласны и пользуемся поводом высказать это.
<В. П. Буренин?>
Мелочи. Профессор Градовский и Достоевский
(«Новое время». 26 июня)
Г. А. Градовский посвятил сегодня фельетон в «Голосе» речи г. Достоевского, сказанной на пушкинском празднике. Он останавливается на типах «скитальцев» и хочет объяснить, откуда взялись эти «скитальцы». По нашему мнению, из речи г. Достоевского это очень ясно видно и гораздо лучше даже, чем из фельетона г. Градовского, который вспоминает для объяснения этого явления Гоголя и его бессмертные типы:
«Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановские, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины – вот теневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многих иных. Это фон, без которого непонятны фигуры последних. А ведь эти гоголевские герои были русскими – ух, какими русскими людьми! У Коробочки не было мировой скорби, Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами, Собакевич насквозь видел своих крестьян, и они насквозь видели его. Конечно, Алеки и Рудины всего этого вполне не видели и не понимали; они просто бежали, куда кто мог: Алеко к цыганам, Рудин в Париж, умирать за дело, для него совершенно постороннее».
Со стороны профессора-юриста, не особенно сильного в литературе, может быть, и не особенно наивно наполнять фельетоны измышлениями, в которых едва ли кто нуждается, но историк литературы может заметить, что типы «скитальцев» понятны и без Гоголя, ибо литература второй половины XVIII в. с Новиковым, Радищевым, Фонвизиным достаточно выяснила уже тогда отрицательные стороны русской жизни. Но это не важно. Важнее гораздо то, что почтенный профессор решительно идет путем «придирок», а не путем анализа в своих комментариях к речи Достоевского. Выписывая из речи последнего слова: «Не в вещах эта правда, не вне тебя, не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою», – г. Градовский выводит из этих слов заключение, что Достоевский стоит за проповедь личной нравственности и даже «не намекает на общественные идеалы». Но ведь вышеприведенные слова суть не что иное, как известное философское правило: «познай самого себя», усовершенствуйся, укрепи свой характер, свою волю, просветись, научись; это проповедь науки, просвещения и самобытного развития, проповедь того пути, которым шли все народы, выставляя своих ученых, свои характеры, своих деятелей. Как же тут нет намеков на общественные идеалы? Познать себя самого значит познать очень многое, познать человека и его лучшие стремления. Но г. Градовскому нужно это для повторения либеральных истин, которых Достоевский не касался, ибо они выходят сами собой из его речи, а г. Градовский не может не повторить их, ибо больше у него за душою ничего нет: Европа их приготовила, а г. Градовский целиком их взял. Дело немудреное повторять чужие слова. Далее Достоевский говорит о будущем значении русского народа и русской интеллигенции, а г. Градовский победоносно восклицает: «не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли»! Отчего ж не мечтать? Мечты, направленные к высоким целям, благородны и возвышают человека. Не всё же смотреть себе под ноги и отыскивать, где погрязнее. И это называется полемикою! Мы далеки от того, чтобы считать речь Достоевского непогрешимою, но мы убеждаемся ежедневно, как ничтожны все его возражатели со своими шаблонными фразами и азбучными приемами.
В. Буренин
Литературные очерки
(«Новое время». 27 июня)
Пушкинское торжество, прошедшее с таким одушевлением и выразившее собою такое общее и полное признание великих прав поэзии и поэта на глубокое значение их для русского народа, – это торжество, кажется, не совсем понравилось «Отеч<ественным> зап<искам>». Почтенный журнал как будто бы строит некоторую снисходительную гримасу и желает сказать: «ну да, конечно, этот праздник, что был в Москве, сошел недурно, но в сущности тут ничего такого особенного не произошло, а произошло нечто больше смутное, чем либеральное в отечественно-записочном смысле». Такое заключение, по крайней мере, можно вывести, читая «Письмо из Москвы» г. Г. У., толкующего о пушкинском празднике с затаенной мыслью поуменьшить его значение и порасхолодить горячее впечатление, произведенное этим праздником на русское общество. Разумеется, для достижения своей цели сотрудник «Отечественных записок» пускает в ход дешевую развязность и тот хихикающий тон, который давно употребляется в почтенном органе и отзывается отчасти семинарией, отчасти либеральным подъячеством.
«Обилие всевозможных внешних ощущений, – так начинается либеральное хихиканье г. Г. У., – начиная ораторскою речью в честь Пушкина, в честь родственников Пушкина, в честь лицейских товарищей Пушкина и т. д. и кончая разварной стерлядью, тоже, кажется, a la Пушкин (хи, хи, хи, как остроумно) – всё это еще слишком сильно шумит в ушах, рябит в глазах, слишком сильно мешает сосредоточиться на скромных нравственных результатах, оставшихся в сознании присутствовавших на празднестве русских людей. Нечто “сербское” (как справедливо замечают “Современные известия”), то есть нечто (как полагаем мы) картонное, шумное, даже громкое (как звук пустой бочки) – хотя несомненно искреннее, то есть не выдуманное (?) – заглушает скромное, но значительное».
Несколько далее мы увидим, что признается г. Г. У. «значительным» в пушкинском празднестве; а покуда остановимся на его толкованиях общего характера пушкинского праздника. Праздник, видите, по мнению отечественно-записочного либерала, был в общем картонным, громким, но пустым, как звук пустой бочки. Картонность и пустота праздника обусловились новизной торжества и «полным незнакомством с основною его сущностью». Как во время сербской войны русское общество обуревалось бессознательным энтузиазмом по поводу «никому почти неизвестных братьев», так и теперь «в пушкинском торжестве желание чествовать, убеждение в необходимости чествования, хотя бы только ввиду того, что памятник Пушкину уже готов и давно уже пугает прохожих своим белым саваном, что, наконец, на чествование уже отпущены деньги и что г. Оливье уже приторговывает аршинных стерлядей – всё это совершенно “по-сербски” сгрудилось вокруг имени, которого великое множество действующих лиц совершенно не знали, а другие весьма солидно позабыли». Само собою разумеется, что все эти удивительные объяснения пускаются с целью либерально похихикать; иначе какой же смысл в них? Иначе разве можно бы было с такой тупой развязностью утверждать, что имя Пушкина или незнакомо большинству участвовавших в празднестве, или же забыто? Ведь большинство участвовавших были представители администрации, города, литературы, разных общественных учреждений и заведений. Как же можно им, этим представителям, приписывать столь ужасное невежество или забвение имени поэта, с которым они знакомы с детства, с которым их знакомили в школе? Положим, у нас появилось за последние двадцать-пятнадцать лет много новых знаменитостей литературы вроде гг. Глебов Успенских, Елисеевых, Михайловских и других. Положим, великие критики вроде Писаревых, Зайцевых старались доказать не только бесполезность, но даже вред поэзии вообще и пушкинской в особенности, положим, так называемое молодое поколение «последних формаций» в невежестве относительно искусства и литературы дошло до степени действительно замечательной, так что самые деланные и наименее искренние стихи Некрасова начало предпочитать наиболее поэтическим вдохновениям Пушкина и Лермонтова. Всё это так; но за всем тем слава гг. Успенских, Елисеевых, Михайловских, критика Писаревых и Зайцевых, коснение в невежестве молодого поколения не могли убить известности великого поэта, не могли заставить солидно забыть его имя. Это-то уж, кажется, пушкинский праздник доказал воочию, как ни хихикайте над ним, с семинарской грубостью сопоставляя лицейских товарищей поэта с аршинными стерлядями.
Скажут, что хихикатель «Отечественных записок», толкуя о полной неизвестности имени Пушкина, имеет в виду преимущественно народную массу. Но народная масса не только у нас, но и где угодно плохо знакома с именами поэтов, художников и вообще деятелей искусства и науки. Спросите вы французского простолюдина не только о Корнеле или Мольере, но даже о популярном и до сих пор здравствующем Викторе Гюго, и, конечно, «большинство» простолюдинов отзовется неведением об этих великих мужах. Стало быть, нечего хихикать особенно по этому поводу у нас. Г. Г. У. тем не менее считает долгом пройтись и на этот счет.
«Будь это (то есть пушкинское) торжество чем-нибудь вроде крестного хода, напоминай спасителя отечества вроде Минина и Пожарского, будь это просто пожар (какое остроумие! даже чуть ли не с поползновением на неудачный каламбур) – всё это известно и знакомо последнему ребенку (?!). В подобных привычных случаях всякий русский человек, сановник он или пожарный солдат, купец, мещанин, простой уличный мальчик, обыкновенная баба (какая же это еще необыкновенная баба бывает), продающая калачи, кухарка – словом, люди всех званий и состояний отлично знают, где и как кричать, когда бросать вверх шапки (на пожаре-то?) и т. д. Всё и всем известно. Но Пушкин… Что это такое? Почему торжество перед обыкновенным барином не только без палки (да ведь Пушкин-то с палкой изображен г. Опекушиным) или сабли в руках, но даже и без шапки? Шапку снял и держит в руке. Кто он такой? Писатель! Что же это означает?»…
Эти хихиканья отечественно-записочного либерала, пускаемые, очевидно, с целию намекнуть на то, что, мол, как это у нас до сих пор всё дико, с одной стороны, и как, с другой, наш народ мало приучен к мирным торжествам в честь неофициальных деятелей – эти либеральные хихиканья, говорю я, так же правдивы и уместны, как и соображения о картонности и пустоте праздника. Народ наш вовсе не так уж туп, как думают о нем хихикающие либералы, и соображает значение многого иногда гораздо скорей и правильней, чем эти господа. Мне случилось говорить с разными «простолюдинами», собравшимися в день открытия памятника Пушкину поглазеть на фигуру поэта, которую, по словам г. Г. У., будто бы иные из «простолюдинов» принимали за идола; мне случилось слышать их взаимные беседы о памятнике: «простолюдины» совсем не так тупы оказывались в разумении, как полагает отечественно-записочный либерал. Один «простолюдин» – это был парень, даже коли хотите, еще мальчик лет девятнадцати – даже удивил меня замечательным мнением о поэте.
– Ты знаешь, кому памятник поставлен? – спросил я парня.
– Пушкину, барину.
– А кто он был?..
– Кто был-то?.. Как его?.. Сочинитель был.
– А за что ему памятник поставлен.
– Народ, говорят, вишь, обучал. Мозголовен больно был. Да рано помер. Толкуют, будто тридцати пяти годов. Другой барин его убил. Не знаю, правда ли?
Я сказал, что правда, и объяснил вкратце обстоятельства дуэли и смерти Пушкина. Парень выслушал с видимым любопытством.
– Вишь, ты, Господи, грех какой… Поди кабы не помер рано, так много бы еще народу образовал.
Да, действительно, продли Бог Пушкину веку, он бы, пожалуй, «образовал» своей поэзией даже отечественно-записочных либералов, и притом до такой степени образовал, что они бы не стали приурочивать праздник в честь этой поэзии к своему затверженному, узенькому либерализму, не видящему ничего дальше своего носа и толкующему всё на свой салтык. Именно такие свойства, т. е. исключительное созерцание кончика собственного либерального носа и узкое толкование на свой салтык обнаруживает г. Г. У. в изысканиях того «значительного», что дал «картонный» и «пустой» пушкинский праздник.
Г. Г. У. видит помянутое «значительное» в речах И. С. Тургенева и особенно в знаменитой речи Ф. М. Достоевского. Тут бы не было никакой фальши, потому что эти две речи, и преимущественно вторая, бывшая «событием» пушкинского праздника, так сказать, наиболее оттенили его значение, наиболее выразили его содержание. Но фальшь отечественно-записочным либералом пущена в узком толковании речи г. Тургенева, в положительном искажении смысла речи г. Достоевского и, главное, в навязывании публике, рукоплескавшей этим речам и сделавшей ораторам овации, своих собственных отечественно-записочных впечатлений и идей. По объяснениям г. Г. У. выходит, что обоих ораторов приветствовали якобы за то более всего, что один из них как будто оправдал quasi-либеральное «охлаждение внимания» к Пушкину, «забвение поэта», господствовавшие в недавние еще годы; а другой якобы воспользовался пушкинскими типами и пушкинским поэтическим авторитетом для признания нравственно-законными и даже народными тех стремлений, которыми отличились так называемые молодые поколения «последних формаций»! Насчет настоящей сущности и настоящего смысла речи г. Тургенева покуда мудрено судить: из нее в печати известны только отрывки. Когда она появится в «Вестнике Европы» вполне, тогда о ней и можно будет составить настоящее понятие. Но несомненно однако же и теперь, что не одним либеральным оправданием временного «забвения поэта» Ив. С. Тургенев пленил в своей речи слушателей: он пленил их тем, что провозгласил Пушкина великим художником-поэтом, впервые поставившим нашу литературу на путь прямодушной и честной простоты, на путь той реалистической правды, которую она, несмотря на свою молодость, усвоила так хорошо, что ей в этом отношении могут позавидовать даже иные европейские литературы. Впрочем, повторяю, подтасовка отрывков из речи г. Тургенева в письме отечественно-записочного либерала не может быть изобличена в должной ясности прежде напечатания полной речи знаменитого беллетриста. Но вот ложное толкование смысла речи г. Достоевского другое дело: речь эта воспроизведена «Московскими ведомостями» вполне, и любопытные читатели могут сравнить, то ли сказал г. Достоевский, что ему приписывают в «Отечественных записках», могут оценить справедливость измышлений, в которых разливается столь усердно г. Г. У. в интересах узкого и льстивого либерализма, кадящего пресловутому кумирчику «молодого поколения».
Г. Достоевский, как знают читатели, на основании «отрицательных» типов Алеко и Евгения Онегина выяснил историческую законность русского скитальца-всечеловека и затем указал, на основании пушкинских же идеалов, что этот отрицательный тип найдет примирение и успокоение своих всечеловеческих стремлений лишь в служении пред народом, лишь в осуществлении «Христовой заповеди», которую чтит народ и которую должен принять и «скиталец», отрешившись от различных навеянных разрывом с народом порываний, мучений и сомнений. Я не стану говорить о том, насколько мысль г. Достоевского справедлива вообще и насколько правильно выведена она из пушкинского творчества: это вопрос довольно сложный, и о нем надо или много писать, или ничего. Да в данном случае совсем не в этом вопросе дело: в данном случае дело в том, что г. Достоевский хотел провести и провел в своей речи именно вышеизложенную идею и в том, что этой идеей слушатели его речи увлеклись, за нее сделали ему горячую овацию. Г. Г. У. извращает суть этого факта: признавая только первую половину мысли г. Достоевского и отметая ее заключительный вывод, он заверяет, что рукоплескавшая публика поняла и оценила речь «именно в том смысле», как понял сам он, г. Г. У. «Какое-то замечание, – развязно докладывает отечественно-записочный либерал, – сделанное г. Достоевским насчет какого-то смирения (“Смирись, гордый человек!”), будто бы необходимого для этого скитальца в то время, когда и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой заботой (?), это замечание прошло почти мимо ушей». Как вам это, читатель, покажется? Г. Г. У. не объясняет, мимо чьих ушей прошло то место речи г. Достоевского, где говорится о смирении: если это были уши гг. Глеба Успенского и Елисеева, которые, как извещали газеты, были депутатами от «Отеч<ественных> записок», то, быть может, он и прав: ушам этих почтенных либералов могло показаться «каким-то замечанием» о «каком-то смирении» едва ли не главная мысль речи, на которую г. Достоевский напирает очень крепко и которая принадлежит к категории его излюбленных идей. Что эта мысль не была «каким-то замечанием», а именно полной и очень определенной мыслью, выводом – это очень легко доказать: стоит только привести цитату из напечатанной речи. Вот то место речи, где оратор приводит сказанную мысль, разбирая тип Алеко:
[Цитируется речь Достоевского от слов «Фантастический и нетерпеливый человек…» до слов «Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить”»; см. с. 9–10 наст. изд.]
Каждый, кто только не поклоняется божку мнимого либерализма, согласится, что в этом горячем месте речи г. Достоевского, с одной стороны, заключается сделанное на основании пушкинской поэмы объяснение исторической законности тех скитальческих стремлений, какие, вследствие оторванности русского человека от народа, присущи русской интеллигенции, а с другой стороны, разоблачение их несостоятельности, протест против них во имя народного идеала смирения, даже, коли хотите, резкий урок пресловутым либералам последней формации. Нужна была некоторая благородная смелость, чтобы провозгласить подобный протест и урок в зале, где было много представителей из так называемого молодого поколения. И г. Достоевский нашел в душе своей эту благородную смелость и провозгласил свой искренний протест, и его честное слово проникнуто было таким убеждением правды, что он вызвал наибольшее сочувствие именно в этом «молодом поколении». По-видимому, этот факт можно толковать в каком угодно смысле, но отнюдь не в узколиберальном. И однако же отечественно-записочный либерал развязно искажает суть факта и придает ему совсем не то значение, какое он имел на самом деле.
[Далее цитируется статья Г. Успенского от слов «Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения…» до слов «Тот, кто упал без чувств после речи г. Достоевского, наверное, упал потому, что понял ее так, как мы старались передать»; см. с. 188–189 наст. изд.]
Вот что называется передернуть ради либерализма, вот что называется ловким средством послужить для мнимо либеральной цели, вот образчики лицемерной лести и заискивания перед пресловутым «молодым поколением» для стяжания либеральной репутации себе и своему журналу. И как подумаешь, это либеральное лицемерие пускается по поводу искреннейших слов г. Достоевского: ловко, нечего сказать! Но этого еще мало, что г. Г. У. передергивает сущность факта, он простирает, как сейчас увидим, свою развязность еще далее, до степени положительно возмутительной. Приписав речи г. Достоевского ложь, которой в ней нет, отечественно-записочный либерал сообразил, что ведь публика уже прочитала эту речь в печати и может, следовательно, оценить всю прелесть передержки, совершенной им, либералом. Что же он делает? Он вдруг, в постскриптуме к своему письму, набрасывается на печатную речь г. Достоевского, разбирает ее, глумится над ней, находит ее трусливой, нелепой; он говорит, что «хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано им, г. Г. У., но что кроме этого – в ней есть и еще нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи на нуль». Вот, подумаешь, чудо какое: слушал речь г. Г. У. ушами и в ней признал нечто «значительнейшее» из всего того, что говорилось на пушкинском празднике; прочитал он ту же речь глазами, и речь оказалась нулем! Изумительная штука, не правда ли? Да, для обыкновенного смертного, но не для отечественно-записочного либерала. Либералы этого сорта, как известно, хлопочут только о том, чтобы у них был соблюден в чистоте либеральный мундир, утвержденный в шестидесятых годах; а честь этого мундира, по старым традициям, нисколько не марается тем, что, например, носитель мундира сперва исказит мысль писателя, ради либеральной цели припишет ему собственную ложь; а потом тут же, сейчас же возьмет да и обругает этого писателя, обзовет его трусом, зайцем, пугающимся «полного развития» идей, признанных за спасительные мундирными либералами. Так именно и поступает г. Г. У. с г. Достоевским. Он развязно и даже, коли хотите, несколько нагло начинает уверять, что почтенный писатель «к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества и проч. ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства. Эти неподходящие черты (т. е. вероятно, не подходящие под мерку мундирных либералов) он разбросал по всей речи»; он уверяет, что «заячьи прыжки» приводят г. Достоевского к проповеди «полнейшей мертвечины»; он хихикает, что «помаленьку да полегоньку, с кочки на кочку, прыг да прыг, всезаяц мало-помалу допрыгивает до непроходимой дебри, в которой не видать уж и его заячьего хвоста». Всё это милое заячье остроумие сыплется на г. Достоевского, видите ли, потому, что он осмелился в своей речи высказать совсем не то, что послышалось длинным ушам отечественно-записочных либералов, что он осмелился назвать скитания Алеко на лоно природы, к диким людям, живущим без закона, таким же «фантастическим деланием», как и скитания новейших скитальцев в области социализма; что он осмелился принизить такого рода «фантастические делания» перед идеалом народного смирения, порекомендовать господам «фантастическим делателям» прежде всего поисправить самих себя, научиться самим правде (да и вообще поучиться, следовало бы прибавить), а потом уж выступать в качестве учителей и исправителей народа и человечества. Ведь это всё со стороны г. Достоевского было заячьей трусостью – провозгласить с кафедры в лицо юным, пожилым и маститым либералам такое нелиберальное поучение, да так убежденно провозгласить, что иные из них правдой, высказанной оратором, были потрясены до обморока. Да, да, это заячья трусость! А вот это храбрость, львиная храбрость со стороны отечественно-записочных либералов – утверждать, что «молодое поколение» рукоплескало г. Достоевскому, подносило ему венки, сделало ему овацию не за действительное содержание его речи, а за искаженное толкование ее в мундирно-либеральном вкусе. Это вот львиная храбрость – утверждать, что все слушатели г. Достоевского в зале московского Благородного собрания 8 июня [12]12
В тексте ошибочно: «28‑го мая» (ред.).
[Закрыть] слушали именно ушами отечественно-записочных либералов и понимали слова оратора именно узкими головами этих либералов. Нет, это даже не храбрость львиная, это даже нечто более прелестное – это, как я уже сказал, мундирно-либеральная наглость.
Какую бы, однако же, львиную храбрость или наглость в передергивании смысла и значения пушкинского праздника вообще и речи г. Достоевского в частности ни обнаруживали господа отечественно-записочные либералы, но настоящий смысл праздника все-таки останется ясным для всех, кто смотрит на вещи честно и прямо и не желает подкуривать различным ветхим и опошлевшим кумирчикам либерализма. Смысл этот вот в чем заключается: общее признание великого народного значения поэта и понимание его идеалов более глубокое, чем то, какое до сих пор допускал наш ходячий формальный либерализм, знаменуют переход нашего общественного развития с пути поверхностного и внешнего европейничанья и игры в отрицательные стремления на путь развития национального, на путь настоящего народного дела, не кричащего, не эффектно-фантастического, а скромного и реально-правдивого. Весь недавний период, пережитый нами, с его забвением и даже заплеванием таких чистых родников национальности, каким, например, является пушкинская поэзия, поучительная и глубокая для русских людей несравненно более, чем всякие мнимо-гражданские и мнимо-либеральные, внешним образом заимствованные с Запада веяния, – весь этот недавний период с его заблуждениями, впрочем, естественными и объяснимыми исторической необходимостию, пережит уже окончательно. Если мы не хотим бесплодно повторять зады, толочься на одном месте, мы должны отрешиться от той «линии» внешнего прогресса и европейничанья, на которой толклись так долго, полагая, что она-то именно и приведет нас в счастливую Аркадию, потому что эта «линия» обставлена красивыми декорациями в самом «последнем» французском, немецком или ином вкусе. Сознание этой необходимости, как видно, даже пробудилось и в том «молодом поколении», из которого у нас так долго делали, да и теперь еще продолжают делать непогрешимого кумирчика и указателя направления нашего развития. По крайней мере, на такое пробуждение намекает то обстоятельство пушкинского праздника, что правдивое слово г. Достоевского было выдающимся «событием» и что это честное слово произвело особенно потрясающее впечатление именно на юнейший элемент аудитории г. Достоевского. С появлением Пушкина русская жизнь и русская литература вышли на самобытно-народный путь; с «возрождением» его великого поэтического значения, с «возрождением», совершившимся так торжественно на глазах у целой России, русская жизнь и литература снова, после временного блуждания околицей, должны возродиться и принять национальное развитие. Вот в чем общий смысл пушкинского праздника, а вовсе не в том, что будто бы фантастические стремления «молодежи» были во имя Пушкина признаны на этом празднике как «предопределенные» и лежащие «в сокровеннейших свойствах русской национальности». Такое толкование – одна из тех мнимо-либеральных лжей, которых наплодилось у нас за последние годы множество, которые появились у нас в качестве необходимых назойливых мух в жаркое время российского прогресса, которые назойливо жужжат и теперь, воображая, что они не бесполезным жужжанием только занимаются, а пашут народную ниву вместе с волом-народом, на рогах которого восседают они с важным самодовольствием.
P. S. Настоящий этюд был уже окончен, когда мне пришлось прочитать в «Голосе» фельетон г. А. Градовского, трактующий о той же речи, которая подала повод отечественно-записочным либералам, с одной стороны, к признанию ее «значительности», а с другой, к глумлению над нею. Г. Градовский, конечно, не глумится над речью, ибо он человек тонкий и «осторожный», но он пользуется ею как поводом для заявления о своем либерализме и европеизме. Во вчерашней заметке «Нового времени» уже отчасти указано, каким способом производит почтенный профессор эту невинную операцию. Но выказывание либерализма одно дело, а правда – дело другое, и вот ради правды-то и следовало бы г. Градовскому не беспокоить себя и читателей теми якобы вопросами, с которыми он праздно обращается к г. Достоевскому и которые, в сущности, не серьезные вопросы, а, так сказать, только недоумения почтенного либерала. Ему, например, «представляется прежде всего недоказанным, что “скитальцы” отрешились от самого существа русского народа, что они перестали быть русскими людьми». Да ведь г. Достоевский и не думал возбуждать сомнения в этом. Напротив, он говорит, что «скитальцы» по преимуществу русские люди; но русские люди, вследствие исторических условий оторвавшиеся от народной почвы и являющиеся былинками, носящимися над ней и потерявшими веру в народный идеал. Объясняя Онегина, г. Достоевский говорит, что Онегин «любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность – и тогда, как и теперь немногих – смотрит с грустною насмешкой». Вот в этом и заключается «отчуждение» от народа и этим-то либеральным скептицизмом «скитальцев» определяются «пределы их отрицания», точного указания которых так жаждет г. Градовский. Вот этим-то неверием в возможность какой бы то ни было работы на родной ниве объясняются их праздные скитания, искание «дела» на стороне, в Европе, и даже пожертвование своей жизнью за «постороннее дело». В этом-то и заключается до наших дней суть российско-западнического либерализма: у нас всё скверно и ничего нельзя сделать без помощи европейских «идей». Даже у самого г. Градовского находим черту такого неверия: мы-то, говорит он, неразвитые, не справившиеся до сих пор «с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным-давно», мы-то вдруг осмеливаемся верить в наше «всечеловеческое» призвание, мы-то смеем думать, что можем быть чем-то самостоятельным, что из Назарета может изойти пророк, что в русском народе есть нечто самобытно великое, во что надо вникнуть, над воспринятием чего потрудиться, для пользы и развития чего следует самостоятельно поработать, оставив праздные скитания за европеизмом. Да как это можно, помилуйте! Ведь это противоречит всяким традициям либерализма. Ведь это гордость худшая «гордости» скитальцев: это «гордость» уже не частная, а общая, национальная! Все могут гордиться такой гордостью: французы, англичане, немцы, даже поляки, даже жиды; а русским это не пристало. Не доросли мы до этого, видите ли, «не дозрели»: аттестата зрелости нам еще, по совести, не могут выдать компетентные экзаменаторы либерализма вроде гг. Градовских, Бильбасовых и других патриотов из инородцев.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































