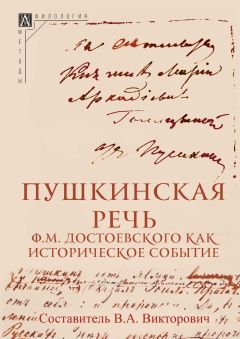
Автор книги: Владимир Викторович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
М.Е. Салтыков-Щедрин – Н.К. Михайловскому
27 июня
<…> В июньской книжке прочтите статью Успенского о Пушкинском празднике. Вся вторая половина необыкновенно легкомысленна и противоречива. Усп<енский> не додумался до того, что и Дост<оевский>, и Тург<енев> надувают публику и эскамотируют Пушкинский праздник в свою пользу. Речь Достоевского, напечатанную в «Моск<овских> вед<омостях>», при сем прилагаю, а речь Тург<енева> прочтете в «Вестн<ике> Евр<опы>» (июль). Хорошо, кабы Вы написали об этих речах в июльской книжке «Отеч<ественных> зап<исок>». Пожалуйста, если можете. <…>
М.Н. Климентова-Муромцева – Ф.М. Достоевскому
27 июня
Желаю, чтобы Ваша муза вдохновляла бы Вас всё более и более и давала бы мне почаще возможность извлекать из Ваших сочинений такую же пользу, какую надеюсь получить от чтения Вашей последней речи. Татьяна более чем когда-либо стоит передо мной, как живая, и подгоняет изобразить себя как можно правдивей. Кстати, «Евгений Онегин» стоит на репертуаре будущего сезона…
Вл. Михневич
На Пушкинском празднике в Москве
(«Живописное обозрение». 28 июня)
<…> Вот память переносит нас в другой, «исторический» зал московского Благородного собрания. Колоссальные, под белый мрамор колонны, высокие стены, бессчетное число рядов стульев, сплошь занятых интеллигентной публикой… Толпы публики виднеются и с боковых галерей и с хор… Огромный зал, точно улей, дышит, гудит и рокочет от толпы в несколько тысяч человек; но вот он мгновенно смолк и притаил дыхание… пролетела бы муха, и ту можно было бы услышать… В переднем конце залы, перед сценой, украшенной довольно аляповато расписанными подзорами, на которой белеет, среди зелени растений и лавровых венков, бюст поэта, восседает почтенный синедрион заслуженных членов Общества любителей российской словесности. Среди них и все наши литературные светила: Тургенев, Достоевский, Аксаков, А. Потехин, Майков, Полонский, Островский, Писемский et cetera [13]13
И так далее (лат.).
[Закрыть]… Словом, чуть не вся насущная умственная «соль» русской земли – полное созвездие знаменитостей науки и литературы.
Чередуясь, один за другим всходят они на кафедру – и сколько ума, таланта, знания и остроумия проносится в живом слове под этими громадными сводами и жадно схватывается внимательной, чуткой и отзывчивой толпой!
И здесь опять, как и везде, наибольшая дань уважения и восторга отдается И. С. Тургеневу. Читает ли он свой прелестный по языку и по мысли реферат о Пушкине, доказывая универсальность его таланта, декламирует ли на литературно-музыкальном вечере его дивные стихотворения, публика неизменно встречает его выражением самого горячего поклонения, и нет у него соперников по громадной популярности… Только на мгновение нашелся такой соперник, который сумел своей оригинальной блестящей талантливостью и своей подкупающей искренностью завоевать такое пламенное одобрение публики, какого по степени температуры не доставалось никому. То был Ф. М. Достоевский, вызвавший просто бурю своим чтением во втором (последнем) заседании Общества любителей словесности.
Г. Достоевский занялся характеристикой типичных особенностей героев самого гениального и наиболее зрелого произведения Пушкина, «Евгения Онегина», которое следовало бы назвать, по его мнению, «Татьяной». Он провел необыкновенно тонко и остроумно психологическую параллель между характерами Татьяны и Евгения. Преклонившись перед первой как перед живым, рельефным типом русской женщины, нравственные корни которой питаются плодотворным соком народного духа, лектор кругом осудил и отрёк тип Евгения как вечного, праздного и гордого «скитальца», чуждого своей земле и своему народу и являющегося продуктом той «оторванности от почвы», которую создала на Руси петровская реформа. Г. Достоевский подобрал черты этого типа последовательно, во все эпохи «петербургского периода» включительно до наших дней, в лице, например, современных «нигилистов».
Но он верит в мощь и животворную силу русского народного духа и заканчивает свое чтение вдохновенным пророчеством, что русский человек в конце концов явится тем идеальным «всечеловеком», который вместит в себе все другие человеческие разновидности и силою своей любви и смирения умиротворит вселенную…
Г. Аксаков, говоривший вслед за г. Достоевским, совершенно верно заметил, что чтение его есть своего рода квинтэссенция славянофильского учения. Да, г. Достоевский объявился ревностным, вдохновенным проповедником славянофильства, и, без сомнения, его чтение не выдержит строгой критики; но публика, да еще в такие торжественные минуты, плохой критик. Ее всецело подкупила необыкновенная талантливость лектора, его остроумие, а главное, его какая-то, можно сказать, вдохновенная искренность… Овация, сделанная ею г. Достоевскому, превзошла всё когда-нибудь виденное нами в этом роде. Особенно восторженно отнеслись к нему женщины. Они махали ему платками, вставали на стулья, а некоторые доходили до истерики… Охвативший всех экстаз дошел до своего апогея, когда Тургенев на виду у всех обнял Достоевского и когда, вслед за тем, Общество любителей торжественно провозгласило Федора Михайловича своим почетным членом.
4 раза, утром и вечером, в течение 2 дней, сходились мы в зале Благородного собрания, чтобы слушать хвалу бессмертному поэту в стихах и в прозе, в песнях и в звуках музыки, исполненных светилами нашей науки, литературы и искусства. 4 раза потрясалась зала такими бесконечными исступленно-восторженными аплодисментами и кликами возбужденной публики, что, право, удивительно, как она не обрушилась. И, несомненно, никогда в стенах этой залы не дышала и не волновалась публика более чуткая, более зрелая и интеллигентная, и никогда в ее атмосфере не носилось столько осмысленных, единодушных общественно-прогрессивных упований, стремлений и надежд…
Вот чем был велик и знаменателен пушкинский праздник и вот почему в некоторой доле прав тот публицист, который сказал на днях в своей газете: «Верьте мне на слово – несчастный тот человек, который не был в Москве на пушкинском празднике!..».
Незнакомец <А. С. Суворин>
Недельные очерки и картинки. Кое-что о Москве и провинции
(«Новое время». 29 июня)
<…> Выше я говорил, что если будут праздновать кого вместе с Пушкиным, то Тургенева и Достоевского. Действительно, их праздновали, и это празднование имело решительно политическое значение в нашей небогатой жизни. Писатель снова вступил в свои права, снова явился политическим человеком. Напрасно одно время мечтали, что наука явилась руководительницею общества, что люди науки, популяризаторы ее заменят писателя, литератора. Увлечение такое было, но оно прошло как мимолетное, как вызванное случайными обстоятельствами. Наука бесстрастна, ее истины сухи и отвлеченны или слишком практичны и односторонни; они не дают достаточно пищи чувству, сердцу, фантазии, не дают ее по крайней мере настолько, насколько могут дать художественные создания выдающихся писателей и поэтов. Кроме того, художник действует на массу, на всех читателей; ученый – на тех, кто учится, в кругу своей аудитории; ученый подготовляет взрослого и зрелого читателя, писатель-художник показывает ему живых людей в их стремлениях, в их внутренней и внешней жизни, в их идеалах. Наука и ее истины доступны немногим, художественные создания – всем, кто читать умеет. К тому же наука в своих выводах, в самых понятных и привлекательных для массы сторонах своих входит и сама собою в художественные произведения. Когда с недавнего времени снова завелись чтения, когда стали являться на них Тургенев, Достоевский, Салтыков, снова обозначилось, что писатель руководит обществом, а не ученый, не популяризатор науки. Так было везде, так останется и у нас. На пушкинском празднике это поклонение писателю-художнику, эта благодарность ему сказалась очень ярко и даже не без комического элемента, который, как известно, почти всегда присутствует в восторженных заявлениях.
Тургенев и Достоевский в некотором отношении два полюса, и между ними, несомненно, существует личное соперничество, может быть, даже некоторая неприязнь, выходящая из разности их убеждений. Такое же соперничество существует, несомненно, и в публике, которая вся убеждена, что оба писателя необыкновенно талантливы, но не всей публике оба они одинаково нравятся. Тут публика решительно делится, хотя всегда отдает должное их талантам. Лучше всего это было бы проследить на женщинах как на натурах более непосредственных и более увлекающихся, чем мужчины, но предмет этот слишком тонок и, пожалуй, сразу оборвется. Как бы то ни было, на празднике это поклонение сказалось так ярко, что дело доходило до слез восторга и даже до целования рук у этих писателей; оно проявилось как два направления, одно – либеральное, другое – если можно так выразиться – народное. Либеральное прежде всего выразилось в университете, где Тургенев был провозглашен почетным членом и где о Достоевском даже не вспомнили, как не вспомнили о Толстом (г. Анненков тоже получил почетное членство, вероятно, как биограф Пушкина), потом на чтениях и литературно-музыкальных вечерах. Первые два дня Тургенев решительно царствовал – восторги не только неслись к нему, но, так сказать, давили его, и он мог сказать, что сыт ими по горло. На первом литературном вечере Достоевский был встречен очень горячо, задушевно, но не так, как Тургенев. Во время литературного обеда овации распределились ровнее, доставшись на долю Островского, Тургенева, Юрьева и др., которые предлагали мотивированные и заранее условленные тосты; Достоевский не участвовал в произнесении этих тостов – распорядительная комиссия обошла его в этом. Впрочем, я слышал, что ему предложили произнести тост за педагогов как истолкователей Пушкина, но он отказался и хорошо сделал. В самом деле, какие это педагоги истолковали Пушкина? Они его унижали; составляя хрестоматии и наполняя их его произведениями, они собирали обильную дань с «чужого имения», но истолковывали его совсем превратно; он являлся у них камер-юнкером, художником, но человеком без мысли, барином, занимавшимся писанием звучных стишков. Мнения Писарева были усвоены педагогами как бесспорные и либеральные, а либерализм всегда подкупает педагога, обязанного действовать на молодую душу: когда за душой у педагога ничего нет своего, ни мысли, ни изучения, то чего проще – явиться человеком, парящим, хоть и на чужих крыльях, выше великого поэта? Педагоги и вообще-то способны следовать моде, как люди односторонне развитые. Вот и вышло у них, что не только Некрасов, но даже Никитин будто более значат, чем Пушкин. Так как г. Поливанов педагог и распорядитель литературного празднества, то и тост за педагогов был бы кстати с его точки зрения. Но он не вышел. Тургенев действительно произнес тост за «истолкователей Пушкина», но это относилось к критикам, к Белинскому, Анненкову и др., что он тщательно и пояснил. Педагоги, таким образом, остались с носом.
Когда официальные тосты окончились, то и Достоевский говорил, но уже в кругу не обширном. Напомнив о том, что покойный император Николай назвал Пушкина самым умным человеком в России, и о том, что император сам был умным человеком – «я имею право об этом говорить», добавил он, Достоевский провозгласил тост «в память Пушкина как величайшего и гениальнейшего художника, в память Пушкина как чистейшего и честнейшего русского гражданина, в память Пушкина как умнейшего русского человека во всем нашем столетии, если не самого умного». Тост был принят с восторгом. Тургенев и проф. Ковалевский стояли в толпе в качестве наблюдателей… Тост этот был преддверием той речи, которую произнес Достоевский на другой день и которая действительно явилась событием и похоронила под собою всех говоривших. Вышло что-то никем не ожиданное, в особенности для корифеев, которые уже совсем расположились царствовать, не ожидая конкуренции ниоткуда. Так бывает иногда в опере. Идет она с успехом, все поют хорошо, первый тенор разливается соловьем и получает обильную дань рукоплесканий. Вдруг является дебютант, новый певец, и берет такую удивительно высокую, чистую и неожиданную ноту, вносит в исполнение так много свежего чувства, искренности, страстности, что публика сначала недоумевает и вдруг, забывая всё и всех, венчает нового певца таким искренним восторгом, что первый тенор, кусая себе губы, считает нужным поздравить с успехом товарища. Именно это самое вышло с Достоевским. Если собрать все овации вместе Тургеневу и другим, все-таки не представишь себе ясно того пламенного восторга и умиления, которые овладели публикой. Чем-то деланным, напыщенным, виляющим, чем-то рассчитанным на известный эффект показались некоторые предшествующие речи перед речью Достоевского, дышавшею необыкновенной искренностью и сказанною льющимся в душу тоном честного и убежденного проповедника. Такой новой ноты по отношению к Пушкину еще никто не брал. Это был апофеоз праздника, высшая его точка…
Подробности известны. Женщины поднесли ему венок. Вечером молодые люди, как бы в пику женщинам, поднесли совершенно такой же венок Тургеневу: надо, мол, поравнять их, но такие моменты, как описанный, бывают только раз, и их нельзя сочинить. Здесь мне говорили, что речь не производит в чтении того впечатления, какое она произвела в собрании, а г. Г. У. в «Отеч<ественных> зап<исках>» заподозревает даже г. Достоевского в том, что в печати она явилась в ином виде. Последнее совершенная неправда, что касается первого, то оно понятно: обстановка и искренний тон чтеца сообщали речи более рельефности.
Между тем, часть публики рисковала совсем не услышать Достоевского благодаря распорядителям. Дело в том, что заседание было назначено в 2 часа, а началось почему-то раньше, и двери были заперты. Человек сто ожидало у запертых дверей с четверть часа и, вероятно, прождали бы вплоть до перерыва, если б не случилось, что дети Пушкина опоздали несколькими минутами. Благодаря им г. Поливанов смиловался и пустил эту сотню человек в залу в середине речи г. Чаева. Полицеймейстер оказался, слава Богу, сговорчивым.
На этом пока кончу, надеясь возвратиться к прерванному рассказу на этих же днях…
S
Открытие памятника Пушкину в Москве. (Из записной книжки депутата)
(«Древняя и новая Россия». № 6. С. Xvi – xxii)
<…> Приманкою второго заседания Общества любителей российской словесности, 8‑го июня, была оставшаяся в долгу речь И. С. Аксакова и затем значившаяся в программе речь Ф. М. Достоевского. Но последнему суждено было затмить всё прочее в этом заседании: если первое заседание можно было назвать по справедливости тургеневским бенефисом, то второе, говоря без преувеличения, было триумфом Достоевского. Мы уверены, что распределявшие очередь чтений непременно отнесли бы речь Достоевского к самому концу заседания, если бы они предвидели, какой громадный эффект произведет она на слушателей, как затянется от нескончаемых оваций самое заседание и как вследствие этого ослабнет интерес к другим лекторам. Пестрый рисунок из гиперболических узоров, не без искусства набранных из нашей былинно-сказочной народной поэзии г. Чаевым для характеристики гения Пушкина, прошел зауряд: сближение творчества Пушкина с работою «богатыря-оратая», порывов его фантазии с полетом ковра-самолета и т. п., даже самая интонация голоса г. Чаева, весьма близкая к простонародно-русской, – всё это было, пожалуй, недурно, но мало прибавило нового к тому, что уже слышали раньше об этом предмете, и скорее бы годилось для литературно-художественного вечера, чем для настоящего заседания, которое все-таки главным образом должно было иметь вид ученой беседы. Впрочем, речь г. Чаева была напутствована аплодисментами.
Новый гром продолжительных рукоплесканий возвестил о появлении на кафедре Ф. М. Достоевского. Знаменитый романист был, можно сказать, в ударе: фигурка его как-то приосанилась; голос был звучнее, речь плавнее, чем на предшествовавшем литературно-художественном вечере; выражение лица было ясное, нередко по нему пробегала улыбка, по временам не случайно направленная в известную сторону (как, например, в тот момент, когда он сделал оговорку, что разве только Лиза в «Дворянском гнезде» И. С. Тургенева может равняться с прекрасным образом русской женщины, созданным Пушкиным в его Татьяне).
Ф. М. Достоевский взялся указать на ту сторону поэзии Пушкина, которая роднит его с нашим настоящим; в которой он, поэт прежнего поколения, верно угадал и нарисовал одну роковую черту нашего русского характера, живущую в нас поныне и надолго неизгладимую в будущем, – это несчастное скитальческое искание всемирного счастья на земле: «Русскому скитальцу необходимо всемирное счастье: дешевле он не помирится», – сказал Ф. М. Достоевский, и гром рукоплесканий произвел продолжительную паузу. Мысль свою развивал он на довольно остроумном анализе двух пушкинских типов – Алеко в «Цыганах» и Евгения Онегина в романе того же имени, между которыми он находит очевидную преемственность, продолжающуюся даже до сего дня. «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только в конце концов (это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите.» Сам Пушкин, впервые подметивший эту органическую черту русской натуры, есть наилучшее ее воплощение, выразившееся в том, в чем другие усматривают лишь продукт простого влияния на него некоторых западноевропейских гениальных писателей – Парни, Андре Шенье, Байрона и т. д. Ф. М. Достоевский отрицает как не идущие к нашему великому поэту даваемые ему иногда эпитеты русский Байрон или русский Шекспир. «Пушкин есть просто Пушкин, и только!» – сказал он. Такие произведения Пушкина, как «Скупой рыцарь», под которым с гордостью подписался бы Шекспир, суть только выражение той способности проникаться идеями, чувствами и пониманием жизненного склада чуждого народа, той отзывчивости на душевные треволнения человека без различия его национальности, которые присущи, как врожденные, русскому человеку. Следя далее за проявлениями этой черты в действительной жизни русской, Ф. М. Достоевский находит разницу в этих проявлениях у двух половин русского народа: в то время как русский мужчина в своих исканиях всемирного, всечеловеческого счастия, способен увлекаться до того, что готов, в своем идеальном увлечении, сам того не сознавая, поднять руку на разрушение этого самого счастья в индивидуальных случаях; способен явиться гордым отрицателем не отвечающей его идеалу действительности; способен отвернуться от нее и броситься в скитальчество, – русская женщина гораздо тверже, прямее смотрит в глаза жизненной действительности, с бóльшим самообладанием, хотя и с неменьшею глубиною носит в своем сердце тот же нравственный идеал всеобщего, всечеловеческого счастья. В подтверждение такого своего взгляда он и указал на созданный Пушкиным цельный и совершеннейший образ русской женщины в Татьяне, которая стойче в своих убеждениях и даже умнее Онегина. Словами Татьяны, сказанными ею в ответ на амурные заискивания Онегина: «Я вас люблю… но я другому отдана и буду век ему верна», – русская женщина как бы говорит русскому мужчине: «Мои чувства гораздо глубже, мои идеалы постояннее твоих; но я не так легкомысленна, как ты, чтобы ради удовлетворения этих чувств, ради оправдания этих идеалов, одним словом – ради осуществления одного счастия решилась на разрушение другого». В таком, по крайней мере, виде представилась нам характеристика Татьяны, сделанная Ф. М. Достоевским.
Но определив смятенное беспокойство души русского человека, печалующегося о всеобщем, всечеловеческом счастии, как роковую черту его природного характера и, следовательно, убив наповал ту доктрину, которая видит в этом только навеянную откуда-то извне блажь, Ф. М. Достоевский не остановился, как и следовало ожидать, на этом. Как ни врожденна, ни натуральна в русском человеке эта тоска, но как тоска она все-таки не может быть признана чем-то желательным и приятным для самого этого русского человека: всякой тоске нужен же какой-нибудь исход: иначе она разрешится в полное отчаяние. И вот этот исход, полагает Ф. М. Достоевский, возможен лишь тогда, когда все четырнадцать классов, на которые делится русское общество со времен Петра Великого, «выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом». Но только эта дорога, это общение как-то уж очень своеобразно формулировано им. «Смирись, гордый человек, – воскликнул он, – и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве!»
Что праздность не разгонит никакой тоски и что скука, тоска есть почти неизбежная спутница всякой праздности – это понятно; но при чем тут смирение, это для нас осталось тайной. Такою же тайной осталось и то, от какой гордыни приглашал Ф. М. Достоевский отречься несчастного русского скитальца, болящего сердцем за всечеловеческое счастие; есть ли эта гордыня непременный атрибут этого скитальца, и если есть, то где же ее источник. Вот из таких-то и им подобных неожиданных переходов в речи Ф. М. Достоевского и стало очевидно, что иное дело мыслитель-философ и иное дело мыслитель-художник: где первый споткнулся бы о логическое противоречие, там второй перелетит на крыльях фантазии; где первого поймали бы сейчас же на слове, второй искусно отведет глаза художественно нарисованным образом или очарует слух красненьким словечком, пленительным звуком. Зала при вышеприведенном восклицании огласилась громом рукоплесканий: но едва ли многие из рукоплескавших отдавали себе отчет в истинном значении этого таинственного, эффектного и с экспрессией сделанного восклицания: каждый, надо думать, понимал по-своему слова Ф. М. Достоевского и, аплодируя ему, в сущности аплодировал себе самому, своему собственному взгляду, который, думалось ему, вот, мол, хотел выразить и Ф. М. Достоевский. А таких неожиданных переходов у него было не один, как мы сказали. Вот хоть бы и по поводу Татьяны. В ней выставлено на вид постоянство чувства русской женщины, твердость ее убеждений, стойкость в жизненной борьбе. Из последних ее слов «Но я другому отдана и буду век ему верна» мы, собственно, видим, что она крепко помнит седьмую заповедь, а Онегину дает урок в десятой. Но из комментария Ф. М. Достоевского оказывается, что Татьяна есть образец преданности своему долгу и верности своему идеалу всечеловеческого земного счастия, но в то же время и барыня себе на уме. Мастерски нарисовав после вопроса «Как, верна этому старому генералу?» фантастическую картину здания, построенного с целью осчастливить одних людей на разрушении счастия других, картину, возможную разве только в отвлечении, даже, пожалуй, и в действительности, но немыслимую для такого высоконравственного женского существа, какова Татьяна, он затем, как будто невзначай, присовокупляет, что Татьяна очень хорошо понимала, что никакого не вышло бы толку, если бы она и иначе поступила. Она, по мнению Ф. М. Достоевского, не соединилась бы даже и законными узами любви с Онегиным, когда бы, например, к тому представился удобный случай, ну хоть бы естественная что ли смерть ее старика-мужа. Что же из этого следует? Следует то, что Татьяна, как женщина неглупая, очень хорошо видела, что Онегин пустой малый и ветреный фантазер; выслушав его признания, она, значит, попросту говоря, подумала про себя: «Ведь ты надуешь, голубчик!» Таков вывод, по крайнему нашему разумению, надо сделать из комментария Ф. М. Достоевского; но если этот вывод возможен, то хотя он не умаляет достоинства Татьяны самой по себе, тем не менее всё же он не таков, чтобы его можно было отнести к лучам того ореола, которым именно и хотел окружить образ Татьяны Ф. М. Достоевский.
Самые три периода, намеченные Ф. М. Достоевским в деятельности Пушкина, недостаточно разграничены им. Наконец, последние слова в речи насчет печати пророчества, которая, по взгляду Ф. М. Достоевского, лежит на личности Пушкина как предвозвестника великого предназначения русского народа «стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указав исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» – эти слова проникнуты были таким ветхозаветным пафосом, какому равный найдется разве только у пророка Исаии: он тут вознес нас, русских слушателей, на такую поднебесную высоту, с которой всё земное мелькало лишь крошечною, ничтожною точкою. У всех присутствовавших от таких похвал русскому народу на момент захватило дыханье, и потом грохот восторженных криков и рукоплесканий буквально потрясал стены аудитории.
Можно было соглашаться или не соглашаться с теми или другими взглядами Ф. М. Достоевского, быть довольным или недовольным некоторыми местами речи его, но что никто не в силах был не поддаться ее неотразимому обаянию в момент самого ее произнесения – это факт, единогласно засвидетельствованный всеми, кто ее слышал. Мы не знаем, падал ли кто в обморок, как это, говорят, случилось с одним молодым человеком; целовали ли дамы Ф. М. Достоевскому руки, как и об этом тоже ходил слух; но что на многих, разумеется, способных к выражению лицах видно было точно какое-то опьянение, это верно. Вызовам и крикам не было конца: стон стоял в зале. Когда Федор Михайлович в последний раз взошел на кафедру раскланиваться публике, его фигура предстала заключенною в большой лавровый венок, который сзади него держали дамы, экспромтом или заблаговременно приготовившие ему это поднесение. Некоторые так далеко зашли в своем увлечении, что узрели в этом торжестве Достоевского «падение», как они выражались, Тургенева, т. е., другими словами, изглажение еще вчера царившего обаяния И. С. Тургенева сегодняшним триумфом Ф. М. Достоевского. Но это, разумеется, была фантазия, которую они, в минуты спокойного рассуждения, сами без сожаления отбросили и которую публика рассеяла вечером того же дня, когда И. С. Тургеневу также был поднесен лавровый венок и с неменьшими овациями. В самом деле, при ближайшем рассмотрении оказывается, что главные, наиболее сочувственные мотивы речи Ф. М. Достоевского находятся и в речи И. С. Тургенева; но преимущество первого заключалось в той уверенности, в той смелости, с какою он высказывал свои убеждения; в том пафосе, с которым речь говорилась; в том неотразимо-повелительном тоне, который заставлял в минуту принимать всё на веру без рассуждений. Тихая, равномерно-благозвучная речь И. С. Тургенева не раздражала до такой степени нервов, не воспламеняла чувств; но зато произведенному ею впечатлению не угрожала и реакция: речью Ф. М. Достоевского были потрясены; но хоть спокойная, зато глубокая симпатия всё же в конце концов осталась на стороне И. С. Тургенева.
После десятиминутного антракта г. Плещеев прочитал свое стихотворение, повторенное по требованию присутствовавших. Когда затем явился перед публикою И. С. Аксаков, то он, вместо приготовленной им к заседанию речи, сказал несколько слов, служивших как бы кратким эпилогом к речи предшествующего оратора, приблизительно в таком роде: «Речь Ф. М. Достоевского есть событие. Еще вчера вопрос о национальном и всемирном значении Пушкина оставался неразрешенным. Теперь он решен. То, что сказано Ф. М. Достоевским, мирит самые противоположные воззрения, разделяющие наше русское интеллигентное общество на две крупные партии: и представитель так называемого славянофильского направления, Иван Сергеевич Аксаков, и представитель так называемого западничества, Иван Сергеевич Тургенев (при этом он обратился к сидевшему неподалеку от кафедры И. С. Тургеневу) сойдутся, без сомнения, на том, что мы слышали от Ф. М. Достоевского. Я хотел говорить на ту же самую тему; но теперь, после его речи, нам, кажется, больше толковать нечего». Этот экспромт вышел тоже необыкновенно удачен. Как опытный оратор, Аксаков совершенно безошибочно предвидел, что не только он, но и кто бы то ни было другой уже не в состоянии будут превзойти успеха Достоевского: оставляя в стороне содержание речей, новый эффект был уже физически немыслим. Но из серьезного ли любопытства или из одной вежливой любезности все закричали: «Читайте, Иван Сергеевич, читайте!» А И. С. Тургенев, тот просто взял Аксакова за руку и повел его на кафедру. Он уступил такому единодушному требованию и прочитал, согласно предварительному своему заявлению, лишь некоторые отрывки из своей, по-видимому, довольно обширной речи. Апплодировали время от времени и ему; но это уже далеко было не то, что творилось незадолго перед тем на этом самом месте. Затем еще говорили трое очередных ораторов, П. В. Анненков, Н. В. Калачев и П. П. Бартенев; но утомление уже сильно овладело всеми, да уже и времени было около шести часов, так что многие стали расходиться. Опасаясь совершенного опустения, председатель С. А. Юрьев просил обождать еще минут десять и выслушать одно весьма интересное сообщение А. А. Потехина. Последнее состояло в том, что Общество любителей российской словесности сделало постановление ходатайствовать пред правительством о разрешении подписки на памятник Гоголю, который предположено поставить также в Москве, которая по праву должна сделаться пантеоном русских великих писателей, и в виде залога успешности этого предприятия предлагало начать эту подписку немедленно, тут же. Заявление было принято громкими одобрениями, и при выходе многие сейчас же занесли свои пожертвования на подписные листы, разложенные на столиках в боковых залах Благородного собрания.
<…> как-то всё еще долго не хотелось расстаться с этим святилищем, в котором принесено было столько самых чистосердечных мысленных жертв на алтарь боготворимому гению; в котором в такой короткий срок пережито столько неиспытанных дотоле дум и сердечных волнений, едва ли могущих когда-либо изгладиться из памяти: как-то не верилось, что всё, что тут недавно происходило, было не сон, а живая действительность – такова сила влияния великих гениев на души их заурядных почитателей; таков результат общественного предприятия, исполненного свободно, искренно, дружно и бескорыстно, к полному удовольствию всех и каждого, к чести и славе родной страны!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































