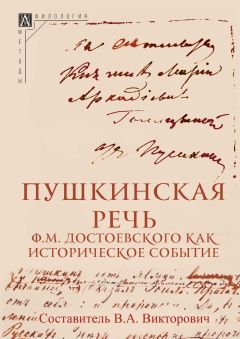
Автор книги: Владимир Викторович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
И. Ф. Василевский (Буква)
Раз в месяц. Среди знаменитостей. Характеристики и эскизы
(«Живописное обозрение». 5 июля. С. 14–18)
<…> Недавний пушкинский праздник носил характер блестящего литературного съезда. Большая часть наших известных писателей собралась на чествование памяти родоначальника новой русской литературы. Там были Тургенев, Достоевский, Островский, Аксаков, Писемский, Пашков, Грот и другие. Во время празднеств нам постоянно приходилось вращаться среди и вокруг знаменитостей. Мы слышали их как ораторов и как лекторов; живо, разумеется, интересовались или беседовали с ними.
Я хочу поделиться личными впечатлениями, вынесенными из этого литературного Олимпа. Прошу не искать у меня в этот раз ни обстоятельности, ни полноты. Видели вы когда-нибудь кроки карандашем французского рисовальщика Гаварни? Штрихи, штрихи, очень много беглых, незаконченных штрихов, но среди них попадаются кое-где контуры и профили.
Мои эскизы и характеристики в этом роде.
<…> Анализ, доведенный до болезненности, до иcследования сокращений периферических узелков, подавляющее преобладание нравственного, отвлеченно-психического материала над строем, работою и злобами общественности, субъективность, на всё взирающая чрез свои собственные, раз надетые очки, глубина и полнота воспроизводимых чувств и общая сумрачная окраска повествования – служат, как вы знаете, главными отличительными признаками беллетристического творчества автора «Униженных и оскорбленных». И в наружности Достоевского отчасти сказываются те же черты. Улыбка как будто никогда и не появлялась на строгих и зажатых губах Достоевского, а довольно большие, лихорадочно горящие глаза точно умеют мерцать только какими-то призрачными, блуждающими огоньками. На всей фигуре Достоевского явственно лежит печать изможденности, устали, разочарования и широкой, размывающей и подтачивающей печали. Это литературный отшельник и схимник, пишущий в сырой и полутемной пименовской келье соком нервов своих. Лицо у него впалое, бледное, бескровное; фигура вогнутая, сутуловатая; худые, холодные и влажные руки; русая, почти рыжая борода и такие же волосы. Отсутствие седин у Достоевского не только не молодит его, но, наоборот, как бы раздражает глаза. Немощное старческое лицо точно протестует против сохранившегося цвета волос. Седина придала бы лицу психолога-беллетриста больше мягкости, теплоты и гармонии. Достоевский кажется человеком раз навсегда ушедшим внутрь себя и запершимся там. Он не общителен, не разговорчив, рассеян. Внутренние думы как бы совсем отвлекают его от внешнего мира. Борозды чела никогда не расходятся. Голос у Достоевского вообще глухой и слабый, но при известном напряжении умеет быть протяжно-громким, хотя тоже с ноющими, страдальческими нотами. Вещи тонкие, психические, прочувствованные, требующие души и веры, выходят, впрочем, очень хорошо в чтении Достоевского. Достоевский читал на одном из пушкинских вечеров монолог Пимена. Вся зала превратилась в слух; жужжание мухи можно было расслышать. Всякий стеснялся кашлянуть или шевельнуться. Иллюзия была огромная. Казалось, что настоящий Пимен, печалуясь и вздыхая, вышел из-за кулис и начал вести речь с публикою о своем суровом призвании. Вы уже знаете о том громадном фуроре, которым заключилось восхитительное чтение Достоевского о Пушкине. Никто не ожидал такого грандиозного, такого всеобщего эффекта, тем более что Достоевский раньше чувствовал себя в Москве точно не в своей тарелке. Он крайне честолюбив и самолюбив. Говорили, что Достоевский ревновал публику к Тургеневу. Повторялась история двух примадонн на одной и той же сцене. Всё время он стоял в тени, и вдруг случилось нечто необыкновенное. Достоевский как бы вырос и окрылился на глазах у всех. Чтение его электризировало, умилило, примирило, вознесло. В речи Достоевского, при холодном анализе ее печатного оттиска, очень легко можно найти много натяжек, противоречий и призрачных, точно преломлением света вызванных, картин. Но в Москве, в собрании, никто не замечал этого. Казалось, что пророк глаголом прожигал сердца. Высь, на которой очутился Достоевский, говоря о любви, о правде, о красоте, о неумирающих идеалах всечеловечества, захватывала дух и кружила головы. Сердце слушателя то замирало и леденело, то судорожно выбрасывало в артерии временно застоявшуюся кровь. У самого Достоевского горели щеки лихорадочным румянцем, дрожал насильно форсированный, по природе слабый голос и тряслись от волнения руки. С каждой фразою оратор побеждал всё более и более. После каждой передышки появлялись у него новые радуги красок, новые купы света, новые, хватавшие за душу сближения и сопоставления, новые, приводившие в восторг эстетическую сторону слушателя, абрисы и характеристики. Выискивание Достоевским в лице Алеко будущего Онегина и прослеживание в Онегине преемственных черт Алеко, изображение бьющегося, тревожного, неудовлетворенного, вечно чего-то ищущего, вечно минорного брожения духа, которое было и остается уделом мыслящего русского человека, вылилось у романиста бесподобно. Речь жгла, ослепляла, поражала, и если Аксакову должна принадлежать пальма первенства как неподражаемому оратору внешнего, то Достоевский несомненно заслуживает пьедестала великого мастера, умеющего увлекать внутреннею энергиею и внутреннею красотою человеческого слова, парящего на действительно орлиных высотах и способного уподобиться, как сказал Аксаков, даже «молнии, прорезывающей небо». <…>
По поводу открытия памятника Пушкину
(«Слово». Июнь. С. 155–160)
За всё время своего бесцветного прозябания русская интеллигенция, конечно, не запомнит ничего подобного пушкинскому празднеству. Еще до сих пор не совсем прошло очарованье его для многих присутствовавших на нем, и, может быть, долго еще сердца их будут полны откликами этого торжества. А между тем спросите у наиболее восторженных участников его, в чем была его духовная сущность, как передавались чувства в этот момент, что делалось в голове и в сердце чествовавшей память Пушкина публики, отчего, от каких мыслей горела эта голова, какими желаниями и надеждами билось это сердце? Никакого ответа не получите ни от кого: «чудесно, хорошо, о! как хорошо было в эти четыре дня»; или: «поверьте на слово, несчастный тот человек, кто не был на Пушкинском празднестве» («Неделя», № 22, Литерат<урно-> жит<ейские> зам<етки>). Не все, конечно, так сильно формулируют свои впечатления, как «Неделя», но смысл всех отзывов один и тот же: «Поверьте на слово» и «ей Богу» [14]14
Некоторые корреспонденты, кажется, положительно «тронулись», вернувшись с этого праздника. Тот же корреспондент «Недели» рассказывает, что он до такой степени идеализировал некоторые моменты Пушкинского праздника «что во время этой идеализации у него щипало в глазах». Вот его подлинные слова. «Раздаются звуки народного гимна, площадь оглашается тысячеголосым “ура”… Во всём этом не было ничего необыкновенного. Но потому ли, что мне и всем нам никогда не приходилось слышать “ура” по такому поводу, потому ли, что мы идеализировали его, вкладывая наше собственное чувство в эту многотысячную толпу, только я почувствовал, что у меня защипало глаза (!!), да и соседи мои чувствовали, вероятно, то же самое» и пр.
[Закрыть].
Пусть не видит читатель в этих словах наших критиканства. Нет, праздник Пушкина, по существу своему, действительно таков, в нем все стихия, одна большая судорога, какие-то здоровенные раскатистые крики «ого-го-го», чередовавшиеся с потоками сладостных слез у одних, с истерикой и обмороками у других. Все, очевидно, рвалось далеко за пределы того, что относилось прямо к Пушкину и его поэзии, что говорилось о нем и по поводу него. Достаточно, что эта поэзия во многих своих частях прекрасна, что о ней сохранились кой-какие добрые воспоминанья, чтобы от ее соприкосновенья с переполненной душой общества последовал мощный взрыв. Не нужно было припоминать все, что есть у Пушкина, чтобы по поводу его излить все, что было на сердце, – скорее для этого надо было забыть многое; не нужно было и слушать от начала до конца даже наиболее замечательных ораторов, чтобы прерывать их громом бешеных рукоплесканий, лобызать им руки и падать ниц пред ними, – скорее надо было выпустить для этого 3/4 из их речей и даже понять их совсем не в том смысле, в каком они сами хотели. Какому-то своему внутреннему богу молилися все на этом празднике, и Пушкин нужен был некоторою своею величавостью, чтобы служить только образом, только подобием этого бога. А из ораторов годился в этот горячий миг всякий, кто подвертывался со своим случайным словом, даже г. Катков, и того насилие и самовластье общественного настроения едва не схватило за шиворот и не заставило силою служить олицетворением чего-то прекрасного, если бы только над ним не сжалились все отвернувшиеся от его бокала и тем спасшие от ломки его слишком сжившуюся с позором и срамом натуру.
Мы не говорим, чтобы изваянный образ Пушкина ничем не соприкасался с тем внутренним божеством, с которым явилась на праздник русская интеллигенция. Но с чем же она явилась туда? Поэзия Пушкина стояла пред ней, во всяком случае, горьким и укоризненным свидетельством истории. 50 лет тому назад русское общество уже создало Пушкина, уже тогда слышались мощные удары крыльев русской мысли, заявившей громадным и красноречивым фактом Пушкинской поэзии о том, что она достойна и сумеет свободно работать и служить человечеству наравне с каждым из великих народов Западной Европы. Если мало Пушкина, если недостаточно или темно его заступничество за русское общество, так вслед за ним, точно по сигналу, всходят один за другим на народную трибуну не менее блестящие и славные адвокаты русской мысли. Является Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, Белинский, Тургенев, Добролюбов, Некрасов, Салтыков, и всё это в течение каких-нибудь двух-трех десятков лет. Точно шутя, точно играя, выбрасывало русское общество из своих недр все эти драгоценные ослепительные дары своего духа, указывавшие России. И какая самостоятельность мысли, зрелость чувства, какой гордой, какой самоуверенной и величавой поступью прошли все эти люди пред лицом своего народа и всей Европы! Ведь они воочию свидетельствовали, что русскому обществу давно-давно пора занять свое место в семье западных народов, что плод созрел и силы рвутся из груди и требуют правильного и широкого русла, чтобы ровной, спокойной и величественной рекой устремиться в безбрежный океан общечеловеческого прогресса.
И вот через 50 лет русское общество собирается перед памятником Пушкина, разочарованное и почти утратившее веру в себя, в ту не разгаданную судьбой или пренебреженную ею сущность свою, в тот присущий русскому обществу дух активной и самобытной инициативы, который с таким блеском выразился очень давно в произведениях писателей 30 и 40‑х годов. Вяло и лениво, как для исполнения какой-то официально-национальной нормальности, шла интеллигенция «для присутствования» при открытии памятника Пушкину, и никто, конечно, не предчувствовал, что произойдет от соприкосновения всех принесенных на этот праздник современных болей с обаятельным миром поэзии Пушкина. Были, конечно, мгновения, когда неизвестно было, возьмет ли перевес эта боль или эта поэзия; перевеса однако не было ни на той, ни на другой стороне, произошла совершенно новая комбинация идей и чувств. Проявилась боль со слезами и судорогами, но и величественный облик Пушкина вложил надежду в сердце, влил мощь и веру в душу народа, выносившего в себе и вскормившего великого поэта. Этот памятник пробудил в собравшейся у подножия его интеллигенции сложные и разнообразные чувства; грусть овладевала всеми, кто, возносясь мыслью к Пушкину, углублялся в созерцание тех громадных духовных сил русского общества, о которых так громко говорила всем присутствовавшим память о поэте. Но она же доставляла гордое удовлетворение своей мощью, и еще более она распаляла жажду дотоле невиданных подвигов на широкой арене общечеловеческих интересов и невольно задерживала думы всех на великом моменте перехода дремлющей, потенциальной энергии в осязательный факт претворения слова и мысли в живое дело.
Все эти частью экзальтированные и преувеличенные, частью неопределенные, то гордые и заносчивые, то грустные и горькие чувства сами собой проникали в душу участников Пушкинского празднества, и речи ораторов, заранее заготовленные, мало и только случайно вторили общему настроению. Как сами участники шли на это празднество ради отбытия какой-то национальной повинности, так и ораторы явились туда с холодным официальным словом казенного привета, по большой части крайне скучным и бесцветным. Но торжество приняло неожиданный оборот, и вместе с тем все эти речи стали освещаться тем внутренним светом, который просиял в груди общества. Не речи овладевали обществом, но общество овладевало их отдельными фразами и словами, наиболее совпадавшими с минутой. С некоторыми же речами произошли удивительные qui pro quo [15]15
Одно вместо другого (лат.).
[Закрыть]. Возбуждение общества было так сильно, что оно положительно не слышало того, что шло вразрез с его думами или же было ниже всякой критики. Мы имеем в виду главным образом речь г. Достоевского, которая составляла кульминационный пункт Пушкинского торжества и названа была в чаду и опьянении гениальной, событием, эпохой.
Что это за речь? Если читатели знают о ней по сокращенному изложению в газетах, то они не имеют о ней никакого понятия; если же они слышали ее «своими собственными ушами» на самом празднике, то oни еще менее знакомы с ее истинным духом и направлением. Недавно она помещена была целиком в № 162 «Моск<овских> вед<омостей>», и вот когда сделалось возможным насладиться досыта этой гениальностью.
Центральная мысль г. Достоевского та, что Пушкин был поэт народный, но он был русским народным поэтом, а русская народность, говоря словами же г. Достоевского, «не помирится дешевле», как на идеале всемирности, всечеловечности. Вот положение, на котором стоит немного остановиться, чтобы разглядеть одно за другим все его лукавые стороны. Очевидно, положение это старается убить зараз двух зайцев и одним глазом подмигнуть московским славянофилам и петербургским западникам. Первым г. Достоевский говорит: «Пушкин был народен», а обращаясь ко вторым, он прибавляет: «но назначение русской народности есть бесспорно всеpoccийскоe и всемирное». В конце концов, г. Достоевский, конечно, никого не вводит в заблуждение, но он только лишний раз доказал собою ту истину, что можно быть великим художником в области искусства и очень маленьким мыслителем. Как скоропалительно состряпан чисто детский парадокс г. Достоевского, так же быстро и распадается он. В результате выходит по г. Достоевскому, что русская народность не только как всемирность, но и как собственно русская народность не существует.
Парадокс г. Достоевского слишком незамысловат, чтобы стоило на нем долго останавливаться. Что такое народность? Какова бы ни была эта народность, русская, французская, английская или немецкая, но она есть совокупность только самобытных особенностей и отличий данного народа. Если поэтому вы говорите о русской народности, то вы должны прежде всего определить те ее стороны, которыми она не похожа ни на одну или на большинство остальных народностей и которые обыкновенно суть результаты чрезвычайной массы условий местного характера, климата, географического положения, религии, ранней политической и культурной истории. Одним словом, надо было описать человека в частности, с его индивидуальной стороны, а г. Достоевский на вопрос, какая особенность этого человека, отвечает: голова, сердце, нос, тогда как он должен был бы разыскать и указать, если он видит, только на родимое пятнышко. Может и не быть этих пятнышек, особенно для неострого зрения, могут отсутствовать самобытные черты умственного и всего духовного склада, и тогда, действительно, остаются у человека только голова, нос и всё то, что есть у каждого, но, встречая такую чрезвычайную общность типа и такое отсутствие оригинальных черт, мы обыкновенно строим гримасу и называем эти типы заурядными, банальными, тривиальными. Вообще выражение «общечеловеческая русская народность» есть абсурд и представляет то, что на специальном языке логика называется contradictio in adjecto [16]16
Противоречие в определении (лат.).
[Закрыть].
Если г. Достоевский хотел сказать, что русскому человеку по преимуществу свойственно находить личное счастье в братском союзе со всеми людьми и стремиться ко всеобщей гармонии, то на это можно сказать только одно: еще тогда, когда русский интеллигентный человек не родился на свет, цивилизованные народы Европы в лице своих лучших представителей неустанно до последних дней ведут миp к этой цели и одушевлены этим всеобъемлющим идеалом. Мы говорим о русском интеллигентном человеке, которого, конечно, могло и не быть, а все-таки стремление к этой всеобщей гармонии могло присутствовать в русском человеке вообще, и не только могло, но и должно было быть, ибо это опять есть общечеловеческое или по меньшей мере общехристианское свойство, но никак не исключительное свойство русской народности.
Всего, однако, удивительнее в речи г. Достоевского то, что, сбив с толку свою аудиторию этой всечеловечностью и всемирностью русского человека, стяжав за этот не понятый в первую минуту логический фокус горячие аплодисменты, он, в сущности, грубо и резко осмеял этого русского всечеловека. Мы полагаем, что г. Достоевский не станет отрицать того, что он вызвал фурор главным образом тем, что аудитории его чрезвычайно приятно показалось носить в груди идеал всемирности и всечеловечности как свою специальную особую сущность. По нашему мнению, и тут мало похвального со стороны публики и со стороны г. Достоевского присвоить себе исключительно такое крупное свойство, которое присуще всем европейским народам, и несправедливо и чересчур эгоистично, так же эгоистично, как, напр., отрицание во время крепостного права человеческих свойств у крестьян. Крепостники пресерьезно лишали своих крестьян многих выдающихся свойств человека вообще или же умаляли эти свойства до последнего предела. И г. Достоевский, как казалось с первого раза, учит русское общество думать о других народах, как думали наши помещики о своих крестьянах. На самом же деле оказывается, что г. Достоевский смеется над всемирными стремлениями русского человека. Вот подлинные слова г. Достоевского: «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться; дешевле он не помирится». Здесь следует пауза и взрыв рукоплесканий, но сейчас же дальше г. Достоевский добавляет: «не помирится, – конечно, пока дело только в теории»; говоря дальше о той же русской всемиpнocти, воплощенной Пушкиным в Алеко, г. Достоевский еще грубее издевается над ней, еще безжалостнее топчет ее в грязь.
[Далее цитируется речь Достоевского от слов «Ну и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и даже, весьма вероятно, обладая крепостными людьми…» до слов «…только бы отомщена была личная обида его»; см. с. 9 наст. изд.]
Вот эта всемирность, или, что всё равно по г. Достоевскому, русская народность. Другой тип русского всечеловека, Онегин, оплеван г. Достоевским. Вместе с Татьяной г. Достоевский спрашивает и решает по поводу Онегина: «Уж не пародия ли он?» И затем находит, что и этот всечеловек пародия, жалкое и ни на что не годное существо. Так как у Пушкина, кроме двух этих капитальных типов, нет других типов русской всемирности, то не находит ли г. Достоевский, что русскому обществу присуща фальшивая, дрянная и безобразная всечеловечность? Или же он думает, что всякая всечеловечность сама по себе фальшива и нелепа? Первое высказано г. Достоевским без всяких обиняков. Он говорит, что эта всемирность есть принадлежность верхнего слоя народа и продукт оторванности общества от народа; он приглашает общество лечиться от этой всемирности и указывает лекарство в «смиренном общении с народом». Но лечиться от чего, от ложной или правдивой, истинной всечеловечности? От какой? Надо сначала, учит г. Достоевский, потрудиться для себя или для своего народа, иначе, перестать стать всечеловеком на первое, по крайней мере, время. «Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Очень понятно, что нельзя лечиться от того, что составляет натуру или сущность, нельзя хотя бы на короткий миг сбросить с себя эту натуру. Если принять это в расчет, то оказывается, что всемирность не есть свойство русской народности. Эта всемирность, по словам самого г. Достоевского, есть случайная болезнь незначительной кучки народа, одной только свихнувшейся интеллигенции. Пусть г. Достоевский потрудится разъяснить все эти противоречия, к которым приводит его речь.
А. Градовский
Тревожный вопрос
(«Голос». 9 июля)
I.
Не со вчерашнего дня русскому обществу поставлен следующий, невероятно трудный и мучительный вопрос: имеет ли оно какое-нибудь значение в народе и для народа? Вопрос не только важный, но страшный, потому что от решения его зависит приговор над всем тем, что делало, делает и, вероятно, будет делать так называемая русская интеллигенция. Между тем, решение уже подсказывается и едва ли оно способно успокоить наше общество.
«Русское общество оторвано, отчуждено от народа», – эта фраза слышится и читается всюду; от частого повторения она приобрела некоторый вид истины. Больше того: она нравится, она обращена в бесспорный пункт некоторого обвинительного акта; она является одновременно и боевым снарядом, и лозунгом, выставляемым против всех стремлений, желаний и надежд нашей злосчастной интеллигенции.
Итак, русское общество «отчуждено» от родного народа. Это значит, что оно состоит из единиц, ежедневно, ежечасно порывающих связь с тою средою, в которой они, по законам природы и истории, должны бы жить и действовать, вне которой они не имеют смысла. Каждый шаг на пути к просвещению, каждая прочитанная книга, каждое удовольствие, каждая мысль, зародившаяся в голове под влиянием прочитанного или слышанного не в родной среде, фатально отделяют «интеллигентного» человека от его народа, заставляют его попирать ногами «народную правду». Он как бы живет во грехе, от которого ему нигде нет спасения. Он как бы отдан во власть дьявола и ангелов его. Невольно представляется уму картина, нарисованная неким средневековым аббатом и изображающая вездесущие грехи и дьявола:
«Представьте себе, – говорит он, – что вы погружены в воду с головой; вода над вами, под вами, справа, слева: вот образ злых духов, вас окружающих. Они бесчисленны, как атомы, играющие на солнце, и даже еще многочисленнее. Воздух не что иное, как собрание демонов. Человек не думает, не говорит, не делает ничего, не будучи искушаем ими. Они прикреплены к нам до такой степени, что почти отождествляются с нами; их тело простирается над нашим, проникает в наше и образует с ним одно; вот почему они говорят нашими устами и действуют нашими членами».
Пусть не удивляются этой выписке из средневекового мистика. Вопрос об отчуждении русского общества от народа возведен теперь на такую именно мистическую высоту, что иного сравнения, кроме мистического, прибрать нельзя. Дело дошло, действительно, до того, что атмосфера, в которой живет русское общество, представляется совокупностью бесовских атомов. «Totus аёr nоn est nisi spissitudo eorum»[17]17
Все давление воздуха – это не только толщина их (лат.).
[Закрыть]. Уйти от «бесов» некуда; они отождествились с нами. Они говорят нашими устами и действуют нашими членами. Все существование наше есть какой-то вечный грех против родного народа, от «духа» которого мы отверглись. Последствия греха очевидны. Подобно тому, как бытие грешника есть бытие призрачное, т. е., в сущности, небытие, так и наше существование есть призрак, постоянный обман. Русское общество есть не часть своего народа, а паразитное растение или пустоцвет.
Если это говорится серьезно, если в самом деле положение нашего общества таково, то ничего не может быть страшнее этого. Жить в сознании полной своей греховности, полной своей бесплодности и бесполезности – разве это не убийственно? К величайшему сожалению, и средства к спасению не предвидится, хотя оно указывается довольно ясно. Возрождение, говорят нам, возможно чрез общение с народом, чрез проникновение его духом и его правдою. Это было бы прекрасно, если б действительно в глубине народного духа было заключено нечто определенное, незыблемое, вечное и ясно проявленное в каком-нибудь откровении. Но беда в том, что российские возгласы о «народном духе», по научному своему значению, относятся не к нашему времени, а ко временам прошлым.
Было время, когда и на западе Европы народный дух принимался за нечто законченное и всегда себе равное. Но потом действительные исторические изыскания раскрыли, что народы перерождаются под влиянием развития собственных творческих сил и воздействия других культур, воспринимаемых и переработываемых народом. Между французом времен крестовых походов и французом времен Людовика ХIV-го порядочная разница, а между cовременником Короля-Солнца и гражданином времен Гамбетты огромное расстояние. Член нынешнего английского парламента с трудом понял бы «представителя» времен Эдуарда I-го; Беннингсен или Гнейст, вероятно, не столковались бы с бюргером времен Гогенштауфенов.
И вот что еще замечательно. Чем дальше мы уходим в глубь истории, тем меньше различия между народностями. Ни в эпоху великого переселения народов, ни в средние века нет и не может быть речи о народностях. Народности образуются в медленном и мучительном процессе долгой политической борьбы, упорной работы в области мысли, искусства, поэзии. «Национальное самосознание» не было первоначальным, божьим даром; оно явилось, как награда за тяжкую всенародную работу, как плод вековых усилий. Иначе оно и быть не может. Если отдельный человек, для выработки в себе определенной и цельной личности, должен много работать над собою, то тем с бóльшими усилиями вырабатывается личность собирательная, т. е. народность. Действительное сознание своего я не сваливается человеку с неба; не сваливается оно с неба и отдельному народу. Русский народ составляет ли исключение?
II.
Если уж говорить об «отчужденности» русского общества от своего народа, то необходимо иметь в виду не одну, а две отчужденные стороны. Проявились ли национальные качества народа, его историческое я до такой степени ясно и бесспорно, что непризнание их является не только грехом, но и глупостью?
В этом вопросе должно различать две стороны. Матерьяльное (если можно так выразиться) я русского народа бесспорно и наглядно. Тяжким трудом, великою храбростью и беспримерным терпением русский народ стяжал себе свое государственное единство. Сломив Орду, Турцию, Польшу и Швецию, он утвердился, наконец, в среде других европейских народов. И это сознание единства проникает все слои, от верхнего края и до нижнего. Оно величественно и грозно выступает всюду и всякий раз, как единству России или международному ее достоинству грозит опасность. В эти великие минуты все является единым и готовым к отпору врага. Пусть укажут, когда, в такие минуты, кто-нибудь из членов русского «общества» был бы способен не только к измене, но к равнодушному отношению к общественному долгу? Россия не знает измены. Что Базены в нашей среде просто невозможны – об этом и говорить нечего. Нет, пусть скажут, что русская интеллигенция, в трудные для отечества минуты, поступала не так, как подобает поступать русскому человеку? Думаем, что таких голосов не найдется.
Но остается вторая сторона – сторона духовного, настоящего народного я. Проявилось ли оно как следует? Была ли даже возможность не только для его проявления, но и для надлежащего его образования? Не думаем.
Русский народ, которому, по воле судеб, пришлось образовать государство на громаднейшем пространстве земли, все усилия которого до сих пор уходили на борьбу за матерьяльное существование, не имел еще возможности наполнить созданное им государственное тело духовным содержанием, могущим иметь всемирно-историческое значение. Напротив, чувствуется, что долгое время духовная жизнь народа была принесена в жертву настоятельным матерьяльным нуждам. В отчаянной борьбе за существование русская народность успела кое-как создать чисто внешнюю государственную организацию, образовать государство-машину, страшно сильную для внешнего действия, но не могущую поощрить развития духовных сил. Мало-помалу, эта внешняя организация была перенесена и на такие сферы, где менее всего уместно механическое действие – именно на церковь. У нас любят нападать на бюрократическое устройство церкви, созданное якобы реформою Петра. Но устройство и управление русской церкви до Петра вполне напоминало приказную систему времен московских. Если Петр, создавая «коллегии» для государства, и завел таковую и для церкви, то неизвестно, почему церковь-коллегия хуже церкви-приказа. Дело именно в том, что Петр преобразовал не живой организм церкви, а настоящий механизм, порядочно уже истертый в прежнее время. И с этой точки зрения нельзя не признать, что он улучшил управление церковью. Большего он и не делал, потому что в прежнее время церковь была только «управлением», т. е. обрядом, осуществляемым в иерархическом порядке.
Это обстоятельство очень важно именно потому, что православие есть коренная черта русской народности, главное ее нравственное знамя, а следовательно, и главное духовное средство воздействия народа на отдельные единицы. Если это средство оказывалось недействительным, если эта духовная сила обратилась в обряд и управление, то что же думать о других силах, не столь величественных? Между тем, нельзя же не заметить, что, благодаря неудовлетворительному состоянию церковной жизни, значение православия становилось более «теоретическим», чем практическим. Православие, как оно существовало, представлялось некоторою загадкой, формой без содержания, и только чрез много лет после петровой реформы, сильный ум Хомякова пошел вглубь и открыл содержание православия. Но и он оставил нам только идеал.
В момент петровой реформы мы видим следующее: народность, сильная матерьяльно, но бедная еще духовно, вдруг должна была, не по воле реформатора, а в силу исторической необходимости, войти в круг государств, богатых и сильных духовною жизнью. Случилось то, что и должно было случиться.
III.
Петр Великий нуждался в просвещении для государственных целей. Поэтому, он и велел учиться, прежде всего, тем, кто имел ближайшее отношение к государственному делу. Сама старая московская Россия уже подсказала Царю-Преобразователю, кого посылать за море и наряжать в саксонское платье. Она уже разделила отчетливо два главные класса людей: людей служилых и тяглых, или, говоря языком того времени, государевых холопей с одной и государевых сирот с другой стороны.
Просвещение водворялось в России первоначально вовсе не ради всенародной нужды, а просто потому, что государству нужны были образованные служилые люди. На них и положена была обязанность учиться. «Сироты» были оставлены в покое при своем тягле. Последующая судьба «просвещавшихся» служилых, т. е. будущих дворян, приказных и разночинцев, определилась просто. Их «отчужденность» объясняется вовсе не тем, что они стали читать чуждые народу книги и усвоивать чуждые ему нравы, а тем, что в момент реформы и после нее, вплоть до наших дней, народ не был приобщен к просветительному движению и оставался вне его. Не был же он приобщен потому, что над ним тяготело крепостное право, что он был только «податной класс», который должен был знать свое дело и не был предназначен к учению, точно так же, как и к «службе».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































