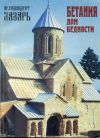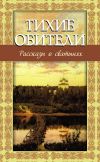Текст книги "Божии пристани. Рассказы паломников"

Автор книги: Владимир Зоберн
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Сибирячка
Проходя между народом на палубе, я невольно остановился у одной группы. Ее составляли: в центре – слепец-старик, который и сидя опирался о посох. Жаркий луч солнца золотился на голом черепе, охватывая и незрячие глаза, и детски-наивно улыбающееся сморщенное лицо. Из-под открытого ворота посконной рубахи во все стороны торчали углы костей. Рядом с ним, пониже, на каком-то жиденьком узелке, помещалась небольшая худенькая девушка с робким лицом и глазами, точно раз когда-то испугавшимися и теперь застывшими в одном выражении страха. Синий крестьянский сарафан висел на костлявых плечиках. Она только что начала соседке своей рассказывать о многотрудном пути, который довелось пройти ей до Архангельска.
– Я сама из иркутского города, в Бириях это!
– Ну! У меня братан там, на поселке. Что ж ты сюда: по усердию или по обещанию родителей? Тут больше по родительскому приказу бывают.
– Нет, сама. Потому я с малолетства по обителям!
– А меня, грешную, только сей год Господь сподобил. Тебя как же это одну мать пустила?
– Много тут было… горя разного. Пять годов уже как это дело задумано… Все с отцом совладать не могла!
– А у тебя отец-то кто?
– Мещанин торгующий.
– Ну?! Что ж ты это с сытой-то купецкой жизни… Поди, на пуховике спала…
– Судьба, знать!
– Давно ли ты оттуда?
– Седьмой месяц!
– И все одна? Или со стариком?
– Нет. Старика-то я под Шадринском нашла.
– Известно, кому какая судьба. Поди, сестры, коли есть, по праздникам пироги едят, да с утра до ночи на красу свою девичью любуются. А ты на-поди! Босая всю путину прошла?
– От Томска босая, потому какие башмаки были – совсем развалились!
– Ну, это тебе все зачтется. Много ты можешь согрешить теперь, потому твой подвиг велик. У Бога все на счету.
– Уж сколько и били меня, как сказала, что в Соловки хочу.
– Родители?
– Они. А и пошла-то я, чтоб, значит, родительские грехи замолить. Первый раз я, не спросясь, пошла, без виду. Ну, меня верст за двести до Иркутского и поймали… И по этапу домой приволокли. Потом я опять ушла – отец на лошади догнал. И на цепи стал держать. Месяца три не спущали, однако ради дня Ангела освободили. Сколько одного бою было – страсть. Насмерть били!
– Ах ты, болезная! Ишь, как тебя Господь сподобил! Все, милая, зачтется!
– Тогда я и сказала родителям: сколько ни калечьте, а воли моей с меня не снимете! Потому было мне видение… Святой Зосима во сне являлся и ободрял на подвиг. Отцовские грехи, говорил, замоли… Три раза было видение. Тогда и задумала я идти. Ну, к отцу… Сказала ему – позеленел, однако смолчал. «Ступай вон, – говорит, – чтобы и духу твоего не пахло!» На утро опять к нему – он за волосы и давай меня топтать. До бесчувствия было. Переждала я еще день и опять про то же. В другой раз оттаскал. Я в третий… Как сказала я в третий, тут его за сердце и забрало… заплакал. Снял икону, благословил, как следует. «Иди, – говорит, – к святым угодникам и за нас помолись». На другой день сряжаться стали. Дал он мне двести рублей на дорогу да триста угодникам, паспорт и все такое… Ну а на третьи сутки опять побил.
– Ну и родитель у тебя!
– Потому обидно, что без его воли пошла.
– Что ж ты все пешком?
– Все. Деньги, какие дали – несу угодникам.
– А кормилась в дороге как?
– Именем Христовым… Побиралась.
– Много ноне согрешить можешь, и все с тебя за это снимется. Ну а старичок слепенький сродственник тебе, что ли?
– Какой родич! Под Шадринском на дороге нашла. Он с мальчиком ходил, да мальчик бросил его, убег… Ну я и подумала, что Господь мне его послал, чтоб я еще потрудилась. Так и прошли вдвоем. И назад поведу до Шадринска.
– А там как?
– На том самом месте, где взяла, там и оставлю.
– Посередь поля?
– А то как же, где Господь послал!
– Да он помрет!
– Уж это как Бог… Потому, где взяла – туда и предоставить его должна. Иначе как?
– А там опять к родителям?
– Да годик пережду. Потом в Иерусалим-град.
– А ты бы замуж… Поди, женихи были?
– Были! – и худенькое личико девушки все перекосило ненавистью. – Были… Как не быть, погубители!
– Что ж ты не пошла?
– И не пойду. Нагляделась, как батюшка маму бьет… Все они такие. На тиранство одно идти, что ли?
– Без этого уж нельзя…
– Лучше Христовой невестой, по святым местам ходючи да родительские грехи замаливаючи…
Монашек-подросток
– Тятенька мой торговой частью занимается и подрядами, когда случится. Раз он один подрядец взял – мост строить. Дельце было бы выгодное, коли б не пришлось с чиновниками делиться, а то как раздашь половину всего, так смотришь: у себя в кармане и на лес не хватит. Очень заскучал тятенька, однако мост выстроил, из гнилья, правда, да все же мост. Хорошо… Прошло это, например, полгода, вдруг ревизор из самого Питера. Тут тятенька и очумел. К тому, к другому, к третьему – куда тебе! Давай, говорят, чтобы своя голова уцелела на плечах… Делай, как знаешь. «Помилуйте, – объясняет тятенька, – да ведь вместе брали?» – «Про то, – отвечают, – один Господь Всемогущий знает. Зря не болтай и ты, потому за бесчестье с тебя большие деньги слупим да под суд!..» Очень это ошарашило родителя. «Ну, теперь, – говорит, – никто, как Творец Небесный!» Назавтра примерно назначено свидетельство. С утра тятенька обегал все храмы Божии и везде молебны с водосвятием заказал, потом и обет дали: «Коли минует чаша сия, так быть единоутробному сыну моему у Соловецких угодников один год, пусть там работает на святых предстателей наших». Ну, сейчас поехали к мосту, а там уже вся комиссия собралась. Питерский ревизор-то петушком так и поскакивает. На наших чиновников и не похоже, потому в нем и фигуры нет. У нас квартальный из себя значительней, потому он себя с форсом держит. А этот только что чистенький да гладенький. Тятеньке ручку подал. Тятеньку это, значит, ободрило.
– Тятенька у тебя, поди, большой плут был?
– По торговой части, по нашим местам, без этого не обойдешься. Потому делиться нужно. Другому вся цена грош с денежкой, а ты ему пять сотенных подай, потому жадность эта у них очень свирепствует. Особливо ежели с купцом дело имеют.
– Народ!
– Народ ноне норовит, как бы тебе с сапогами в рот залезть.
– Какая польза человеку, если весь мир обрящет, а душе своей повредит?
– Ну-с, хорошо. Осмотрел ревизор мост и очень доволен остался. У нас из ели мост отстроен, а тот удивляется – какая, мол, лиственница отличная! Отлегло от сердца у тятеньки… И закурил же он тогда.
– Как с этого случая не закурить!
– Ну-с, хорошо. Две недели из дому пропадал, маменька даже в полицию заявление подала. Там успокоили. «Будьте благонадежны, – говорят, – тут, окромя запоя, ничего нет. Супруг ваш, кроме трактиров, нигде не бывает». Наконец вернулся тятенька и сейчас ко мне: «Собирайся в монастырь, великое есть мое усердие, значит, чтоб ты там год тихо, смирно, благородно, потому, может быть, еще такой случай будет, так угодников Божьих обманывать не годится… Пригодятся! Великие они за нас, грешных, молитвенники и предстатели. Помни это!» И так все ласково, а до того на всякой час тычок был.
– У вас, у купцов, насчет этого очень неблагородно!
– Невежество, что говорить!
– Однако и не учить нельзя!
– А только бей с разумением. Любя, бей. Наказуй по-человечески!
– Что говорить! Известно – господа купцы, поди, не одну скулу вывернут.
– Ну-с, хорошо… Снарядили меня, подрясник тонкого сукна сшили, скуфейку бархатную – все, как следует, и отправили. Как приехал я в монастырь, словно в рай попал. Благолепие, смиренство, насчет обращения – благородно. Точно я опять на свет родился.
– Работал?
– Как же! По письменной части занимался… Как пришло время к отцу ехать, заскучал я… А тут отцы-иноки: «Оставайся у нас, потому в мире трудно, в мире не спасешься». – «У меня невеста есть». – «Женатый печется о жене, а неженатый о Господе…» Думал я, думал. Наконец порешил в монастыре оставаться. Тятенька сам приезжал. Ничего, не препятствовал! «Живи, – говорит, – потому за твои молитвы Господь меня не оставляет!»
– Много у вас из купцов? – вмешался я.
– Из купцов во всем монастыре – человек шесть наберется!
– А остальные?
– Из крестьян все… сами увидите нашу обитель пресветлую.
Монашек-подросток говорил медовым, певучим голоском, поминутно закатывая глаза вверх.
– Много у вас, поди, чудес?
– Чудесов у нас довольно!
– Что говорить! А тятенька ваш какой губернии будет?
– Из Сибири.
– Далеко… Однако и у нас по Волге насчет подрядов вольно. Дело чистое. С казной – не с человеком… Никого не грабишь, а деньги сами идут!
– Как кому Господь!
– Известно, без Него куда уйдешь… По всей жизни так-то.
– Однако и угодники помогают. В болезнях примерно!
– Всякое дыхание хвалит Господа!
– Верно твое слово!
Казни египетские
Качка становилась все сильнее и сильнее.
– Ну, будет потеха, – заметил моряк-монах другому, машинисту, только что выскочившему из камеры, где помещался котел. На этом тоже была скуфейка, только он снял рясу. Все его лицо было словно обожжено зноем и окурено дымом. Он с наслаждением вдыхал свежий, холодный воздух, навеваемый все крепчавшим северным ветром.
– А что, сиверко?
– Да, вишь: боковая и килевая!
– Искушение!
Почти вся палуба была покрыта мучениками. Вопли и стоны раздавались всюду. Больные быстро теряли силу; после первых двух пароксизмов они неподвижно лежали, не имея сил даже повернуться «с одного галса на другой», как объясняли моряки-монахи. Некоторых перекатывало с одной стороны парохода в противоположную.
– Господи!.. Око всевидящее!..
– Ой, труден путь!
– Только что чайку попила, и таково ли приятно попила!..
– Помру, отцы родные!
– Монашки благочестивые, бросьте вы меня, рабу, в море, потому нет моей моченьки!
– Грехи мои тяжкие!.. За всякий-то грех теперь… ой…
– Собрать на молебен надо бы. На Зосиму и Савватия!.. Молебен угодникам! – предлагали монахи. – По мере возможности…
Публика, разумеется, струсила еще больше. «Молебен» – значит, есть опасность… Старухи завыли, как сумасшедшие. Юноша в гороховом пальто, полчаса назад бодро пожиравший магнезию на том резонном основании, что с кислотами желудка магнезия образует нерастворимые соединения и предотвращает рвоту, катался теперь по палубе, призывая на помощь святого Тихона Задонского и обещаясь, по прибытии в монастырь, заказать три молебна с водосвятием. Куда девалась и химия: он чуть ли не громче всех требовал молебна, сознаваясь во всех своих прегрешениях.
– Полно трусить! Никакой опасности нет! – утешал его отец Иоанн.
– Как нет опасности? Ой, святые Зосима и Савватий… Помогите мне, грешнику. А я еще магнезии… Вот и «нерастворимые соединения»… Святый Боже! Нельзя ли повернуть обратно в город? Пожалуйста, поверните обратно!
Наступила ночь, а волнение все усиливалось. Паруса собрали: ветер, пожалуй, изорвал бы их в лоскутья. Валы поднимались выше бортов корабля. Пароход то вздымался на их гребнях, то вдруг его сбрасывало вниз, в клокочущую бездну. Бывали моменты, когда он становился почти перпендикулярно. Отец Иоанн делался все озабоченнее. Вот один вал опрокинулся на палубу и прокатился по ней от кормы к носу.
– Сгоняй народ в каюты и трюмы!
В одну минуту палуба была очищена. На ней остались только матросы, которых сбивало с ног каждым порывом неудержимо ревущего норд-оста… Отверстия трюмов и люки кают были закрыты.
– Будет буря! – сказал мне сквозь зубы капитан.
– Никто, как Бог… Молебен бы! – робко проговорил рулевой.
– Стой у руля да гляди, куда правишь. Ишь разыгралась как!..
Я сошел вниз, в свою каюту второго класса.
– Ну что, как ваша магнезия? – спросил я у юноши.
– Не по-мо-га-ет! А по химии выходит хоро… Святители! Ой, грешен я, грешен! – и опять он заползал по полу.
– Батюшка, – приставала к попу толстая барыня. – Хочу покаяться… Что ж ты? – немного погодя, повторяла она.
– Несообразная! Подумай, как я исповедовать буду, коли у меня ни рясы, ничего нет. Кайся вслух, при всех. Церковь это допускает!
– Да у меня, может, какие грехи есть! Господи, неужели ж без исповеди и помереть?
– Коли в Соловки, к угодничкам едем, так все одно что с исповедью…
– Ты говоришь, ноне треска дорога будет?
– Племянник сказывал, будто в Норвеге рыба дешевле! – слышалось в углу.
– Господи! И сколько-то я грешила… Люди добрые, простите меня…
– За что простить-то? – потешалась в углу чуйка, на которую качка не действовала.
– Как после мужа – вдовой, значит, – с военным офицером спуталась… Ахти мне, горькой… Пять годов жила.
– Го-го-го! – хохотали в углу. – А давно ли это было, мать?
– Тридцать годков, голубчики, тридцать годков… Простите вы меня!
– Господь простит… Го-го-го… Как же это ты, мать, с офицером?
– По дурости да по неразумию… Года наши такие… Опять же в Великий пост ноне согрешила – яичком искусилась…
– Пять годов, говоришь, с офицером? – любопытствовала та же чуйка.
– Пять годов, родненький!
– Ну, если пять, ничего!
– За это тоже, поди, на том свете не похвалят…
Старуху точно обожгло.
– И сама я знаю, голубчики, что не похвалят… наставьте, отцы, как мне мой грех замолить?
– А как кит-рыба нас в океан-море потащит? – пристала ко мне другая старушка.
– О, Господи, беда это наша пришла!
– Веруй в Бога. Это главное! – наставлял поп. – Вот сказано: не знаете ни дня, ни часа… Все, все здесь помрем. Деточек только своих жалко… Как-то вы одни сиротами останетесь. Кто-то приютит вас!.. Вот оно – вольнодумство наше…
– Да неужели ж мы в сам деле потонем? – встрепенулся вдруг молчаливо сидевший в углу купец.
– Уж потонули, голубчик, уж потонули!
– Боже мой! Как же я теперь буду… Праведники!
– Уж потонули… Все! Потонули! На тридцать верст, может, под землю ушли…
Море
Утром, на другой день по отплытии из Архангельска, когда я вышел на палубу парохода, во все стороны передо мной расстилалась необозримая даль серовато-свинцового моря, усеянного оперенными гребнями медленно катившихся валов. На небе еще ползали клочья рассеянных ветром туч. Свежий попутничек надувал парус. Тяжело пыхтела паровая машина, и черный дым, словно развернутое знамя, плавно расстилался в воздухе, пропитанном влагой…
На передней части парохода стоит старец. Волосы его, редкие, серебристые, развевает ветер, лохмотья плохо защищают тело, впалая грудь чуть дышит, но взгляд его неотступно прикован к горизонту… Что он там видит – в этом безграничном просторе влаги, сливающемся с еще более безграничным простором неба? Вот он снимает шапку и медленно творит крестное знамение. Он молится. Для него это море – громадный храм, в туманной дали которого, там, где-то на востоке, возносится незримый, неведомый алтарь.
Да, море действительно храм. И рев бури, и свист ветра, и громовые раскаты над ним – это только отголоски, отрывочно доносящиеся к нам звуки некоторых труб его органа, дивно гремящего там, в недоступной, недосягаемой высоте – великий, прекрасно охватывающий все небо и землю гимн.
Вот сквозь клочья серых туч прорвался и заблистал на высоте широкий ослепительный луч солнца, и под ним озолотилась целая полоса медленно колыхающихся волн… Вот новые тучи закрыли его.
Божество незримо, но присутствие Его здесь чувствуется повсюду.
Вятские хлебопашцы
– Откуда Господь несет, кормильцы?
– Из Вячкой.
– А из уезда какого?
– Опловска…
– Знаю, хлебородная сторонушка.
– Ничаво… Хлеб родится… Дюже хлеб родится!
– Вятка – хлебу матка!
– Не то что наша Архангельская губерния.
– Поди, много хлеба продают?
– Как не продавать!.. Сами для себя, бывает, с мякиной мешаем да едим… Почти весь в продажу идет.
Я, разумеется, не поверил.
– Как Бог свят, да мы, милой, реже вашего архангельца-трескоеда видим цельный хлеб тот. Верно твое слово, что хлеба у нас невпроворот, а только других промыслов у нас нету, недоимки одолели… Ну а хлеб дешев – и мужик дешев! Коли б цена на рожь стояла настоящая, мы бы половину хлебушка съели сами, а другую продали. А то, верь, крещеная душа, как перед истинным Богом, Царем Небесным, два лета назад по двугривенному маклакам за пуд сдали. Вперед, значит…
– Хоть бы и по двугривеннику, да и тех денег не видим! С зимы влезли в долг, словно в петлю, ну и бьемся в ей… Да ты еще хлеб предоставь на место купцам. Вымолотишь его – осень, распутица, пути нет, жди зимы; как зима хватит – навалишь хлебушка в сани и везешь. Морозы, вьюга… Сколько животов на дороге поколеет – страсть! Приедешь в Орлов – в контору, света Божьего не видишь. Все-то лицо потрескается, сквозь губы кровь идет, нос горой раздует. Моли Бога, что сам цел остался!
– А в городе, – подхватил первый, – опять прижимка. Как привез, глядь – цену сбили, отдашь хлеб ни за грош да и пойдешь домой ни с чем!
– А и урожаи когда – не легче, потому дешевле купцы эти за хлеб дают… Аспиды!
– А ты не ругайся! В кое место идем?
– Больно нутро распалилось, потому у меня прошлой зимушкой чуть с голодухи вся семья не поколела. Тоже, поди, чувство имеем. Невесело – на бабу да на деток малых глядеть. Душа рвется. Не псы какие, слава Богу!
– Вот и понимай, какова наша Вятка!
– Как же вы, братцы, в Соловки теперь?
– А мы по обещанию шли. Из одного места все – авось полегчает. Монахи, спасибо, на пароход даром пустили. Какие достатки были – все ушло!
– Какие у нас достатки!
– Жизнь наша, скажу я тебе, самая подлая. Сытости в нас настоящей нету, сегодня не помер – и ладно. А завтра, может, и помрем. Давай молитвы читать, ребята, к такому месту плывем…
Бродяжка
Монастырь был уже недалеко. В носовой части парохода слышалось молитвенное пение. Звуки мягко и плавно разносились в безграничности морского простора. У самой кормовой каюты странник пел об Алексие Божием человеке, и несколько богомольцев и богомолок благоговейно внимали ему. Это был слепец: голый череп, длинная седая борода, прямые и правильные черты лица делали его похожим на библейского патриарха, сидящего у входа в свой шатер, посреди выжженной солнцем пустыни…
Зеленые лица показались из кают, осунувшиеся, измученные качкой. Люди едва передвигали ноги, но теперь пароход шел уже спокойно, миновав полосу морской бури. Попутный ветер надувал парус, и золотой крест на грот-мачте неподвижно светился над этим плавучим миром.
В центре одной из палубных групп сидела старушка, вся сморщенная, вся сгорбленная, вся немощная. Казалось, потухающие глаза с трудом могли видеть наклонившиеся к ней лица; в одеревеневших чертах ее выражалось полнейшее равнодушие ко всему; синяя крестьянская понява, босые ноги, костыль и убогая сума.
– Бродяжка я, голубчики, бродяжка я сызмальства. По градам и весям все странствую, святое имя Христово прославляя. Отца не помню, а матушка, та далеко отсюда, на большой реке, в большом городе мещанкой была… И какой это город, кормильцы, не знаю, и какая это река – не ведаю. Помнится только зеленое-зеленое поле, а за полем синие лески… Старый храм Божий, с тонкой такой колоколенкой, над самой рекой стоит и в светлые воды смотрится… Еще помню узкий проулочек, по обе стороны дома – избенки на курьих ножках, и наша избушечка тут, что калека старая, что я же теперь, вся сгорбилась да перекосилась, сердешная… И яблоню белую помню… И смородину помню… Густая была… По задворкам лепилась на самом припеке… Еще помню матушку – добрая… А потом дорога какая-то, старцы убогие… Там опять пути-дороженьки… Ну и перепутала все!.. Давно это было! Вся я на ноженьках на своих… Все одна странствовала. Всю землю крещеную обошла и везде Божиим угодникам молилась. В Ерусалиме-граде была, слыхала там, как грешники во аде мучаются. Гробу Господнему поклонилась. Турку там увстретила, а турка добрый, головы христианской не рубит, а сам же тебе и хлебушка подаст; хлеб у них белый и тонкий, что лепешка, все одно. Еще я там много городов видела, и все на припеке, на солнышке все… Таково ли парит – страсть! Море знаю, как к Ерусалим-граду ехать… Много нас там было, и померло много. Так Гробу Господню и не поклонились, сердешные!.. Монахов на Горе Афоне святой тоже помню. Суровые… а в обителях их, сказывают, благолепие неизреченное… Чудеса там на каждой травушке. Известно, место излюбленное. И в Киеве была… Град святой Киев – там в пещерах тысячи праведников лежат, и все в венцах сияющих, у всех в рученьках ветвь пальмовая, а в ноженьках – камни самоцветные. И идешь ты по пещерам этим, и свету нет, а все видно, потому от венцов сияние изливается. И в темницах была я со тати и со разбойники безвинно… За благочестное странствие свое томилась.
– Да, ноне строго! Всяк человек при своем месте состоять должен, всякому место его указано.
– Купцы в большом городу за меня вступились… Ну, власти земные и выпустили рабу, и опять пошла я по земле крещеной… И в Сибири была.
– А смертоубивцев видела?
– Бывало все, кормильцы… все бывало. По Волге раз… давно, в лесу злого человека увстречала – молода была тогда, ну он и изобидел меня… очень он меня изобидел… Опять потом под Смоленском… Все я, раба, снесла, все претерпела!
– Много ты, мать, походила?
– Много, кормилец, много!.. Таково ли еще ходила, как молода была… Легше ветру буйного. И все-то поля, поля зеленые, и все-то снега, снега глубокие, белые… Все-то леса – тень беспросветная… Тут только верхушки шумят над тобой… тишь… идешь ты, и боязно тебе, чтоб на недоброго человека не попасть… А медведь что! И человека он ест, а странников и странниц не трогает, потому на это ему предел положен…
Несколько чаек спустились на снасти мачт… Белые, ослепительно сверкающие под лучами солнца. Резкий крик послышался над ними, словно плачущий.
– Скоро и Соловки наши будут…