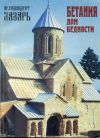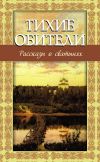Текст книги "Божии пристани. Рассказы паломников"

Автор книги: Владимир Зоберн
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Отец Авраам
Я забрел в Благовещенский собор рано утром. Меня там почти оглушил шум многих голосов, раздававшихся отовсюду. Двадцать три иеромонаха одновременно служили молебны. Стоя около служивших, нельзя было различить отдельных слов. Поминутно появлялись новые богомольцы, и священник торопливо служил молебны. Деньги за них запрещено давать в руки иеромонахам. Сначала покупается билет на молебен (простой – 35 к., с водосвятием – 1 р. 50 к.). С ним богомолец приходит в собор, предъявляет его священнику, который затем начинает службу…
– Сколько вы таким образом отслужите молебнов в одно утро?
– Все вместе – пятьсот случается. Бывало, и по шестьсот удавалось. Все зависит от того, сколько богомольцев!
Говоривший со мной был приземистым, коренастым монахом, только что снявшим ризу. Густые седые волосы обрамляли львиной гривой его лоб. На скуластом лице отражалось выражение крайнего самодовольства. Еще бы! Приходилось отдохнуть после сорока молебнов.
– Вы не из Архангельска ли? – спросил он у меня. – Знаете Ф. и Д.? – он назвал знакомых.
– Как же, хорошо знаю!
– Ну так пойдем ко мне чай пить! Побеседуем, давно я не бывал в Архангельске!
Я с удовольствием принял его приглашение. До тех пор мне не удавалось видеть внутреннюю обстановку. Пройдя двумя дворами, обставленными высокими зданиями келий, я воспользовался случаем расспросить его о хозяйстве монастыря, и перечислил при этом только что виденные мной мастерские.
– Ну а чугунно-литейный завод видели? И восковой, и смолокурню не осматривали?.. Все у нас есть. Главное – Господь невидимо покровительствует. Чудодейственная сила во всем, куда ни посмотри! – и монах с гордостью оглянулся кругом…

Вид соборов от Святых ворот. 1890-е гг. Фото М. Пиковского
Мы вошли в келью.
Бедная выбеленная комната. Прямо между двумя окнами аналой. Два табурета, стол, комод и кровать. Кстати, вспомнил я, как соблюдают обеты бедности иеромонахи других монастырей; сравнение было не в пользу последних…
– Что, у вас все так живут?
– Нет, – самодовольно ответил старик. – У меня попросторней да и посветлее. А, впрочем, житие пустынное, настоящее монашеское житие. Разве мы немецкие пасторы или польские ксендзы, чтобы роскошничать?.. Пастор и польский ксендз, а по-нашему поп… так и я поп, а между нами разница, потому что мы, православные, не от мира сего!
Отец Авраам бесцеремонно снял рясу, шаровары и сапоги и оказался в рубахе и нижнем белье. В один миг монах преобразился в вологодского крестьянина. Так он и присел к столу.
Засели мы за чай. Пошла беседа. Я спросил о библиотеке монастыря.
– Книгохранилище наше теперь опустело. Все рукописи старинные в Казанский университет отправили!
– Зачем вы их отдали?
– Как зачем? Да ведь у нас они что камни лежали. Кому их разбирать? И члены-то собора нашего, и мы все – мужики. Крестьянское царство тут. Наше дело работать в поте лица своего… Шестьсот манускриптов послали, старинные все рукописи. Теперь же там хоть что-нибудь извлекут: вот, читаю кое-что, вижу – из наших рукописей есть… А здесь разбираться с ними – не до того нам. И некому, говорю тебе, некому!
– Ну а ваша библиотека пополняется?
– Мало… Читать некому. Все же есть кое-что… Недавно я вопросом о соединении Церквей занялся. Много источников нашел. Интересно было после работы почитать!
И отец Авраам принялся излагать настоящее положение этого вопроса.
– Давно вы в монастыре?
– Сорок лет. Я из мужиков ведь. Из крепостных… Как-то помещик честно отпустил меня помолиться на Соловки. Я как попал сюда – и выходить не захотел. Потом бежал, скрывался, ну а теперь кое-что могу понимать!
Из разговора оказалось, что отец Авраам вологжанин. На родине у него и теперь сестры, которым он помогает.
Беседа его обнаружила большую начитанность и знание. Ум проглядывал в каждом выражении, в каждом приводимом им аргументе. Это находчивый и бойкий диалектик. Ко всему этому неизбежно примешивалось чувство некоторого самодовольства. Вполне, впрочем, законное чувство: «Подивись-ка ты, ученый, как тебя со всем твоим университетским образованием простой мужик загоняет». Он с особенным удовольствием при случае ссылался на свое происхождение, высказываясь, что достаточно пустить в монастырь пять дворян, чтобы вся производительность, все благосостояние обители разрушились: «У нас стол грубый, одежда грубая… Те начнут у себя заводить свои порядки, дурной пример – соблазн… Оттого мы неохотно принимаем в нашу среду чиновников».
– А что, скажем, одолевает скука? Хочется в мир, отец Авраам?
– Отчего?.. Никогда не томит. Не зовет туда. Ну, впрочем, два месяца было. Доселе не забыл. Я уж лет пятнадцать здесь. Летом как-то раз стою у пристани, и приехали к нам богомолки да богомольцы. Кто-то из них и запел песню. Так я и дрогнул. Точно с той песней что-то у меня в сердце оборвалось… Даже похолодел весь… Едва-едва в келью добрался. Как пласт на пол упал, да до вечера и пролежал так… На другой день еще хуже…
Все песни в голове… Хожу по лесу, начну псалом, а закончу песней. Бью поклоны в соборе, а в глазах не иконы – поле зеленое, село родимое… Сад барский да река синяя внизу излучиной тянется… а за рекой степь, наша степь, и по ней низко-низко туман висит, не колышется, только вширь ползет, расстилается. Слезы, бывало, по лицу так и катятся. До того доходило, что бежать из монастыря думал… Да, слава Господу, опамятовался. Пошел к архимандриту и на самую тяжкую работу попросился. Месяца полтора прошло так, что вечером, как придешь домой в келью, так, не доходя до кровати, в углу свернешься, шапку под голову, и до утра – словно мертвый… Отошел тогда… Больше не бывало. Известно, Господь испытывал!
– А бывали такие, что не выдерживали испытаний?
– Бывали, как не бывать! Малодушие это. Ну, дьявол и пользуется: шепчет в уши и перед глазами живописует. Не соблюдешь себя, тогда сгинешь, как червь. Один в монастыре у нас на что пустился, чтобы рясу сбросить: донес следователю, что он убийство совершил! Ну, его в острог в Архангельске, стали справки собирать – никакого такого убийства и не бывало. Ну его из монастыря и исключили. Что бы ты думал? От вина человек через год сгорел…
– Кстати, правда ли, что рассказывал архимандрит Александр о своей поездке на английские корабли во время осады монастыря?
– Должно быть, у Максимова читали? Просто англичане потребовали сдачи монастыря – им и отказали. У нас одному монаху в виду неприятеля пришлось за порохом в Архангельск отплыть!
– И удалось?
– Еще бы. Крест за это получил. Ему дали лодку и отпустили. В три дня он в город попал. И погоня была. Ко дну пустили бы, если бы поймали. Он и причастился перед поездкой. Ведь на смерть шел. Впрочем, монастырь-то защищался не для сбережения своих сокровищ. У нас одни стены оставались. Все драгоценности, деньги, документы, даже ризы с образов были отправлены в Сийский монастырь на хранение. А англичане сильно добирались до нас. Стреляли. Бомбы внутри зданий разрывались. Ну и Господь показал Свое чудо: не токмо человека не убило и не ранило – ни одной чайки, ни одного яйца птичьего не тронуло. Чайки же и задали англичанам. Как те стали палить – они и поднялись. Тысячами налетели на неприятеля да сверху-то корабли их и самих англичан опакостили… Умная птица!
– Ну а мужество духа, бодрость действительно были обнаружены монахами, как писал Александр?
– И этому не вполне верь. Перетрусили некоторые до страсти, упали на землю и выли. Да и как не испугаться? Мы народ мирный, наше дело молитва да труд, а не сражение. Такого страха и не увидишь нигде. Да вот спроси у отца Пимена – он был в то время!
Я обратился к только что вошедшему отцу Пимену. Это был высокий, худой монах с длинной седой бородой, сгорбленный, едва передвигавший ноги. Он подтвердил, что действительно монахи очень тогда «испужались».
– Вот такое у них мужество было. Человек пятьдесят порешительнее было!
– Что же потом-то, когда из Архангельска возвратились с порохом?..
– К тому времени англичане уж домой убрались. А перетрусили некоторые до страсти! Да и как не испужаться: бомба, она не пожалеет, у нее все виноваты…
Разговаривая с монахами, я не раз убеждался, как они фанатично привязаны к своей обители. Простые послушники с озлоблением отзываются о каждой попытке местной администрации вмешаться в их дела. Монахи, когда им предлагали отсюда ехать настоятелями в другие монастыри, заболевали от отчаяния и умирали.
– В других обителях, правда, богато живут, рясы шелковые носят, да у нас все лучше. У нас настоящее пустынножительство, – говорят иноки.
Обитель для них – отечество. Она заменяет им все – семью, родину.
– У вас, в России, – говорят монахи, – то в России, а то у нас!
Соловецкая тюрьма и ее арестанты
Соловецкий монастырский острог вместе с Суздальским – едва ли не последние остатки старого времени… ужасов, когда-то пугавших наших предков и получивших на страницах истории свое место.
Сколько крови пролилось на эти сырые, холодные плиты, сколько стонов слышали эти влажные, мрачные стены! Каким холодом веет отсюда, точно в этом душном воздухе еще стелется и расплывается отчаяние и скорбь узников, тела которых давно истлели на монастырском кладбище. Невольный трепет охватывал меня, когда я вступал в ограду этой исторической темницы. Князья, бояре, митрополиты, архиереи, расколоучители, крамольники томились когда-то за этими черными, насквозь проржавевшими решетками. Сотнями свозили сюда колодников со всех сторон России. Тут всегда страдали за мысль, за убеждение, за пропаганду. Цари московские часто ссылали сюда своих приближенных. Петр наполнял кельи этого острога людьми, не преклонявшимися перед его железной волей. Измученные, часто после пытки, с вырезанными языками и ноздрями, сюда отправлялись искатели истины за заблуждения на пути этого искания. Одиночество, суровые условия жизни ожидали их здесь, вплоть до могилы или нового мученичества. Расколоучители иногда отсюда посылались внутрь России, где их сжигали в деревянных срубах. Это была наша старорусская инквизиция. Соловецкая тюрьма, когда к ней приближаешься, кажется такой же громадной, многоэтажной гробницей, откуда вот-вот покажутся, открыв свои незрячие очи и потрясая цепями, бледные призраки прошлого. Суеверный страх охватывает вас, когда вы входите в узкую дверь темницы, за которой тянется вдаль черный коридор, словно щель.
Снаружи перед нами ряды узких окон. Порой в некоторые выглянет бледное-бледное лицо… Нет, это галлюцинация!.. Тройные ряды рам и решеток едва ли пропускают свет в одинокую келью заключенного.
Кто попал в Соловецкий острог, тот позабыт целым миром. Он схоронен заживо. О нем не вспомнит никто. Пройдет двадцать, тридцать, сорок лет – он увидит только лицо своего сторожа… Тут содержатся преступники против веры. Теперь здесь лишь два арестанта. Кроме того, живут в тюрьме двое «навроде арестантов» по официальной номенклатуре.
На меня тюрьма произвела отвратительное впечатление. Эта сырая каменная масса внутри сырой каменной стены переносит разом на несколько веков назад. Жутко становилось мне, когда я подходил к ней. На лесенке, у входа, сидели несколько солдатиков. Для двух арестантов содержатся здесь двадцать пять солдат с офицером.

Вид монастыря с высоты птичьего полета. 1890-е гг. Фото М. Пиковского
– Что, братцы, можно осмотреть тюрьму?
Все переглянулись. Молчание. Явился старший. Оказалось, что арестантов видеть не позволяется… Они помещены в верхнем коридоре, но остальные коридоры видеть можно.
Я вошел в первый. Узкая щель без света тянулась довольно далеко. Одна стена ее глухая, в другой – несколько дверей с окошечками. За этими дверями мрачные, потрясающе мрачные темничные кельи. В каждой окно. В окне по три рамы, между ними две решетки. Все это прозеленело, прокопчено, прогнило, почернело. День не бросит сюда ни одного луча света. Вечные сумерки, вечное молчание.
Я вошел в одну из пустых келий. На меня пахнуло мраком и смрадной сыростью подвала. Точно я был на дне холодного и глубокого колодца.
Я отворил двери другой кельи и удивился. В этой черной дыре комфортабельно поместился жидок-фельдшер местной команды. Он был как у себя дома. В третьей жил фельдфебель. Второй коридор этажом выше – то же самое.
– Тут никого нет?
– Есть, только они добровольно сидят.
«Кто решится жить добровольно в такой ужасной трущобе?» И я вошел к одному из этих странных узников. Передо мной оказался высокий высохший старик. Как лунь, седая голова едва держалась на плечах. Глаза смотрели бессмысленно, губы что-то шептали.
– Арестантом тоже был когда-то. Ему уж сто два года, – пояснил солдат.
– Что же, он освобожден?
Оказалось, что лет шестьдесят тому назад этого старика посадили в Соловецкую тюрьму и позабыли о нем. Только лет двадцать назад вспомнили – и он был освобожден. Когда ему объявили об этом, было уже поздно. Старик помешался за это время. Его вывели из тюрьмы, он походил-походил по двору, глупо и изумленно глядя на людей, на деревья, на синее небо, и вернулся назад, в свою темничную келью. С тех пор он не оставлял ее. Его кормят, дают ему одежду, иногда водят в церковь. Он подчиняется всему, как ребенок, и ничего не понимает. Где-то у него осталась семья, но за время своего заточения ни он о ней, ни она о нем ничего не слышали. Какая печальная жизнь! Что может сравниться с этим!
Другой узник, сидевший рядом и тоже добровольный, был высокий, крепкий, красивый человек с окладистой русой бородой. Это бывший петербургский палач, пожелавший постричься в монастыре. Соловецкие монахи не отказались принять его, но с тем условием, чтобы он предварительно, пока они присмотрятся к нему, несколько лет прожил у них в тюрьме… Какое странное сближение: палач и монах. Этот узник доволен своей судьбой. Он замаливает старые грехи, веруя в искупление. Из него получится хороший каменотес или носильщик.
– Ну а наверх решительно нельзя? – спросил я у солдатика.
Оказалось, что строго запрещено новым архимандритом.
– При старом капитане те, кто сидит здесь, ходили везде. Их и в кельи монашеские пускали, по лесам, по лугам. Ну а как новый вступил, сейчас их высокоблагородие заперли, и никого к ним не пущают… Они ничего, ласковы, я допрежь с ними в лес хаживал вместях!
– Что ж он делает?
– Чудной человек, больше ничего. Из себя жида изображает. Субботу соблюдает и разное такое. Однако с архимандритом горд очень – не покоряется. Тот их обращает назад, в Православие, но однако капитан не слушается и на своем стоит!
– Скучает, верно?
– Как не скучать! Книжки тоже читает!
Как оказалось, это человек весьма образованный… Властные люди, которым тюрьма открыта, говорили, что он помешан и что его следует держать в психиатрической лечебнице.
– Он под Святыми воротами, при старом архимандрите, проповеди богомольцам говорил. Оченно быстро говорил и руками размахивал! – заметил мой проводник.
– А кроме него кто еще там есть?
– Купец один… Хороший человек! Обходительный…
Больше я ничего не мог узнать об арестантах Соловецкого острога.
Когда я вышел отсюда и меня со всех сторон охватил теплый воздух летнего дня, когда впереди опять раскинулась передо мной синь морская, а в вышине лазурь безоблачного неба… я невольно почувствовал все бесконечное счастье свободы! Какое блаженство пройти по этому зеленому лугу, углубиться в этот тенистый, словно замерший над зеркалом извилистого озера лес! А там, в этих черных кельях острога, в этих погребах…
Да, только узник из-за решеток своей тюрьмы поймет неизмеримое счастье свободы. Как оттуда он должен смотреть на едва доступный его взгляду клочок голубого неба! С какой мучительной болью следит он за жемчужной каймой облака, набегающего на него, за серебряной искрой чайки, ныряющей в высоте, за робко мигающей оттуда звездочкой ясной зимней ночи… О, не дай Бог никому пережить эти ужасные годы одиночества и неволи! Легче смерть!
В трапезной
Я осведомился у монаха об исторических подземельях Соловецкого монастыря.
– Какие подземелья? Погреба наши, что ли? Квасная, кладовая…
– Нет, тюрьмы подземные!
– Этого у нас вовсе нет. Слух один пущен, что есть будто… У нас есть один брат, очень эту старину любит. Ничего и он не нашел. Потом слышно было, что никаких таких местов у нас нет и звания. Ты, поди, у газетчиков читал? Врут!
Наконец мы отправились в трапезную. Длинный коридор был весь расписан фресками, возбуждавшими в крестьянах-богомольцах беспредельный ужас.
– Боже мой!.. Глянь – из глотки-то змей ползет!
Разговор шел, по-видимому, между фабричными, которые и здесь оставались верны своей бесшабашной манере говорить.
– Чудеса, братец мой. А бес во какой! Ишь… Господи, спаси и помилуй!
– А вот пламя адово…
– Змий, исходящий из гортани, обозначает грехи, – объяснял монах. – Этот грешник пришел ко схимнику, дабы покаяться в грехах своих. И видит схимник, что когда он называет грехи, из гортани кающегося вылезают гады и всякая мерзость – жабы, василиски и аспиды, хамелеоны и драконы крылатые. Напоследок оттуда показалась глава змия погибельного, но грешник не покаялся искренно, и змий обратно в гортани сокрылся. Из этого научитесь не таиться перед пастырем в дни покаянные!
– Удавит он его, братцы, змий этот…
– Не, он тихо…
– А змий этот обозначает великий грех против Духа Святого…
– Поди, кто о благолепии храмов не заботится, тоже не похвалят? – спрашивает странница у монаха.
– Заботься по силам. Через силу тоже не подобает, ибо и о детях малых подумать надлежит, а кто имеет избыток, тому точно жутко будет за равнодушие к храму, – объяснял монах. – Древле на церковь десятина шла, ныне – на волю каждому предоставлено!
Богомольцы продолжали изумляться и пугаться изображений адских мук и делать свои соображения о том, кого больше будут жарить на том свете…
– Всякому по делам его, значит… Все зачтется… Премудрость это, братцы!
Наконец мы вошли в трапезную. Эта громадная комната в сводах поддерживается необыкновенной толщины колонной. Она вся расписана. Яркие краски, позолота, лазурь так и бросаются в глаза. Впрочем, все носит на себе отпечаток чисто восточного великолепия. Некоторые рисунки отличаются художественным мастерством и выразительностью. Таковы работы отца Николая, молодого, лет двадцати пяти, монаха.
Стол для богомольцев поставлен отдельно. За счет монастыря каждого кормят три дня. Затем нужно ехать, если на дальнейшее пребывание в обители не дано особого разрешения высшей властью. Богомольцу дают обед и ужин. За обедом, на котором мы присутствовали, все шло тихо, чинно и спокойно. Перед каждым – оловянная тарелка, деревянная ложка, вилка и нож. На каждых четырех человек подается одна общая миска с супом. Сначала все, стоя у своих мест, ждут удара колокола. При первом ударе все молятся и садятся, но есть не начинают. Лишь при третьем ударе ложки опускаются в миски, и вдоль всех столов послушники разносят небольшие куски благословенного белого хлеба. Каждая перемена блюд возвещается колоколом. Монахи-подростки разносят миски с кушаньем. По окончании обеда все строятся у своих столов в два ряда, и поется благодарственная молитва. Затем опять раздача благословенного хлеба и вновь пение псалма. Во время обеда читается Священное Писание. Крестьяне обедают внизу со служителями, женщины же отдельно от всех. Как видите, и здесь относительно сословий соблюдается табель о рангах. При мне на обед было подано: соленая сельдь, окрошка из щуки со свежими огурцами, суп из палтуса, уха из свежих сельдей, пшенная каша с маслом и молоком. Кроме того, перед каждым лежал громадный кусок хлеба, фунта в два с половиной. Мяса, разумеется, не подается никогда, и монахи быстро привыкают к этому, тем более, что большинство – крестьяне, и дома у себя редко видели мясо. Северный крестьянин питается рыбой, хлебом, брусникой, морошкой, солеными грибами (волнухами) и у моря – сельдью.
– Хорошо едят монахи!
– Кажись, такую бы жизнь, не ушел бы из монастыря!
– А ты больше о душеспасении. Подумай о душе… Ишь, тебя яства смущают… А в них, в яствах этих, блуд!
– Если с верой, какой блуд? Без молитвы да без веры блуд. А я с чистым сердцем…
– То-то… О душе подумай, главное. Потому ей-то, душе, очень жутко, ежели без Господа Бога!
– А мы это не понимаем. Потому что в нас грех вселился. И за это нас следует во как… Гли-гли – бесы бабу хворостят… во как! Поди, подлая, проштрафилась… Известно – она баба, и у нее ум бабий… Однако и их на том свете не похвалят… Ишь, хворостят как, а ей больно, и она кричит…
– Кается…
– Поздно! На том свете не покаешься!
– А вот ежели на Пасху помереть? Беспременно в рай пойдешь – такой предел положен…
– А ежели еретик на Пасху помрет?
– Его в жупел. Потому он поганый и в Бога не верует…
– Однако и еретики есть, молятся!
– Глаза отводят – известно. Потому в России всем им царь приказал: у меня, значит, чтоб молиться, а ежели нет – ступай вон!
– Известно, народ некрещеный. В петуха верует!
– Ну?
– Ванька Шалый сказывал, что у них заместо креста петух на церквах.
– Ах ты, злое семя!.. В петуха!.. Ну!.. Как же это наш царь батюшка терпит? Разнесет он их, поди, за это…
– Турка, сказывают, в луну верит…
– То луна – планида небесная, не петух. В ей, в луне, премудрость… А петух что? Ему только бы горло драть, потому что он дурак и ничего понимать не может…
– В петуха!.. Каких необразованных наций на свете нет… Немец, говорят, в колбасу больше верует, оттого его Карла Карлычем прозывают, и большой он, этот немец, плут…
– Ноне народ плут. Время такое!..
– Жулик народ!..
– Куда теперь?..
– Спать, братцы, давай, потому мы, как следует, утром, рано встамши, помолились, потом в церкви были, опосля потрапезовали. Теперь спокой требуется…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!