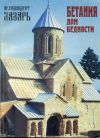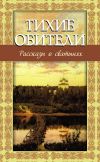Текст книги "Божии пристани. Рассказы паломников"

Автор книги: Владимир Зоберн
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В больнице у схимников
– Велика ли у вас больница?
– Что больница? Что в ей… Один грех. Господь гневом Своим посетил, а миряне к земным медикам прибегают. Точно они сильнее Царя Небесного. Ох, неверие! Что медика призывать, что идолу поклоняться – все едино!
– Так у вас, значит, доктора нет?
– Пост и молитва – вот доктора. Больница есть, но для мирян больше. Истинные монахи гнушаются этим. Отцы Церкви к докторам не прибегали и погибельных лекарств не вкушали, а, простираясь перед алтарем, молили Господа об исцелении и исцелялись. Так и ныне у нас многие иноки в случае недуга какого поступают. Пост и молитва! Мудрен больно народ стал, против Бога идет. Что означает болезнь? Гнев Господень означает, ибо сказано, что без воли Его ни единый волос не спадет. Забываем заповеди! Не писано ли на горе Синае: не сотвори себе кумира? А мы кому поклоняемся? Магам и волшебникам!
– Но доктора – не маги!
– Как не маги, ежели зелья составляют, ежели с Силой Небесной бороться хотят? При фараоне волшебники тоже жезлы свои обратили в змиев, но змий Моисеев пожрал их всех. Что доктора! Господь смилуется и пошлет исцеление. Вот, например, было у нас. Инок заболел, горячка, тиф ли, Господь знает. В черных пятнах стал весь. Что ж. Призвал трех монахов и просил молебен у себя отслужить и помолиться за него. Три дня по утрам в келье его служили, а на четвертый он встал и работать пошел. Вот наши доктора – Зосима, Савватий, Филипп и Ирмоген. Так это медики не от мира сего. В Архангельске тоже мальчик один было заболел, ну, мать за него обещание дала: если оправится, так на год в Соловки. Сейчас, как встрепанный, вскочил. Потому что здесь наука небесная – чудодействие, а не суемудрие и вольномыслие языческое, не измышление сатанино… Нечего ее и смотреть, больницу эту!
Богомольцы-крестьяне подтверждали это недоверие к лекарям…
– В нем, в лекаре, настоящей силы нет. Кого Господь захочет казнить, что лекарь поделает? Мужик один у нас был, заболел это… Ну, сельский дохтур сейчас. Разное давал ему. Сказывают, мазью какой-то обкладывал. Встал мужик, с виду и здоров. Что ж бы ты, милой человек, полагал? Не прошло и месяца, как от вина сгорел. Вот они – доктора! Что в них? Мечтание одно… Прах!
– Дух самомнения! – продолжал монах. – Есть у нас монахи. Как заболеют, сейчас лекарства глотать. Но я все же таким говорю: что творите? Беса в нутро свое пущаете? Истинно глаголю вам: не заботьтесь о теле вашем, но о душе непрестанно помышляйте. Не веруйте в медиков земных, но на Врача Небесного уповайте…
Другой уже монах показал нам больницу. Она вся заключалась в двух маленьких комнатах. На 600 человек, составлявших постоянное зимнее население обители, этого мало. Белье на кроватях безукоризненно чисто, лекарств не заметно, хотя и есть аптека.
Управляет больницей фельдшер-монах. Сначала он был нанят обителью, а потом монахи убедили его, ради спасения души, принять пострижение. Оно и выгоднее для монастыря. Нужный человек приурочен навсегда, да и денег ему не приходится платить. Что касается денежного интереса, о нем монах забывает – он не от мира сего.
Я видел монахов соловецких в Архангельске, заключающих договор о поставках хлеба, каменного угля, управляющих подворьями, и все тот же рисовался предо мной русский мужик, тонко замечающий и умеющий соблюсти свою выгоду. Тут он только трудится не для своего кармана, а для обители. Но мы уже видели, что монастырь для него отечество, семья родная. Вне монастыря ему все чуждо и дико. Чем сильней и богаче монастырь, тем сильнее и богаче он сам.
– Как вы лечите? – обратился я к монаху, присматривавшему за больницей.
– А мы больше на Божью волю уповаем. Нечего надеяться на медиков земных!
На одной из кроватей лежал горячечный больной. Он метался, дико оглядывая окружающих. Мокрые волосы прилипли ко лбу; иногда, судорожно вздрагивая, он что-то говорил про себя. Мы уловили одну минуту сознания, когда он удивленно взглянул на нас, потом обернулся к окну, откуда виделся ему кусочек голубого неба с яркими искрами чаек, носившихся в его лазури… Какая-то невыразимая грусть скользила в его неподвижном взгляде. Он словно прощался со всей завидной волей, со свободным воздухом родных далеких полей, с милым углом, где живут его близкие и дорогие. На одно мгновение блеснули слезы, и опять он заметался. В бреду он поминал детей, жену, поименно звал их… И нам казалось, что он был счастлив в эти минуты.
– Выздоровеет? – спросили мы у фельдшера-монаха.
– Как Господь!.. Молебен отслужим, авось и полегчает.
Из больницы мы вышли в коридор, по одну сторону которого шли маленькие кельи. В них жили схимники. Один из них, весь в крестах, тихо прошел мимо нас, погруженный в молитву.
<…>
Последние часы в монастыре
Пароход уже разводил пары. Жаль было оставлять эту чудную природу. Хотелось еще побродить в лесах и горах Соловецкого архипелага, посидеть на берегах его озер, на скалах у вечно шумящего лазоревого моря.
Тут даже отсутствие жизни, вероятно, благодаря новости и свежести впечатлений, чувствуется не особенно тяжело.
Перед отъездом еще раз хотелось окинуть последним взглядом эти чудные острова. Я взобрался в купол собора, где в четырех башенках проделаны маленькие окошки.
В последний раз из лазури неба и из лазури моря выступали передо мной эти – то черные, то золотые – мысы… В последний раз из массы елей и сосен сверкали живописные взвивы серебряных озер. В последний раз звучал в ушах моих неугомонный крик чаек. В монастыре загудели колокола.

Общий вид Соловецкого монастыря в 1899 г.
Торжественные звуки разливались, как волны, на той вышине, где стоял я. Тонкая дощатая перекладина подо мной дрожала. Колоколенка казалась висящей в воздухе. Жутко становилось здесь. Чувство инстинктивного страха проникало в душу. А все-таки не было сил оторваться от этих прекрасных окрестностей. Вот солнце зашло за тучку. Из-за ее окраины льется золотая полоса света. Косо охватывает она березовую рощу, и каждое дерево ее, каждый листик золотится, словно насквозь пронизанный лучами. Вот целые снопы разбросало направо и налево. Одни ушли в густую тьму соснового леса, и на золотом фоне ярко обрисовалась каждой своей ветвью громадная передовая сосна. Другие сплошь охватили серую скалу, и в массе темной зелени она кажется чеканенной глыбой золота. А эти часовни! При таком богатом освещении они теряют свой казенно-буржуазный вид. Вот что-то ослепительное лучится между деревьями, хотя его не видать, по крайней мере, трудно рассмотреть очертания светящегося предмета. Это маленькое, всего на минуту озаренное озеро. Вон, по золотой полосе дороги, лепится серая лошаденка с черным монахом; а там, вдалеке, на недвижимом просторе моря?.. Там паруса за парусами и туманные, едва намеченные очертания поморских берегов.
Куда ни взглянешь, повсюду лазурь, золото и зелень.
Пора вниз. Богомольцы уже потянулись к пароходу. Вон целые группы серого крестьянского люда в последний раз кладут поклоны перед стенами гостеприимно приютившей их обители. Вот у пристани собрались монахи…
Когда я сошел вниз, трапеза была уже закончена. Остальные странники и странницы толпились на палубе парохода. Все с громадными кусками хлеба, данными им на дорогу; говорят, что выдавали и рыбу. Не знаю, не видал. Зато многие попались мне в новом платье и сапогах, безвозмездно выданных им из рухлядной лавки монастыря. У всех были ложки соловецкого изделия, финифтяные крестики и образки…
Шумный говор стоял на палубе… Отец Иван, командир «Веры», – уже на своем месте… Команда ждет… Первый свисток. Пора и мне занять место.
Я уже направлялся к трапу, когда случайно заметил невдалеке молодого послушника-поэта. Он тоскливо глядел на сцену отъезда. Я еще раз подошел к нему пожать руку на прощание. Он заметно смутился.
– Послушайте, – горячо обратился я к нему, – человек с вашим талантом не должен отрешаться от жизни. Вы, как раб ленивый, зарываете таланты свои в землю. Поедем со мной… Бросьте эту рясу, вы принадлежите миру – и он вас зовет к себе. Вы – послушник и не дали никаких обетов. Еще не поздно. Через час пароход отчалит и вернет вас – к жизни, счастью, может быть, славе…
Прекрасное лицо юноши потемнело.
– Я не раб ленивый. Я не зарываю таланта в землю, а приношу его в жертву Богу. Там, – указал он за море, – там весь тот мир, куда вы меня зовете, представляется мне одной могилой. Там нет истинной радости, истинного счастья. Судьба моя решена, не говорите больше.
Второй свисток…
– Послушайте… Еще одно искреннее предложение: пошлите несколько ваших стихов в Петербург. Если их встретит успех, вы сами тогда решайте, что делать…
Он посмотрел на меня уныло.
– После того разговора с вами я всю ночь обдумывал ваши слова. Вы сказали, что у меня есть талант, и на минуту во мне воскресло старое. Куда-то хотелось… вырваться отсюда… Я самого себя испугался. Молился всю ночь, и под утро Господь внушил мне, что делать… Чтобы суетность не смущала меня больше, я сжег все, что написал когда-нибудь. Я сжег даже, – с усилием, глухо проговорил он, – даже ее письма… Теперь я весь принадлежу Богу. Не смущайте меня!
Слезы блеснули в его глазах, печальная улыбка на миг озарила его бледное лицо… Он, не прощаясь, повернулся и, понурившись, пошел прочь… Мне было тяжело, невыразимо тяжело. Я сетовал на аскетизм, не чувствуя в эту минуту, что в жизни у человека бывают моменты, когда такой аскетизм является живой потребностью его души…
Едва я успел взбежать на трап, как был дан третий свисток, и пароход медленно отчалил от пристани.
В каюте, на палубе и дома
Наше обратное плавание было очаровательной прогулкой. Весь сияющий, голубой простор моря казался безграничным зеркалом, в центре которого тяжело пыхтел и дымил наш пароход. Солнце обливало горячим светом палубу с яркими группами расположившегося на ней народа. Золотые искры сверкали в воде. Лазурь голубого неба не омрачалась ни одним облачком.
– Ишь, какую Господь погодку посылает опосля поклонения угодникам, – замечает один крестьянин, вытягиваясь у кормы на своих сумках. – В тот раз ветер был!
– Тут не ветер, а грехи наши… теперь, как от угодников – так милость!
– Много ль ты в обители чудес видал?..
– Все видал… А чудес этих там не перечесть.
– Все Бог, братцы… Ишь, как Он монахов устроил. Посередь моря на камне живут!
Я разговорился с высоким видным монахом, отправлявшимся в Архангельск для каких-то закупок.
– Давно ли вы в монастыре?
– Шестой год. Прежде я портовым слесарем был… Монастырь меня пригласил работать на сто восемьдесят рублей содержания в год. Их пища, разумеется!
– С чего же это вы постриглись?
– А монахи убедили. Нужен я им был. Жену я уговорил тоже в монастырь в Холмогоры, дочерей туда же, а сам на Соловки!
– Сколько же вы теперь получаете за работу?
– Двенадцать рублей в год!
– За что же вам так уменьшили жалованье?
– Потому, что я монах теперь, обязан на обитель трудиться!
– И нравится вам в монастыре?
– Не худо… нравится… Обеты тоже дал!
Наступила ночь. Солнце садилось в одиннадцать часов. Я стоял на капитанском баке и наблюдал оттуда, как постепенно морской простор изменял свои цвета и оттенки. Из голубого он перешел в яркозолотистый, потом в багровый, розовый, желтоватый, и наконец, когда солнце село, море приняло свинцово-синий колорит. Мимо парохода проплывали белухи. Говорят, что здесь иногда приходится встречать и моржей. Мы нагнали несколько поморских шхун и одного неуклюжего ливерпульского угольщика… Становилось свежо. Я пошел в каюту.
Скоро между мной и спутниками моими завязалась оживленная беседа… Болезненная и бледная жена моего знакомого за неделю сильно оправилась, пользуясь благорастворенным воздухом островов. На лице ее играл румянец, она чувствовала в себе больше сил и здоровья.
– Славное место. Вот бы где больницу устроить с морскими купаниями, – заметил кто-то.
– Не всегда удобно. Когда северный ветер дует, там холодно!
Наконец разговор зашел о монахах. Мой собеседник резюмировал свои впечатления.
– Соловецкий монах, – говорил он, – тип крестьянина-хозяина. Он зорко блюдет свои интересы, работает сам, не отказываясь от косы, лопаты и снасти, слепо верит и слепо повинуется. У него развит стадный инстинкт. Он готов на все ради своей общины, ради обители. Это человек труда. Он не рутинер, потому что бойко переймет все, что найдет хорошего у других, и устроит это у себя, пожалуй, еще лучше. Он не отступит перед препятствиями. Нужен ему мост через море – он завалит море камнями, нужны ему пароходы – выстроит их, доки – подумает и сделает их на славу. Он изобретателен и предприимчив. Но в то же время он крайне прост во всех своих потребностях. Ряса грубого сукна, рубаха из деревенского холста, бахилы вместо сапог; обильная, но грубая трапеза да – как верх роскоши – чай утром и вечером, больше ему ничего не надо. Приобретательные инстинкты в нем развиты сильнее всего, но он приобретает не для себя, а для общины. Он суеверен, как пахарь, но зато и работает, как последний. За свое состояние он держится цепко, даже рискуя навлечь на себя неприятности. Он никому не дает взятки, не пойдет ни на какое рискованное дело, он везде верно рассчитывает и никогда не ошибается. С первого взгляда он покажется не умен; вы с видом превосходства начнете ему объяснять что-нибудь, но будьте уверены, что он уже обдумывает в это время, как бы половчее обойти вас, заставить поработать над исполнением той же работы вас самих для обители. Нужного человека он не выпустит из рук. Рано или поздно он наденет на него клобук и рясу и приурочит к монастырю, хотя бы только для того, чтобы поменьше платить ему денег. Общинный инстинкт развит в нем так сильно, что он не станет поддаваться на невыгодные для монастыря, но выгодные для него лично предложения. Тут, кроме боязни угодников, расчет на то, что только благодаря могучей Соловецкой общине из бедного, загнанного крестьянина-батрака он сделался сытым, обеспеченным, хорошо поставленным и уважаемым тысячами богомольцев монахом. К нему богомолец обратится просто – отец, как ваше имя святое? Где ваша келья святая? Благослови, отче! И все в этом роде. Монахи сами для себя – лучшая полиция. В монастыре никто из них ничего не осмелится сделать – его сейчас же выведут на чистую воду, потому что каждый позорящий поступок роняет достоинство обители, подрывает веру в нее и прежде всего отзывается на суммах прихода. Он помнит все былое и ласков с богомольцами, ласков с рабочим-крестьянином. Короче сказать, если бы не аскетизм, Соловки были бы идеалом рабочей общины!
– Ты нарисовал слишком привлекательную картину, друг мой, – мягко прервала моего собеседника его жена, – ты забываешь, что этот монах почти не живет тут духовной жизнью, для него нет науки, искусства. Он доступен только меркантильному интересу. В его благочестии слишком много суеверия, его молитва – не живое, неудержимое излияние души, а раз навсегда установившаяся форма, исполнение которой он считает для себя обязательным. Его Бог – не Бог милосердия и любви, а Бог гнева и кары. Он замкнулся в самого себя и не поддается никакому глубокому и нежному чувству. Он не понимает даже красоты той природы, среди которой живет. Для него важен не дух, а мертвая буква. Он хороший хозяин, но это хозяин-мироед. Он хорошо обращается с рабочим, потому что это рабочий добровольный, не требующий у него денег. Он корыстолюбив до жадности. А главное, в его душе нет ни понимания истины, ни потребности любви, ни поклонения красоте, в чем бы последняя ни выражалась – широкой ли панораме гор, озер и лесов, в великодушном ли поступке собрата, в лазури ли голубого неба…
– Вы забываете, что отсутствием всего нежного, мягкого, всего, что отличает троглодита от человека современной нам эпохи, он обязан своему аскетизму. Только близость женщины и детей дает все это. В крестьянской семье женщина не имеет этого значения, потому что она сама изголодалась, огрубела, обессилела. Короче, Соловецкий монастырь показывает, чем была бы крестьянская община, если бы она не подвергалась в течение целых столетий разным пагубным влияниями. Здесь развита исключительно экономическая сторона такой образцовой общины. Выделите аскетизм, дайте сюда женщину – и вы увидите, к чему пришла бы эта горсть людей.
– Значит, вы признаете, что такая община могла бы существовать в иной форме, то есть не в форме монастыря? Что без святых Зосимы и Савватия создалось бы здесь такое единство и общность интересов, такая стройность взаимных отношений, такая любовь к труду?
Ни один из нас не ответил на это. До сих пор все рабочие общины оказывались прочными только тогда, когда в основу их положено религиозное начало. Таковы моравские братья, перфекционисты, шэкеры, мормоны и так далее. Может ли существовать чистая община, рабочая община? Это вопрос будущего, тесно связанный с вопросом о воспитании.
Незадолго до приближения к Архангельску мы вышли на палубу. На юго-востоке сверкали золотые искры – это купола городских церквей и соборов. Потом обрисовались какие-то смутные, беловатые линии; они развертывались, светились все ярче, наконец уже отсюда можно было отличить контуры каменных зданий набережной. Скоро пароход причалил к пристани Соловецкого подворья, мы разом окунулись в шум, суету и движение городского центра.
Детский смех, улыбки женщин, говор и блеск жизни заставили позабыть разом все прелести действительно прекрасного, но окованного аскетизмом уголка. Только теперь, через год, передо мной выступили более рельефно выдающиеся черты этой оригинальной жизни, этого крестьянского царства.
На нашем севере Соловки самое производительное, промышленное и, сравнительно с пространством островов, самое населенное место. Без всяких пособий от правительства, без субсидий оно создало такую экономическую мощь, которая становится еще значительней, если подумать о том, что ее обитель обязана усилиям нескольких сотен простых и неграмотных крестьян.
– Это наше царство! – говорят крестьяне-поклонники, направляющиеся туда.
Митрополит Вениамин Федченков. Оптина
Оптина… Так сокращенно называли обычно этот монастырь богомольцы. Подобно и Саровский монастырь называли просто Саров. Иногда к Оптиной присоединяли и слово «пустынь», хотя пустынного там не было ничего, но этим хотели, вероятно, отметить особую святость этого монастыря.
Оптина находится в Калужской губернии, в Козельском уезде, в нескольких верстах от города, за речкой Жиздрой, среди соснового бора.
Само слово «Оптина» толкуют различно. Но нам, с духовной точки, больше по душе легенда, что эта пустынь получила свое имя от какого-то основателя ее, разбойника Опты. Так ли это было на самом деле или иначе, но посетителям да и монахам это объяснение нравится больше, потому что богомольцы тоже приходили туда с грехами и искали спасения души, да и монашеское житие по сущности своей есть прежде всего покаянное подвижничество.

Главный вход Оптиной пустыни в начале XX в.
Прославилась же Оптина своими старцами. Первым у них был отец Лев – или Леонид – ученик знаменитого старца Паисия Величковского, подвизавшегося в Нямецком монастыре, в Молдавии. После отца Льва старчество перешло к его преемнику, иеромонаху отцу Макарию (Иванову), происходившему из дворян. Про него сам митрополит Московский Филарет сказал однажды: «Макарий – свят». Под его руководством воспитывался и вызрел «мудрый» Амвросий, учившийся сначала в семинарии. Потом были старцы – два Анатолия, Варсонофий – из военной среды и отец Нектарий. Последнего, а также и второго, Анатолия, видел я лично и беседовал с ними. Но кроме этих, особо выдающихся иноков и настоятеля, и многие монахи тоже отличались высокой святой жизнью. Впрочем, и вся Оптина славилась на Россию именно духовным подвижничеством братии, что связано было больше всего со старчеством и в свою очередь воспитывало опытных старцев.
Старец – это опытный духовный руководитель. Он не обязательно в священном сане, но непременно умудренный в духовной жизни, чистый душой и способный наставлять других. Ради этого к ним шли за советами не только свои монахи, но и миряне со скорбями, недоумениями, грехами… Слава Оптинских старцев распространилась за сотни и тысячи верст от Оптиной, и сюда тянулись с разных сторон ищущие утешения и наставления. Иногда непрерывная очередь посетителей ждала приема у старца с утра до вечера. Большей частью это были простые люди. Среди них иногда выделялся священник или послушник монастыря. Не часто, но бывали там и интеллигентные лица: приходили сюда и Толстой, и Достоевский, и великий князь И. Константинович, и Леонтьев, и бывший протестант Зедергольм; жил долго при монастыре известный писатель С. А. Нилус; постригся в монашество бывший морской офицер, впоследствии епископ Михей. При отце Макарии обитель была связана с семьей Киреевских, которые много содействовали издательству монастырем свято-отеческих книг. Отсюда же протянулись духовные нити между обителью и Н. В. Гоголем. Известный подвижник и духовный писатель епископ Игнатий Брянчанинов тоже питался духом этой пустыни. А кроме этих лиц, дух внутреннего подвижничества и старчества незаметно разлился по разным монастырям. И один из моих знакомых писателей, М. Н., даже составлял родословное дерево, корнями уходившее в Оптину… Хорошо бы когда-нибудь заняться и этим вопросом какому-нибудь кандидату богословия при писании курсового сочинения… А мы теперь перейдем уже к записям наших воспоминаний.
Конечно, они не охватывают всех сторон монастырской жизни, не говорят о подвижнической страде иноков, какая известна была лишь им одним, их духовникам да Самому Богу. Я буду говорить лишь о наиболее выдающихся лицах и светлых явлениях Оптиной. Разумеется, такое описание будет односторонним. И правильно однажды заметил мой друг и сотоварищ по Санкт-Петербургской духовной академии, впоследствии архимандрит Иоанн (Раев), скончавшийся рано от чахотки, что я подобным описанием ввожу читателей, а прежде всего слушателей, в некое заблуждение. Он привел тогда такое сравнение. Если смотреть на луг или цветник сверху, то он покажется красивым со своими цветами и яркой зеленью. А спустись взором пониже, там увидишь голенький стволик с веточками. Но и здесь еще не источник жизни, а внизу, в земле, где корявые и извилистые корни в полной тьме ищут питания для красивых листочков и цветочков. Тут уже ничего красивого для взора нет, наоборот, и неблаголепно, и грязно… А то и разные червяки ползают и даже подгрызают и губят корни, а с ними вянут и гибнут листочки и цветочки.
– Так и монашество, – говорил отец Иоанн, – лишь на высотах красиво, а сам подвиг иноческий и труден, и проходит через нечистоты, и в большей части монашеской жизни является крестной борьбой с греховными страстями. А этого-то ты, и не показываешь в своих рассказах.
– Все это совершенно верно, – скажу я. – Но ведь и в житиях святых описываются большей частью светлые явления из их жизни и особенные подвиги. А о борьбе с грехом упоминается обычно кратко и мимоходом. И никогда почти не рассказывается о н/ей подробно. Исключением является лишь житие преподобной Марии Египетской, от смрадных грехов дошедшей потом до ангелоподобной чистоты и совершенства. Но и то описатели оговариваются, что они делают это вынужденно, чтобы примером такого изменения грешницы утешить и укрепить малосильных и унывающих подвижников в миру и в монастырях. Так и мы вообще не будем много останавливаться на наших темных сторонах; это не поучительно. Да они мне и неизвестны в других людях; о чем бы я стал говорить?! Впрочем, где следует, там будет упомянуто и об этом. Читателю же действительно нужно и полезно не забывать, что высоте и святости угодников Божиих и предшествует и сопутствует духовная борьба; иногда – очень нелегкая и некрасивая.
Кстати, и сам упомянутый отец Иоанн должен по справедливости быть причислен к лику подвижников. Он мало жил, умер, будучи инспектором Полтавской семинарии.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?