Текст книги "Вещи (сборник)"
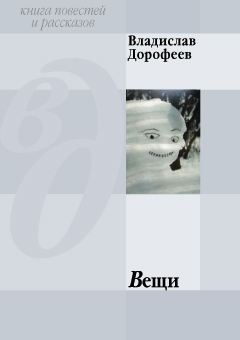
Автор книги: Владислав Дорофеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
«Поесть бы и выпить чего. Ты меня покормишь, а я тебе расскажу, почему я столь равнодушен к тебе: мы с тобой поздние плоды, мы долго зреем, долго сохраняемся – нам надо реже вспоминать о каждом и еще реже видеться.»
Произносит он выученным залпом, смотрит в свои глаза в зеркале прихожей.
Женщина вскрикивает, стаскивает плащ с рыжего, кружится вокруг и увлекает за собой в комнату, напевает и трепещет, взбудораженная внезапным появлением рыжего. И рыжий рад.
Женщина останавливает дыхание, замечает, что голая, говорит рыжему: «Рыжий, я нагая!»
И рыжий одевает на нее бирюзовое платье-балахон.
«Пойдем на кухню, у меня есть холодная рыба, чай, черный хлеб, коньяк, сделаю яичницу: ты знаешь, я предпочитаю употреблять в пищу те продукты, которые нельзя испортить, которые не прошли сквозь смерть, тоску, шок, безысходное.»
Неожиданно и нестерпимо их из дома повлекло.
Женщина подпоясалась бронзового цвета ремешком, всунула ноги в изумрудные туфельки, надела черный плащ и они потопали из лицемерной комнаты мимо ушлого зеркала прихожей, из себя в огород города, а поесть они зайдут в кафе, где закажут коньяк, яичницу, холодную рыбу.
«Хорошо ли тебе…»
Женщина спросила, не открывая век и упрямо изгибая спину.
«Я счастлив и напряжен, как человек. Пусть женщины и реки убьют меня, я буду терпелив и не настойчив, я буду – младенец!»
Запивает рыжий пятидесятью граммами и брызжет лимоном в пунцовые десны.
Милые, вам надо подготовиться к вечеру джаза!
Во мраке зала Рыжий величественно раздвоится, левую руку его продолжает ощущать женщина, а Сам он сойдет в личину джазиста на сцене; и заиграет джаз и давится зал от натуги, не успевая поглотить джазовые звуки. Логический мир джаза развивается, обыден, даже консервативен, гармоничен и профессионален, как сама жизнь. Джазист ничего не создает, он отвергает слепоту и использует себя в качестве музыкального аккорда, в качестве ассонирующего или диссонирующего момента. Звук сплетается с взглядом зала, страсть, как лоза, оплетает стены зала. Джазовая партитура поведения джазиста в сочетании с чистыми эмоциями, страстями, настроениями производит удручающее и прекрасное впечатление распада. Зритель и джазист дифференцируются и каждый получает то, что он хочет: потребитель потребляет, производитель производит, но и каждый одновременно – производитель и потребитель, жрет и изрыгает каждый. Излишне ровный джаз был бы скучен и с третьим аккордом нес бы тоску по дому и отвращение к неуюту темного чужого зала, когда бы не рыжий джазист.
«Кто тобою любим, Женя?» – Спрашивает Она-Вторая.
«Я люблю рыжего, он сидит по правую руку мою белую!»
«Тронь его или спроси вслух о чем-нибудь – это пустая оболочка, лишь тело, а рыжий-Сам на сцене, люби сценического рыжего, он правдив и твой, но и жалей рыжего, он джаза – помни об этом!»
Женщина и сегодня не забыла нацепить украшения из белого металла; рыжего рядом она уподобила украшениям своим, а на сцене играет и распоясанная в фантастическом красно-желтом колпаке в порыжевшем от старости и носки зеленом форменном балахоне, в черных усах беснуется мужская душа рыжего – именно об этом и говорила женщине Она-Вторая, и женщина не возражает, объясняя себе феномен Рыжего в удивительном и красивом раздвоении его. А, внимание к женщине, спросим мы; внимание уже не обязательно, если душа рядом, не скрыта и, если душа похожа на клоуна, такая душа не страшна, а то, что не страшно, то истинно.
Она вышла с рыжим в смешную послеконцертную ночь. Они вместе любят такие ночи, когда особенно видно, что страх – это одиночество. А если сам выбрал одиночество, то легко, когда захочешь, раздвоишься, а захочешь, любишь рыжего или женщину, кого захочешь, того и любишь своею любовью одинокого. И лишь захотевшие быть одинокими хотят жить! И ночь им – светлый «до мажор» «Битлз», светлый «до мажор Бетховена».
Мир потихоньку расслабляется, отдыхая от дня минувшего.
«… мухи фанфаронят, а молодые мухи испытывают себя на человека и, вообще, всякая живность испытывает себя на человеке, но все честны при этом?»
Вся суть в том, что рыжий после разговора о мухах сделал в постели предложение женщине, и женщина засмеялась визгливым истошным воем, приглушая немые свои слова: «Малыш, я не ждала, не хочу предложения, потому что я никогда и ни о чем, и ничего не знаю определенно, ясно, различимо. Я говорила „Да“, а внутри „Нет“, а на „нет“ – „да“. Твои важные глаза виноватые свидетельствуют, что ты отчасти из уважения к моей персоне делаешь это брачное предложение.»
Женщина увидела, что время победило ее окончательно и, она уже никуда не колышется ни вправо, ни наоборот, уже ветер растаял в ней, она встала уже пред временем на колени и, время повернуло к ней раскаявшейся, иную морду, противоположную морде, которая обращена к непокорным. Что же дальше делает женщина? Она спит! Единственное на что она теперь самостоятельно и творчески способна.
Спят, сдвоенный рыжий и традцатипятилетняя женщина, слегка похожая на нечаянно успокоившийся в саду снегопад.
Теперь женщина совсем беззащитна, и это очень хорошо.
Последний день
Но рыжий не слышит.
«Нет, не играть, не петь – на улицу!»
«Ночь ведь!» Говорит нелепым голосом рыжий, сощурив глаза, он сел было к инструменту, после того как женщина его разбудила и, как обычно ночью, попросила прощения, но рыжий, к сожалению, не услышал, что женщина просит прощения дольше чем всегда, вдвое дольше.
«Правильно, ночь; мы пойдем вдоль реки по городу, я хочу. Пойдем.»
«Нет-нет.» Тусклым голосом мнется рыжий, «прости», мол, засыпает, упрятав голову в подушки.
Женщина сгорбленная походила по комнате, недоумевая, что делать, подскочила к окну, как-то оделась и выкинула себя на улицу, ночную и жидкую, под невидимые человеку звезды, под полную Луну.
Если вы не спите, я вас выведу в первые дни августа ночью за пределы дома. Ночь внезапна, черна и недвижна. Мир остывает и остыл. Ночь – это смешно, после света шагаешь в темноту и обязательно, какие-то осклизлые матовые беловатые фигуры пройдут или промчатся, или нырнут, или скользнут мимо тебя или из тебя в темноту – как последняя память света и человека о том, как он богат и силен; он владеет ночью, строя дом и, зажигая огонь в нем; и побеждает человек ночь. Так думает человек. Но ночь не отступает, она сгибает человека и проходит дальше.
Бежит женщина по тротуарам и земле, по дорожкам и через мост, вот любимая набережная с золотыми гладкими куполами за стеной. К дереву у стены женщина пристыла и сквозь закрытые глаза, она увидела продолжение представления в Каменном театре: после очередного лестничного пролета женщину затащили в туалетную комнату, прислонили испуганную, замертвевшую к стеночке, и она не двигается, настоящая женщина, онемевшая; они, какие-то, расстреливают тело, но хотят еще нечто расстрелять, они недовольны, после каждого залпа подходят, осматривают мишень, дико взвывают и опять возвращаются на исходные позиции, тщательно целятся, дырявят тело, подходят, снова остаются неудовлетворенными, взвывают и дрожат, от бешенства слепнут, женщина ускользает и от этих, спускается вниз по лестницам.
«Что? Что хотели? те с ножами, эти стреляющие, что искали и не нашли, как убить? Кого хотели разрезать и расстрелять все эти люди? Душу-у-у… Душу! конечно, Душу!»
Женщина оставила дерево, укромно идет вдоль парапета набережной, села, изображая амазонку, на парапет и смотрит в реку. Балуются женские волосы с ночным опухшим от скуки ветерком. Очертания фигуры, если уходит Луна, сливаются с набережной.
Очнулась женщина, рядом сидит, какой-то человек. Вдвоем, человек и женщина сидят на парапете, вот человек слюнявит указательный палец и прикрыв левый глаз протирает кожицу века, открывает глаз, слюнявит палец, прикрывает правое веко и протирает, не сменяя позы и гримасы лица лысой глянцевой головы. Они сидят и сидят, а женщина еще перебирает неслышные разные слова, составляя из них новые предложения: «И вся я в этой обычной жизни укрыта впереди золотым слоем; золотой слой повторяет изгибы и выпуклости, и впадины, и вот обнаруживается снаружи еще одна женщина. И получаются три женщины: две явно видимые и Она-Вторая. Незаметно для человека я выскочу из под маски, и человек обманется, маска его надует, человек будет думать, что я на месте, рядом. При жизни у меня есть золотая погребальная маска.» Скользят словосочетания, и она еще хочет, чтобы какая-нибудь из трех ушла в лес и повесилась! Свив для этой цели своими руками веревку, потом завязала бы петлю и закрепив одним концом веревку к ветке над обрывом, упала бы с обрыва, полетела что ли.
Человек рядом считает цвирканья из скверика за рекой, вот сколько-то насчитал и протирает веки, дальше считает, насчитал, протирает веки.
В купе на двоих, в мягком вагоне в международном поезде сидит женщина, одна она едет домой.
Женщина включила ночник, потушила верхний свет, сорвала одежду, села на нижнюю полку, схватила со столика сложенный исписанный лист, повалилась боком навзничь, ткнув головой стену через подушку, принялась читать помятый лист; лист этот – последнее письмо блондина. Блондин частенько баловался письмами к женщине.
Блондин не подозревает, что его задели слова женщины о том, что он еще мал и не понимает зачем и почему он художник, а может быть, он не художник, а, предположим, остался гениальным сутенером.
Пусть и будет тем кем должно, великодушно добавляем мы. Да здравствует! новоиспеченный сутенер-гений! В конечном же итоге блондин был бы согласен на переговоры-уговоры.
Сидит и смотрит в красную стену женщина, отворилась входная дверь – это рыжий, они сегодня поедут на родину женщины в сопки. Сейчас женщина встанет и рыжий поцелует ее в шею, женщина прильнет к мужчине и скажет: «Хорошо, если я поеду одна. Представляешь, как удобно – я буду одна в купе и никому не стану мешать. Тебя я вызову, как приеду.»
Не надо описывать прощание, дорогу, встречи, ибо это уже ни мало не изменит, лучше сразу перейти к главному и посмотрим, что и как. Сама женщина не помогает нам не болтать лишнее, и не терять напрасно времени. Уже она вошла в мир, а мир в нее единственной мыслью: «Скорее бы, скорее найти то старое дерево над обрывом. То дерево, именуемое мною Кроола в те давние времена, когда я бродила с дудочкой по лесу и в сопках, и ложилась спать на древние курганы, а небо любила лучше, нежели маму и папу.»
Стоит дерево над обрывом и ветви держали воздух пропасти; женщина воткнула в край обрыва зеленую палочку и приставила к палочке зеркало из дома, так получалось, что когда бы она спрыгнула вниз, длина веревки остановит ее лицо на уровне зеркала, в последнем сознательном движении женщина уравновесится, повернется лицом к зеркалу и увидит свое настоящее лицо: она отмерила, примерила, поправила зеркало, погладила, поцеловала землю, надела петлю и сползла вниз; ее последнее лицо осветило заходящее солнце.
… когда та, встреченная мною на эскалаторе, бывшая уже готовая самоубийца: в глазах самоубийство и ничего кроме и дикие черной срамоты глаза, ради которой я могу спасти повесившуюся, дала согласие сильнее смерти: «Я согласна, уже.»
«И ты не станешь думать о самоубийстве?»
«Не буду.»
«Пойми, женщина, которая умерла сама – умерла до срока, раньше срока! Ты же берешь на себя ответственность поступка, по отношению с повесившейся! Я тебе все рассказал, тщательно, по дням, чем началось и как закончилось. Я спасу повесившуюся, если теперь ты перестанешь хотеть и думать о самоубийстве – это право ты отдаешь, соглашаясь взять обязательство не думать, женщине, которая оборвала нить сама и нарушила движение к смерти до срока и повесилась раньше времени; ей бы грозило худшее из худших, если бы я тебя не усмотрел на эскалаторе, твои никчемные глаза, твои обреченные одежды, исподлобья взгляд. В душе самоубийцы вечность! Мгновенно подумал я, а в вечном находится ушедшая!»
Женщина умерла, и лицо ее, воскресшее в ночи, в зеркале, заговорило, очерствело в страхе, ибо ночь кончилась над обрывом; закричало лицо в немом ожесточении – ибо некуда рыдать в зеркале, зеркало ограничено и надменно, и рыдать бы в тесной вымученной могиле женщине вечно, когда бы ураганный ветер не закачал повесившуюся над обрывом и не уронил зеркало, и лицо выпало в Землю.
«Посмотри, самоубийца (тише! все же бывшая, теперь! Впрочем, посмотрим, что дальше), повесившаяся умирает окончательно, успокаивается повесившаяся, находит свое место, до которого она не дотянула, до времени, оборвав нить. Она – твои мысли, самоубийца! Ты искала способы, решения самоубийства, она нашла свою смерть и способ смерти! Ее смерть – это ты! Ты – для самоубийства готовившая свою душу! Ничего теперь не бойся, живи! Добра тебе!»
Уже сделали.
Нулевой день
Сегодня узнаю.
Эта женщина с эскалатора не сдержала слово: покончила с собой, она покончила с собой в петле в проеме окна, в заходящем солнце, спиной к небу, и лицо смотрело в зеркало шкафа в трущобной квартире, и комнату обвеивал, от алых роз в руках самоубийцы, невидимый и нескончаемо нежный запах, и глаза самоубийцы (ну, что я говорил! ведь-таки состоялась), как две пустые комнаты, покачивались, если качалось тело.
СТАРАЯ СУДЬБА, или ИСТОРИЯ С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
Листопад. Ночь. Дождь. Шагами тысячи людей скребутся по асфальту тысячи мокрых мертвых листьев. Шум тысячи шагов или тысячи костров.
Вновь, кроме яблок и хлеба, ничего не ел, но не в этом пустота, а вчера, вчерашний день.
Я придумал этот сюжет вчера. Память отдаляет; настойчивее и настойчивее я превращаюсь в придуманное, сюжет кипит и волнуется за окнами, трется вместе с тысячами желтых и разноцветных обломков осени.
Я шел на свидание.
Из мрака возле стены отделилась корявая, грузная старуха, завопила и сунула мне под нос кустик в целлофане. Старуха разветвленная и морщинистая. Преградила дорогу и шепчет, похожая на крысу и одновременно на рыбу.
– Купите красоту, спустившуюся с неба. Купите красоту спустившуюся! Недорого. Рубль шестьдесят копеек. Купи, пригодится!
Старуха присела слегка назад и пропустила меня, посмотрела, уткнув подбородок в грудь, и начала поворачиваться на прежнее место. Я отошел и крутанулся на носке. Смотрю в спину старухи и размышляю, а, что если дома у старушки ни кусочка хлеба, а я молодой, красивый, у меня много друзей, Марина. В кармане у меня три рубля и поступления денег не предвидится недели две. Объемная расползшаяся фигура старухи вызвала у меня физиологический приступ жалости, и я кликнул старуху.
– Бабушка, дорого! Давай за рубль, дорого!
– Нет, сынок. Купи, пригодится… Давай за рубль тридцать? Купи?
Купил за рубль тридцать.
Удивлю Марину.
Темно-серые облака ушли, большой закат занял небо и мысли. Голубое мешает розовое, и затем один цвет переходит в другой, и небо вызывает у меня желание прыгнуть туда, к нимфеточному крику солнца, забытого и облитого грязью ночи. Но, впрочем, это болезнь. Мой отец – самоубийца. И для меня, самоубийство, стало запретным и отвратительным… Я брезгую самоубийством после отцовских слезливых голубеньких глаз. Противно убивать себя.
Я ждал Марину, она опаздывала, вот и пошел погулять, перешел на другую сторону улицы, затем повернул – она.
Мы стояли через улицу, разделенные машинами, она смотрит, сощурив близорукие глаза, нежные и огромные, как две Луны с черной влажной сердцевиной. Глаза созрели давно и уже несколько перезрели, а смущали, жили отдельно от тела и головы и Марины. И, где Марина, я не понимал, но все эти части любил, распределяя нежность равными порциями. Наша связь возникла легко и естественно.
Мы полюбили гулять в метро и ездить на эскалаторах, это был наш быт и существование, и наше счастье, которое началось в вечер первого дня нашего знакомства, когда я с мостка прыгнул на крышу вагона поезда метро, а потом, как лягушка, скатился на четвереньках на пол.
– Марина! Марина! Для тебя цветы.
Она приникла ко мне лишь лицом, поцеловала меня возле уха. Вдруг я увидел обмякшие икры ног. И веру этой женщины я тут же и различил. Ее животный эгоизм тщеславия. Корыстолюбивое существо, не выходящее за границы своего удовольствия в виде дружбы, равновесия, комфорта, истины. Она показалась мне загадочной в той же степени, в которой может быть загадочна дура русская, например, церковная юродивая. Сегодня она как-то особенно хохотала и хлопала ладонями, зачем-то смущаясь. Сегодня, с небывшей прежде силой, Марина ненавистна мне и обворожительна тайной ничтожностью.
– Марина, я тебя через два часа убью.
Смеюсь и держу ее поросшую черными волосиками руку. Она стоит на ступеньку выше, я смотрю снизу вверх и перестал улыбаться. Марина смеется.
– Почему бы нет?!
Она молчит. И снова я.
– Чище смерти нет ничего.
Эскалатор кончился, мы идем по подземному полу, Марина вцепилась в мою правую руку, повисла телом и взглядом на мне.
– Я убегу от тебя… Я стану кричать… А как?
– Сброшу тебя под поезд. Видишь, поезд! Подходит быстро, но не успеет затормозить, я тебя сброшу, а сам скроюсь в толпе, убегу… Не сейчас, потом. Да и не веришь ты мне, я по глазам вижу, по телу, которое сейчас мягко и податливо – не веришь.
Она влипла в колонну и дышит, поводя по сторонам липкими мощными глазами. Из-под пальцев по мрамору колонны потек пот, капельками, и расползался на стыках плит.
Но более всего меня поразило собственное равнодушие и безразличие к моей девушке. Любовь, страсть, ночи, шоколад с батоном на улице, апельсин со сливками, монологи над ночной синей хрустальной рекой… ну, и что? Лишь прошлого зеркало, не более. Полагаю, теперь я могу плюнуть на женскую покровительственность вместе с женской же любовью. Впрочем, я мог это сделать, еще когда понял, каково знаться с одинокими женщинами, женщинами-переростками: они или сами уходят, или выгоняют, но никогда не терпят. Марина потускнела, пот перестал вытекать из-под пальцев.
Я обнял Марину.
– Мне не хочется тебя убивать. Честное слово, лень!
Кажется, дальше она говорила о черном длинном платье, о браслетах кольцами. Босиком она идет…
– И пугаешь прохожих…
Печаль, печаль. Убить ее через два часа? Говорю, говорю, а через два часа убью? Уф!
Сюжет основательно разросся за последние сутки. Память – это шлюха. Память с величайшей легкостью слово представляет делом и дело представляет событием, наверное, выдуманным. Итак.
Я, я, я… Ты, ты, ты… моя супруга. Жадные глаза, дикие повадки, катастрофическая громкая пронзительность в страсти и капризе. Супруга – женщина, перед которой я отступаю, а не понимаю чаще, чем люблю. Придуманные молотки стучат и разрушают ночь до потолка и выше. В комнате окно с разноцветными стенами, над каждым предметом на стене фотография предмета. Дверь почти в углу, а напротив в красной стене окно. В другом углу пианино с канделябрами на передней стенке. В центре клавиатуры белая СИ – пуста и глуха, но почему-то на нее часто попадаешь, и тогда звук проваливается в воду и шипит на сердце.
Я не убил ее! Я не убил. Я обещал. Я подлец и лжец. Я должен, быдло, ее убить. Хотя бы смертью вразумил ее, что постоянного в мире ничего нет и нет вообще ничего, а потому всякие цели искусственны и несостоятельны, как и желание жить, как и супруг, который гений, ибо всегда существует иной, гораздо больший гений. Ведь представители «женского пола», как крысы, которые не могут бежать задом. Почему я не убил ту, которая мучается?!
Молотки, как тысячи тысячей тварей вонзились, прокатились, впились, раскромсали, раздели менады своего Диониса добродушного и жестокого, раскромсали на желтые листья, жесткие и палые. Я тащусь по ровному полю или подлетаю выше плеч. Трутся молотки по времени, сильнее клыков бороздят друг друга, выжимают соки и разум сквозь поры. Я покрытый капельками пота, как капельками крови, она выбегает из пор, из глаз, из щелей вытекает каплями. А филин в глазах моих должен ждать, а я должен ждать, терпеть или сорвать оковы нравственного закона у меня внутри. Нравственность, как клыкастый серый щетинистый чудак-зверь резвится и не желает покидать долы и нивы. Но кто этот чудак и зверь?
Ах, не хочется говорить, но в последний раз, последний раз! Это – смерть! И я записываю, прежде, чем отвлечься. «Нужно думать о смерти, только, как о смерти, о жизни, только как о жизни, тогда, находя жизнь, мы теряем смерть и, находя смерть, мы находим жизнь, ибо жизнь определена делами, как и богом, народов, утренним бритьем».
Ерунда и скука, но, кто-нибудь пускай умрет в этом рассказе, ибо рассказ писался под клекот не придуманных молотков.
Моя машинка сама не пишет, но часто сама отказывается писать, когда я пропадаю из времени, тогда, например, у меня останавливаются часы, или я засыпаю, а, как известно, во сне человек не стареет. Вот-вот останавливается и замирает, наподобие кошки, которая, родная, почуяла, что говорят про нее, лезет из-под дивана, отряхивается. Дрянь, верно служит своему хозяину. Стережет добро и зло. Выкинул кошку вон.
Я работаю курьером в НИИ. Во время обеда проходил по делам службы мимо кафе «Лира», зашел пообедать. «Лира» находится на Пушкинской площади. И уже с подносом еды подошел к столику с бородатым мужчиной, у него было слегка чем-то припорошенное безразличное лицо с шеей шире головы. Мужчина настойчиво ел и давился из-за судорог, которые периодически пробегали по горлу из груди или из живота. Каждая судорога тянула мужчину вверх, он вздрагивал, цепенел и привставал, затем с шумом набирал полный рот еды и слюны, глотал очередной комок. Жалость вошла в сердце, а с ней страх и отвращение к человеку напротив. «Почему? Что с тобой?» Хотелось спросить.
Человек изрыгал потоками истому, которая может быть свойством таланта, а потому вдохновения или ощущения страха, но что или кого боится этот человек? Может быть, это следствие разврата, который характерен и типичен для людей, делающих искусство. А этот каков же? Вероятно, подобный же разврат входит в послужной список палача или смертника. И тот и другой спокойны и настойчивы в последний момент.
Этот парень переживал описываемые состояния, словно, ждал и ждал конца. На его мелкопоместном хищном лице бегали тугие морщины от макушки в бороду. Его руки, если он случайно проводил ладонью по столу или колену, вызывали сухой звук старушечьих рук.
«Невротический человек», – думал я и жевал, изредка наблюдая судорогу или потугу на судорогу в своем горле. В этот момент мы думали друг о друге. Признаться, мне не по себе, когда я знаю, что меня в этот же миг изучают и также нечто устанавливают, устанавливают меня и утверждают за мной какие-то правила, хотя может быть я за собой не знаю этих правил. Показалось, что за столом напротив сидит волк, молодой с клыками и крепкими ногами. Пожалуй, он видит напротив жирафа. Мы заговорили, это – Вик тор, а я – я. Опять я подавился гарниром и разозлился на Виктора не на шутку, зачем-то заговорил об экстремальных ситуациях в жизни человеческой.
– А какой сегодня день? – Неожиданно для себя, спрашиваю, и, набрав компот в рот, полощу зубы и выплескиваю компот назад в стакан.
– Не помню, – он отвечает, с трудом прожевывая сухофрукты.
Случайно я опрокидываю стакан с компотом на стол, и компот, протекая по столу, сливается на колени Виктора. Он молчит, неподвижен и ничего не замечает.
– Почему? – Думаю, может быть потому, что происходящее мне только кажется.
Ем недолго, но из-за своей впечатлительности оставил позади кучу состояний, например, состояние упадка и возбуждения, состояние агрессии, которое я испытываю, когда думаю, что Виктор находится в ситуации, подобной моей.
– Не удивительно, что мы с тобой столь скоро составили разговор, возможно, мы с тобой из одного ордена. Есть ордена, соединяющие людей по склонности к общению. Эти ордена не устанавливаются, не утверждают своих членов, что случается обычно при описании нового или свержении старого. Есть два типа ордена: движение и антидвижение.
– Какой же день?… Пойду позвоню жене. Автомат при выходе. Эй, парень, какой сегодня день? – И вновь к Виктору. – Ты видел когда-нибудь ромашки, облитые кровью?
Я передумал идти, Виктор продолжает.
– По всей видимости, истина – это антидвижение, это бытие, а бытие – сознание, напоминающее реку, которая, двигаясь вперед, двигается назад, то есть к смерти, к исчезновению, так как река, как и всякое создание, совершает антидвижение.
– Мне кажется, ты сейчас перерос что-то в себе, и настроен совершить действие, похожее на истину, но в отличие от истины, неспособное расти и размножаться подобно истине, а лишь меняться.
Не помню, вслух ли я произнес слова про различие? Помню, у этого парня с бородой голова лошади, а волосы будто с прозеленью. Вообще, он не похож на живой организм, скорее на что-то предшествующее живому организму.
– Сегодня, обрати внимание, я плачу экзистенциализмом и гуманизмом. Э… жаль, ты не был знаком со мной вчера.
Я подавился кусочком мяса. А Виктор опять за свое.
– Есть некий принцип: не делать того, что без будущего. Я для себя придумал такой принцип и возвел принцип в закон: не имеющее будущего, не делать.
Теперь я вступаю в игру.
– Сегодня листья падают, как снег.
Молчим. И снова Виктор.
– А когда рождение и похороны разом, что тогда? Как быть?
Я подумал, что нелепее парня я не встречал. Приятно, конечно, но. Ответить на вопрос я не успел.
Он вытащил из фарфорового стаканчика, стоящего посредине стола, две желтые салфетки и протер узкие вжатые губы свои. Потом лезет в карман и медленно, и тихо говорит.
– Пожалуйста. Здесь самообслуживание, отнесите мою посуду к тому столику. Вот рубль. Пожалуйста, поймите правильно. Мое поведение, слова, может быть Вам покажутся странными. Но я Вам и никому не лгу. Я несколько грубоват, но и это Вы должны простить. Вы потом поймете, что я прав. Прощайте.
Человек покачался с носка на пятку: раз-два-три. Образно заложил ладони за брючный ремень, я хорошенько в это время рассмотрел перстень, на левом безымянном пальце, темный и овальный: «маленький череп с костями», так я обозначил перстенек.
– Из чего перстень?
– Из чугуна.
Отвечает, уходя, и поворачиваясь ко мне спиной.
Смотрю в спину человека, она худая. Сам Виктор смуглый, с глазами филина, прямыми смоляными волосами и носом, завернутым на сторону, и руками, стреляющими по сторонам.
Я продолжал смотреть, как он нацепил синий берет перед зеркалом, осмотрел себя.
Чем же все кончится, подумалось. Смотрю в окно, желая увидеть подонка на улице. Навстречу подонку по Б. Бронной идут трое мальчишек в синей ученической форме, наверное, первоклассники, а средний из них, почему-то без ноги, я пригляделся, а на одной ноге у этого безногого закатана штанина до колена, и белая нога на фоне всего остального темного, словно отсутствует. Все трое веселы и довольны. Виктор обернулся на мальцов, смотрит смущенно на одноногого. Потом повернулся к кафе и увидев меня за столиком, смотрит на меня долгим довольным взглядом. А мне делается жалко его, и я отворачиваюсь смущенный и слегка потерянный.
Что это они все на меня смотрят?
Подошла баба с серой тряпкой в руках, с серыми же бедрами и уставилась в мой нос.
– Сгинь, дура!
И она сгинула между столов, протирая их поверхности.
У Виктора были кровавые белки и взгляд, как таран.
Земля далеко под полом кафе, дышит и зовет меня. Но нет земли, которой бы я сейчас покорился, я, разозленный одиночеством и бессилием. Почему-то вдруг запахло бананами. Я огляделся, за соседними столиками трясли кожурой и откусывали от экзотических стержней.
С моста дольки банановой кожуры, плывущие по реке, кажутся осенними листьями.
Конечно, он ошибается, думаю, собираю посуду и нахожу на полу с левой стороны стула сложенный лист бумаги. Белая глянцевая бумага. Почерк торопящийся, буквы ровные, экономные, однотонные. Писано зелеными чернилами, Сажусь на свой стул, читаю, протянув ноги, или вытянув их.
Успокаиваюсь, ибо на самом деле, он все-таки был честен. Он унизил себя наравне с собой. Но в голове кость.
Странно, но он был мой враг, возможно, первый настоящий враг: я защищаю людей от посягательства извне, а он старается уничтожить человека вовсе.
В истории мира существует один единственный человек. Все люди, которые не ты, и бывшие до тебя, формы одной сущности, так что же произойдет, если ты уничтожишь единственного – тогда и ты перестанешь существовать, тогда нарушится порядок размножения и роста. Тогда некому будет поднять, упавшее на Землю яблоко, и, Земля, видя статичность нашу и бессилие, высосет всю сладость яблока и настанет «поздно». «Очень поздно».
Подошла женщина с тряпкой в руке, вытирает стол, говорит:
Гражданин, вам надо уйти! У нас сейчас, посмотрите сколько людей… Обед. И не забудьте посуду…
Уходит, покачивая грязными серыми бедрами и серой тряпкой в правой руке. Подходит к другому столику, вытирает его, обернулась, смотрит тупо и вздорно в мою сторону. Тут я окончательно раздражаюсь, сваливаю на поднос посуду, иду к окошку посудомойки, ставлю поднос на столик у окошка, останавливаю взгляд на реденьких усиках мойщицы с красными по локоть руками, делаю два шага спиной, поворачиваюсь и крупно, грубо шагаю в туалет и затем выхожу на улицу.
Тем же крупным шагом возвращаюсь, но не хочется.
Подхожу к женщине с тряпкой. Говорю. Рот парализован. Губы не растягиваются до конца. Муторно мне говорить с женщиной глупой.
– Вы кого-нибудь, кроме себя, замечаете в этом мире?
– Не волнуйтесь, любезный, тебя замечаю.
А я вижу перед собой лицо с широкими черными бровями и рыжие волосы, нос с горбинкой. А вчера в автобусе видел женщину с рыжими волосами и сумасшедшим котом на коленях.
Она кивает и машет тряпкой. От тряпки пахнет.
Потом она отпросилась с работы и пошла переодеваться.
Уже в вагоне метро я рассмотрел свою бабу пристальнее и внимательнее. Юбка, на размер меньше, чем требуют того гладкие, упругие, похожие на две пиявки ноги в черных чулках. Она хороша: тронутая морозом ранней спелости, слегка раненая пламенем забав, остывшая кожа лица. Мы едем к ней, но она сказала, что сегодня она не может быть со мной, но у нее есть дома великолепный вишневый ликер.
Мы пили вишневый ликер, разговаривали, я рассматривал портреты, облепившие стены комнаты с высокими метра четыре потолками.
Люди на портретах были разного возраста и пола, а глаза у всех синие-синие. Один портрет меня вверг в уверенную непреодолимую дрожь: моя женщина с морщинками у рта, изображена до пояса, в красном свитере, на месте сердца череп с костями, на голове корона, по сторонам стоят собаки.
– Кто рисовал и, где собаки? – Спрашиваю, совершенно уверенный, что собаки и художник живут в одном, этом доме.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































