Текст книги "Жил отважный генерал"
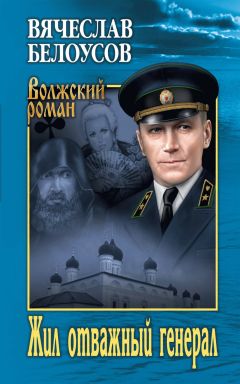
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Лёд и пламень
– Володя! Вам ваш любимый? Кофе? – Певучий, ласковый голосок Анны Константиновны донёсся с кухни до Свердлина, скучающего у окна с книжкой.
– Спасибо. Я её дождусь.
– Что?
– Я пока не хочу! – крикнул он. – Майю дождусь.
– Уже скоро. – Анна Константиновна плавно прислонилась к косяку в дверях комнаты. – Не помешаю?
– Отчего же.
– Что-то задерживается моя девочка. Эти иностранцы!.. Они не отпускают её от себя. Они как дети.
– Вздор. Она им потакает.
– Что вы говорите, Володя! Они Майю любят. И она в них души не чает.
– Нашли друг друга.
– Вы знаете, такое редко бывает среди учителей и студентов. Обычно молодёжь заносчива. Они все сплошь максималисты. И Майя им под стать! Она уступать не любит.
– Капиталисты все такие!
– Да какие же они капиталисты?
– Буржуи.
– Вы шутите. Они – будущие капитаны, моряки. Вот подучит их Майя русскому языку…
– И повезут они наш русский лес к себе – мебель дорогущую делать, – хмыкнул Свердлин. – А потом нам, дуракам, продадут.
– Вы прагматик, Володя, – грустно улыбнулась Анна Константиновна, – потому что юрист. Вон, Николай Петрович тоже вечно над ней подшучивает.
– Потакает она им…
– Она безотказная. Вы правы. Идёт у них на поводу. Экскурсию просят в музей – она несётся на экскурсию с ними, неделю готовится. В картинную галерею – ведёт. Сапожниковские закрома показывать. Мы с Коленькой Кустодиева и Коровина тоже вспоминаем. Занятная она. На днях Хлебниковым мучила. Серебряный век российской поэзии! Говорят, юбилей на носу. А вчера разволновала нас очередным нонсенсом. Спектакль они решили ставить к новогоднему празднику! И не водевиль, не мелочь, а Гоголя! «Ревизора» на русском языке! Как вам это?
– Классику в массы.
– Майя для них приводной ремень. К массам.
– Это профсоюзы. От партии – в народ.
– Это Коленька так над ней подшучивает. Дразнит её «ремешком народным».
– Замучают они её, народ этот черномазый. В русском-то не бельмес.
– Что вы! Ей в радость. Она же у них тоже была.
– Как?
– За границей. Практику там проходила. Сколько впечатлений! Сколько рассказов!
– Этим неграм повезло. Дождались, дожили до демократических времён. Сбросили оковы, с пальм спрыгнули. И к нам.
– Ну, какие же это негры? Арабы.
– Одна раса. Не наша.
– Они наивные и откровенные.
– Спекулянты.
– Что?
– Валюту не предлагают?
– Что это такое?
– Ну, доллары свои.
– Кому?
– Ну, Майе…
– Что вы! Зачем?
Свердлин отвернулся к окну, помолчал, потом подошёл к женщине, заглянул ей в глаза, тронул за руку.
– Простите. Я так. Всё о своём. Работа из головы не выходит. Простите… А кофе не надо пока.
– Вы такой занятный, Володя. Вам всё куда-то надо спешить, – засуетилась она. – Майя должна быть скоро. Почитайте тут. Она тоже… Любит книги… Стихи…
– Я на гитаре побренчу. Можно? – бросил он взгляд на гитару с бантом на стенке. – Кто у вас балуется?
– Майя. Она брала уроки.
– Вот как.
– Николай Петрович просит её иногда что-нибудь. – Анна Константиновна улыбнулась. – У него слуха-то нет.
– У него зато кулак прокурорский, – сжал свою руку в кулак Свердлин и поднял вверх. – Этого достаточно.
– Кулак давно не в моде, Володя, – покачала головой она. – И в прокуратуре Николай Петрович этого не признаёт. Осуждает. Они с Майей на эти темы любители поговорить.
– Долгими зимними вечерами? – взял гитару в руки Свердлин и присел настраивать струны.
– У них без расписаний.
В дверь позвонили. Свердлин повесил гитару назад.
– Ну вот и Майя. – Анна Константиновна поспешила в прихожую.
Потом они вместе пили чай и кофе на кухне. Разговаривали в основном Анна Константиновна и дочь.
– Поговорим? – кивнул он ей, когда Анна Константиновна собралась прибирать со стола.
– Что-нибудь случилось?
– Я просто устал.
– Пойдём, – улыбнулась Майя и поцеловала мать в щёку. – Мы посплетничаем? Хорошо?
– Дела молодые, – ответила та, – я в школу позвоню, что-то мне Маргарита Денисовна давненько новостей не передавала. Посплетничаю с подружкой.
Они прошли в библиотеку, и Майя прикрыла дверь.
– Ну что с тобой? – ткнулась она к нему.
– Нет. У меня так. Своё, – махнул рукой он. – Без секретов.
– Успокойся. – Она прижалась к нему и поцеловала в ухо. – Соскучился?
– Ты знаешь, у нас в штабе, как на пороховой бочке, скучать не дают, – ответил он и отошёл к окну.
– Я вижу, что-то произошло. – Она посмотрела на него, как на своего провинившегося студента. – Но если не желаешь?…
– Я же говорю…
– Хорошо. Закроем тему.
– Закроем. – Он сел в кресло.
Она заняла его место у окна.
– Знаешь, я скоро, наверное, опять поеду со своими в Йемен.
– Капитаны баржи поведут в дальние страны?
– Корабли.
– Я понимаю.
– А у тебя что нового?
– Давай я тебе спою. – Он вскочил, сорвал гитару со стены, пробежался пальцами по струнам, начал бренчать.
– Может, всё-таки скажешь?
Не гляди назад, не гляди,
Просто имена переставь.
Спят в твоих глазах, спят дожди,
Ты не для меня их оставь…
– А мы спектакль взялись ставить. – Она подошла сзади и положила руки ему на плечи. – Будем классику играть.
– Классику? – прервав песню, покачал он головой нарочито. – Грандиозно. Анна Константиновна поделилась твоими секретами.
– Она меня опять опередила, – шутя надула губки Майя. – Ничего не скажи!
– Гоголь – это, конечно, великолепно! – воскликнул он и снова запел:
Перевесь подальше ключи,
Адрес поменяй, поменяй!
А теперь подольше молчи —
Это для меня.
– Не хочу молчать, – шаловливо напомнила она о себе. – В Йемене сейчас жара страшенная.
– Вы спектакль там играть будете?
– Издеваешься? К новогоднему празднику собираемся. Поможешь?
– Нет, – задурачился он. – У тебя там своих чернокожих помощников полно. С моей белой кожей не пробиться. Говорят, сейчас рашен не в моде.
– А Майя твоя плакать будет, – пощипала она ему плечи ноготками.
Он запел снова:
Мне-то всё равно, всё равно,
Я уговорю сам себя,
Будто всё за нас решено,
Будто всё ворует судьба.
– Ну и не надо, – оттолкнулась от него Майя и отбежала к окну. – К нам на кафедру Сергей Филаретович зачастил. Его все спрашивают, по какому поводу, а он молчит и глазки прячет.
– Меня из штаба гонят, – вдруг резко перебил её Свердлин.
– Что?
– Предложили переводом. Вызывали к шефу. Тот посоветовал заняться следствием. Благо вакансия есть в одном из городских районов.
– Разве плохо? Ты же юрист.
– Вот и он твердит – по профессии диплом отрабатывать надо.
– Ну и отлично. Не надоело мальчиком при штабе на побегушках?
– Ты серьёзно?
– А что? Ты же сам Лавкрафтом[15]15
Автор приключенческой литературы ужасов, создав свою теорию «философии ужасов».
[Закрыть] бредил? Помнишь, Хэммета, Гарднера[16]16
Наиболее известные представители детективной литературы США.
[Закрыть] мне пересказывал?
– По мне уж лучше Миллер[17]17
Американский писатель, произведения которого запрещались в США из-за нецензурщины и порнографии.
[Закрыть], – отвернулся он.
– Что?
– Если отец позвонил бы долбаку в кадры, они сразу отвязались бы, – будто для себя проговорил он и снова запел:
Только ты не веришь в судьбу,
значит, просто выбрось ключи…
Оборвал песню и замолчал.
– Ты подумал, о чём меня просишь, Владимир? – Майя замерла у окна.
– А чего особенного? Это его ни к чему не обязывает.
– Ну знаешь!
– Я-то знаю, Маечка. Знаю. Игорушкин для моих штабистов вместо Бога.
– Да что ты себе позволяешь?
– Я просто поделился своими заботами, Майя. – Свердлин поднялся с кресла, повесил гитару на стенку, потрепал бант. – Ты меня спросила. Я тебе ответил. Если я обидел тебя, – пожалуйста, извини.
– Я не знаю!.. Я не знаю, что думать!
– А ты не ломай особенно голову. Представь себе, что я всё придумал. Как дурной сон. Наваждение. Как сон, как утренний туман… И вообще у меня всю неделю дурное настроение.
– Ты шутишь?
– А ты что подумала?
– Ну так нельзя, Володя! У меня тоже есть нервы!
– Майя! – постучала в дверь Анна Константиновна. – Прости меня, но тебя к телефону!
– Беги, беги, – подтолкнул её Свердлин.
– А ты?
– Я тоже побегу. С час просидел, тебя дожидаясь. Уже разыскивают, наверное, в штабе.
Всё, что сердцу мило
Майор Курасов, браво вышагивая по Невскому, сверкал улыбкой всех тридцати двух крепких зубов, даже в собственных сапогах, когда грациозно нагибался, смахивая с них малейшую пыль. Поскрипывая новой портупеей, черноглазый красавчик держал в одной руке фуражку, а в другой вещь совершенно не милицейскую, но сокровенную – изящный «дипломат», заветное приобретение в Северной столице.
Жизнь прекрасна, что ни говори!
Удачное тёплое утро, небо совсем не ленинградское, без единого хмурого облачка, сияющее лукавое солнце и кокетливые женщины в разлетающихся одеждах, парящие навстречу!
Ты молод и здоров! Свободен, как птица! Впереди весь мир! И никаких преград и тревог! Душу рвёт вырывающееся из груди любвеобильное сердце. Кажется, ещё миг – и оно выскочит навстречу женским улыбкам. Глаза разбегаются.
Курасов на вершине блаженства. Отзвенел последний раз жалящий сигнал учебной тревоги, отзвучала последняя команда учебного выезда на место происшествия. На днях сдан последний экзамен. Теперь у него здесь всё последнее, последняя, последний… Диплом об окончании Высших следственных курсов в нагрудном внутреннем кармане надёжно застёгнут крепкой пуговицей. Большая, правда, одна, звёздочка сияет на погонах, звенят в ушах победные фанфары прощального офицерского банкета, ласкают хвалебные тосты и лишь единственная закавыка – слегка побаливает ещё от вчерашнего возлияния похмельная головушка…
И сегодня после месячного пребывания он покидает этот полюбившийся, запавший в душу город. Он уезжает домой. Прощай, Питер! Прощай, сказка! Прощайте, прелесть белых ночей, золотые петергофские фонтаны, лев, так и не одолевший Самсона.
Он и сам сподобился каменному исполину, преодолев и пережив за этот месяц столько, столько ни приводилось во всей его предыдущей жизни.
Курасов тормознул у симпатичной кафешки, дурашливо козырнул отразившемуся в витрине высокому элегантному счастливчику с осиной талией и крутой саженью в плечах. Зайти, хлебнуть чёрного кофейку? Снять допекавший хмель? Во фляжке остались запасы с банкета. А почему бы и нет? Имеет полное право. Сегодня ему всё позволено! Он достал из кармана аккуратную щёточку, подарок заботливой Эллочки, приучившей его к новому «модус вивенди», смахнул невидимую пыль с сапог. Обувь мужчины должна блистать, как душа офицера!
Элла, Эллочка! Эллочка-тарелочка! Невольное мимолётное увлечение. Как прелестны твои глаза! Как памятны жаркие губки! Сегодня она примчится на вокзал его провожать. Знает всё: надежд никаких, а прикипела и не думает о разлуке. Он, как некоторые курсанты, мыльных дворцов ей не обещал, планов не строил. Не скрывал, что женат, что встреча мимолётна. Но она всё равно примчится на вокзал. А как начиналось?…
– Тонкая натура, – споткнулся о её взгляд приятель Серёга из Иваново. – Нам бы чего попроще? С этой весь месяц впустую убьёшь.
– Тургеневская женщина, – шептал заворожённый очарованием шатенки Курасов, губы его враз подсохли.
– Гордая. Чайник повесит.
– Мне нравятся недоступные.
– Высока, – урезонивал из последних сил Серёга.
– По мне как раз, – шагнул, как в пропасть, Курасов, пригласил на танец и познакомился с Элеонорой.
Теперь она просто милая Эллочка-тарелочка, изящное создание, покорное существо, ловящее каждое его слово. И сблизила, спаяла их та памятная ночь…
До последнего она держалась. Придумывала закавыки и всевозможные хитрости, чтобы не пустить его в дом. Уже и петергофы все объездили и эрмитажи обходили, только со стен Кронштадта удочек не закидывали. Дошла очередь до церквей и храмов, а значит, ему скоро уезжать. И её будто подменили! Куда делся неприступный вид! Эллочка выкинула белый флаг…
Засвистел тормозами за спиной автомобиль, высунулся было из окна едва не по пояс разгневанный водила, в возмущении размахивая рукой, но узрел застывшего в апофеозе чувств майора с непокрытой головой, нырнул назад и, выруливая, лишь чертыхнулся про себя. Курасов зашёл в кафе. Взял чашку жидкого шоколада, стакан сока. Огляделся. Никого. Он примостился у окна. Вспомнил опять ту ночь.
…Его засквозило холодком таинства чужого жилья, когда они поднялись лифтом на третий этаж в её квартиру. Он осторожно осматривался, озирался, словно первобытный дикарь в пещере неведомого, более могучего, нежели он, зверя. Роскошество поражало и угнетало. Он хорохорился, не поддавался. Спросить о родителях? Зачем? И так видно. Из высшего эшелона. Ему ни за что не дотянуться. Ну и ладно об этом. Тепло шло от Эллочки и её рук. Этого достаточно. Ради этого он здесь. Не с родственниками же знакомиться припёрся!
– Родители на даче. С ночёвкой, – шепнула она ему. – Ты проходи, располагайся. Я стол накрою.
– Зачем? – обняв, обволок он её всю, податливую и дурманящую, и потерял над собой контроль; месяц женщины не чувствовал по-настоящему, всё охи, вздохи да поцелуйчики на лету.
И они упали на то, что было ближе…
Уже стемнело за лёгкими занавесками, когда они очнулись и, будто заново родившись, вглядывались друг в друга, не узнавая. Она лежала на его груди, всверливаясь в душу своими зелёными кошачьими глазами и улыбалась через силу, кривя губы. Мгновение – и она заревёт, будто испугавшись до смерти того, что тайком желала и чего дождалась.
– Красиво у тебя, – отвёл он глаза в сторону.
Он не любил разговоров о серьёзном, о будущем, о вечном. Она, видимо, поняв, откинулась на спину, закрылась, как жемчужина в скорлупе, затаилась. Под утро он ушёл…
Курасов отхлебнул из стакана сок наполовину. Внутри посвежело. Он достал фляжку с коньяком, плеснул что оставалось в стакан, размешал трубочкой и выпил всю смесь одним разом. Так приятней и полезнее. Достал сигарету.
Эллочка – мечта, а не женщина. Сколько обаяния! Жаль, одну ночку ему подарила. Прощальную. Серёга рассказывал про свою с восторгом. Размахивал руками от избытка чувств. Слюной брызгал. Дёргал и его, как? Курасов молчал. О таком разве можно? Ни врать, ни мечтать он не любил.
На перроне было весело, шумно и беззаботно. Уезжал в этот день не один Курасов. Собрались провожать многие, даже незнакомые. Были женщины, но грусти почти никакой. Сбились в кучу, кричали тосты, целовались между собой, не разглядывая лиц, прощались, чертя номера телефонов на пачках сигарет, на спичечных коробках, а Серёга подставлял ладонь, где красовались уже несколько строчек с набором цифр. Эллочка выделялась среди всех. Совсем пьяный подполковник из Калуги, рыжий и настырный, приударил за ней, забыв про свою, голосистую и тоже блудливую. Оставшись одна, та прижалась к Курасову, запустила тонкую руку в его разметавшиеся кудри и периодически запевала один и тот же куплет:
Сиреневый туман
Над нами проплывает.
Над тамбуром горит
Полночная звезда.
Кондуктор не спешит,
Кондуктор понимает,
Что с девушкою я
Прощаюсь навсегда…
Курасов ей не мешал, он и сам не прочь был запеть, но, во-первых, не знал слов, во-вторых, с детства не имел музыкального слуха и боялся всё испортить. У брошенной подполковником блондинки всё-таки что-то получалось.
Пришёл в себя Курасов в купе, проснувшись к вечеру. Глянул, напротив – на полке, отвернувшись к стенке, похрапывал лысоватый толстяк в майке и спортивных штанах. На столике недопитая бутылка минералки, газетка, яблоко. Его фляжка. Он взболтнул ею в воздухе, – пусто. Отвернулся к окну. Мелькала убогая растительность. Блёклое небо, низкие свинцовые облака. Вроде и не лето. Серость.
Курасов передёрнул плечами, глянул на себя в зеркало на дверях. Вот натура! Ещё в институте удивлял всех способностью пить всю ночь, а утром как ни в чём не бывало на экзамены. Вот и теперь. Как с гуся вода! Даже причёски поправлять не надо. А расчёсывала его надысь певунья ласково…
Он одёрнул рубашку, подтянул галстук, накинул китель на плечи по-чапаевски и направился в ресторан. Перекусить и спать. Завтра его уже, наверное, дожидаются с рапортом в управлении, генерал команду отдаст – и по новой закрутится, завертится волчок.
Загрустнело ещё больше. Но на миг. И отпустило. До завтра ещё далеко. Да и не выходить ему завтра. Он уехал из Ленинграда раньше срока. На целых два дня. Жалел Эллочку-тарелочку.
В ресторане он пожевал что-то невразумительное, невкусное, заказал сто пятьдесят водки. Хватит на сегодня. Опрокинул в себя без чувств и вкуса, как воду. Больше для сна. И отправился назад по расшатанным, повизгивающим вагонам. Не дойдя до своего купе, остановился. Что это? Дорогу ему преграждала женщина. Но удивительное было в другом. Это была знакомая женщина. Или привиделось?
В бархатном вишнёвом халате до пола. Грациозные спина и бёдра. В руках книжка. Он подошёл ближе. Прикоснулся, извиняясь. Она обернулась. Как же! Мила!
– Какая встреча! – удивилась и воскликнула она. – Откуда, Николай Егорыч?
– Чудом! – не удержался от восторга и он. – Из Питера! С курсов!
– Прекрасная неожиданность!
– Обучался вот…
Разговорились. Она села в Саратове. Это сколько же он спал? Весело смеялись. Бывает же такое! Мысли о сне пропали, как и не появлялись. Они зашли к ней в купе, чтобы не мешать снующим туда-сюда пассажирам. Она ехала одна. Не закрывали дверей. Николая заинтересовала книжка, которую Мила небрежно бросила на столик, лишь вошли.
– Серьёзная вещь, – прочитал он название. – Люблю историческую литературу про авантюристов. А Манфреда специально собираю.
Книга называлась: «Три портрета эпохи Великой французской революции».
– Про Руссо? – деликатно спросил он, открыв первую страницу. – Дадите почитать?
– Про Марию-Антуанетту, шалунью и королеву, – подняла она на него сверкнувшие озорством глаза. – Увы, её любовные подвиги кончились на эшафоте.
– Да что вы говорите?! – не притворяясь, охнул он.
Она оценила его искренность.
– Один раз живём. Ей можно позавидовать, – оценивающе оглядывая его, произнесла она задумчиво, не без печали.
– Вы шутите?
– Нисколько.
Она заговорила о бестелесном, эфемерном, в чём Курасов был несилён, хотя старался поддерживать разговор изо всех сил. Северянин, Иванов, Ахматова – это мимо его сознания.
Бродящие по вагонам надоедали, некоторые заглядывали в купе. Она встала, закрыла дверь, полезла искать карты. В обширной красивой сумке ей попалась под руку «аморетка»…
* * *
Жена открыла дверь заспанная, подперши рукой помятое, тусклое лицо.
– Звонили тут. Тобой интересовались, – с порога, не здороваясь, как будто и не уезжал никуда, хмуро бросила навстречу.
– Соскучились, – заулыбался виновато он.
– Из управы. Чепе там у них, как всегда.
– Откуда прознали? Мне на работу через два дня.
– Это уж им лучше знать. Велели позвонить, как заявишься.
Встреча при лирических обстоятельствах
Безумец на хищной красной «Панонии» носился по треку, закладывая сумасшедшие виражи. Рубашка чёрным парусом вздувалась за спиной. Мотоцикл ревел, метался под седоком, пытаясь вырваться, но подчинялся умелым рукам. Пыль из-под колёс не успевала оседать на землю. Толпа спортивного вида юнцов, сбившихся в центре дикого стадиона, замирала и взрывалась от восторга в едином крике.
«Шею сломает красавчик», – усмехнулся про себя Порохов, подрулил на «ковровце» к своим и, кивнув бросившемуся к нему Тимохину, спросил:
– Откуда выискался?
– Жорик, с Царевки. – Тимоня верной слугой забегал вокруг него.
– Не слыхал, кто такой?
– Недавно из армии пришёл.
– Ну?
– Отец при башлях. И в тёплое место пристроил, и мотоцикл вишь какой купил!
– Везёт людям.
– Он с нашими не якшался. До службы всерьёз мотиком занимался. В элистинской «Комете» пробовал.
– Мотобол?
– Ага.
– Вот, значит, откуда весь цирк.
– Да нет. Другой повод.
– А что?
– Зазнобу замуж выдаёт.
– Чего, чего?
– Вернулся, а девка на другого глаз положила. Бабы врут, даже забеременеть успела. Вот и заторопилась.
– Ну!
– Жорик и решил её торжественно проводить.
– Понятно.
– Хохмит, чудило. – Тимоня заулыбался во всю свою конопатую физиономию. – Погляди туда! Вон она стоит, его краля.
Тимохин указал в сторону от толпы, где на краю стадиона у низенькой скамейки маячила по колено в траве одинокая фигурка в розовой кофточке.
– Душевная сценка, – отвернулся Порохов, особенно не заинтересовавшись, стянул перчатки с рук, сплюнул под ноги, нахмурился. – А наши чего выцарапались, как детки малые? Чем их красавчик этот растрогал?
– Ты глянь, Порох, что он с мотиком вытворяет! Залюбуешься!
– А мы чем хуже?
– Так у него же «Панония»!
– И на «ковре», если захотеть, можно не такое сварганить.
– Не потянут наши против его машины. Мощность не та. В наших треска больше.
– Смотря кто за рулём!
– Да хоть кто! – махнул рукой Тимоня. – Не попрут наши «ковры».
Жорик между тем вырулил на прямую, сбросил газ и покатил к скамейке, давая понять, что представление окончилось.
– Значит, говоришь, не попрут? – скривил губы Порохов, поедая Тимохина ненавидящим взглядом.
– Не заводись, Эд, – отступил на шаг Тимоня. – Движки на наших не те.
– А вот проверим, – развернул руль своего «ковровца» Порохов. – Я тебе покажу! И шкетам нашим! Чего стоят «ковры» против железяк зарубежных!
И он, ударив кожаным сапогом по стартёру, крутанул ручку газа так, что мотоцикл под ним дико взревел и вырвался бы на свободу, не выжми он сцепление.
– Ты что задумал? – отскочил в сторону конопатый.
– Собирай наших к «трубе»! – скомандовал Порохов, перекрикивая рёв мотоцикла и ткнул рукой в сторону парочки у скамейки. – И этого циркача зови! Увидите!
Круто развернув мотоцикл, он помчался через весь стадион к футбольным воротам, где возвышался над травой огромный железобетонный цилиндр заброшенного недостроенного когда-то творения.
Среди местных цилиндр этот прозывался «трубой» по той простой причине, что в давнее время, теперь уже никто и не помнил точно когда, здесь, по глубокомысленной затее умников сверху, решили строить очистные сооружения среди жилых домов, детского сада и школы, но, видно, опомнившись, всё-таки стройку заморозили, а то, что успели возвести второпях – круглый фундамент в виде трубы к небесам, бросили, забыв навсегда тоже по неизвестной причине. Так и осталась среди жилого квартала эта величественная и нелепая веха прогресса – бетонное круглое «колечко» высотой три-четыре метра и диаметром метров десять-двенадцать. Со временем пацаны устроили просторный подкоп внутрь «трубы», где в укромном пристанище прятались от родителей по вечерам маленькие, тусовались с девчатами по ночам старшие и постоянно скрывались от въедливых жён мужики в душевных возлияниях на троих.
Туда и порулил Порохов и вскоре исчез в «трубе» вместе со своим шустрым мотоциклом.
О Порохове и его пацанве в Нариманово слышали многие, а в окрестностях «трубы» знали все. В правильной школе и доблестной милиции эту ребятню, до которой ни у кого вечно не доходили руки, называли «трудными», самим родителям они стояли поперёк горла, у Пороха, или Эда, как величали его свои, они бросали курить и баловаться винцом, хамить старушкам и задирать младших, становясь послушными и со сверкающими глазами. По его малейшей команде пацанва способна была, что называется, переворачивать горы.
Чем занимался сам Порох, как жил, не знал толком никто.
Но зимой с ребятнёй он носился с клюшкой не хуже Фирсова по хоккейному катку на речке, а летом там же из нескольких досок и брошенного столба соорудил вышку – трамплин и первым ошарашил братву и сбежавшихся позагорать девчат, когда красивый, как Бог, крутанул тройное сальто, не моргнув глазом.
Дикое поле возле «трубы» они приводили в порядок сообща со старшими из ближайших домов и к осени, расчистив свалку, заровняв канавы и скосив бурьян и заросли верблюжьей колючки, разлиновали, как настоящее футбольное поле, поставив в отместку многим неверующим деревянные ворота, в которые под верхнюю перекладину сам Эд и влепил первую «девятку» отчаянному воротнику Рубину.
Кстати заглянувший на стадион сметливый участковый Хабибуллин, знакомясь с Эдуардом Пороховым, прищурил тогда свой левый, хитро стреляющий глаз и чутко подметил, что гол тот Порох вбил не обескураженному Рубину, а всему Нариманову. Кто знал тогда, что мудрый участковый Хабибуллин очень близок был к истине.
Сегодняшний выходной у пацанвы Порохова должен был стать мотоциклетной забавой. Здесь, на диком когда-то поле, а теперь вполне приличном стадионе, они должны были проверить годность собранных в течение нескольких месяцев «ковровцев». Мотоциклы, смонтированные из различных запчастей, выпрошенных у отцов, приобретённых на барахолке на деньги, собранные сообща по крохам, создавались в гараже Кольки Рыжего, проныры Тимохина. Получились два монстра собственной конструкции, оглашающие окрестности безудержным рёвом глушителей. Но они ездили, и им оставили славное название «ковров».
Порохов собирался устроить показательные соревнования среди своих подопечных на самосделанных мотоциклах, однако нежданные трюки незваного Жорика спутали его планы, поэтому теперь он задумал устроить пацанве собственный концерт. Никто не мог знать и догадываться, что затея Порохова, для него самого сущий пустяк, должна была стать для всех остальных совершенным чудом.
Проникнув не без труда вместе с мотоциклом через имеющийся лаз внутрь цилиндрической железобетонки, он ещё раз убедился, что задуманное вполне осуществимо без особых жертв, хотя риск, конечно, оставался. А как без этого? Себя без риска не представлял. В этом он был весь, ради этого всё делал и жил. Так ему казалось, в этом убеждал окружающих…
Единственное, что потребовалось в «трубе», – подвалить найденной доской дополнительной земли под стену в нужном месте, утрамбовать её сапогами и устроить нечто наподобие пригорка, необходимого для плавного въезда на стену. Со своей задачей он вполне справился и приводил себя в порядок, отряхиваясь от песка, когда пацанва, пригнанная Тимоней, облепила верхушку «трубы», повылезав на бетонку и устроившись наверху с нескрываемым любопытством. Бог знает, что наобещал им Тимоня, но Порохов видел в глазах подопечных то, ради чего ему стоило рискнуть, хотя только теперь под десятками любопытных, тревожных и восторженных физиономий он почувствовал судорожную прохладу в спине и лёгкую дрожь в руках. Конечно, он мог разбиться на глазах своей пацанвы, но теперь не имел на это права. «Прыгнув в огонь, по одёжке не скучают», – мысленно подбодрил себя Порохов, отыскал улыбающуюся рожу Тимони, подмигнул ему, надвинул очки с мотоциклетного шлема на глаза и крутанул ручку газа.
Мотоцикл, свирепея от грохота глушителей, раскатываясь, заметался, убыстряя бег, по кругу внутри железобетонной «трубы», бесстрашное живое тело седока слилось воедино с металлическим монстром, и оба они после четвёртого или пятого сумасшедшего витка рванулись на стену. Произошло это внезапно, в один миг, и сидящие над импровизированной ареной обалдевшие зрители, замерев в оцепенении, так и оставались немыми, переживая ужас и восторг от развернувшегося на их глазах немыслимого зрелища. Это длилось несколько минут, пока не завизжала пришедшая в себя публика, а Порохов крутил фантастические виражи по стенке под этот неистовый победный рёв, сжимая зубы и моля Бога, чтобы не подвёл движок машины.
Наконец, насладившись триумфом и не испытывая судьбу больше, он лихо вырулил вниз, обретя вертикальное положение, сделал несколько плавных затухающих витков по земле и, остановив мотоцикл, поднял руки вверх, приветствуя свой успех. Он ликовал, погружаясь до дна в свою удачу. Он верил в судьбу, и она не подвела его на этот раз!
– А что случилось? – небрежно спросил он Тимоню, когда тот спрыгнул к нему вниз со стены и подбежал обнимать.
– Жорик-то?
Порохов сухо кивнул.
– Да ну его! – отмахнулся тот. – С девахой прощается.
Порохов слез с мотоцикла, выбрался с ним через лаз и, окружённый ликующей толпой пацанов, тихо покатил к стадиону. Долговязый чужак уже отъехал от девушки; покидая стадион, он нацелился на встречу.
Что втемяшилось вдруг в голову Порохову? Что вдруг овладело его сознанием? Он впоследствии и сам объяснить себе толком не мог… Только взял и направил свой мотоцикл в лобовую.
Чужак, заметив его намерение, не сворачивал. Порохов прибавил газу, чужак ответил тем же.
И вот они уже неслись друг другу навстречу по неумолимой прямой, в безумной необъяснимой внезапной ярости отыскивая глаза друг друга. До страшного, смертельного столкновения оставалось метров сто, но ни тот, ни другой, не сворачивая, увеличивали скорость.
Что двигало ими обоими? Что заставило решиться на такой поступок? Ни тот, ни другой не знал и не думал об этом. Но каждый отчётливо понимал – он не уступит, не отвернёт! Это было бы больше, чем трусость. У чужака за спиной была фигурка в розовой кофточке, у Порохова – пацанва. А значит – решения не изменить!
Они потеряли человеческий облик, теперь это были два космических болида, обрёкшие себя на ужасную неминуемую гибель.
Бежавшие за Пороховым в ужасе остановились. Тимоня не удержался на ногах, свалился на колени и полз вперёд с остекленевшими глазами. Ещё мгновение – и два безумца обрушатся друг на друга, разобьются вдребезги.
– Ге-е-е-о-о-о-рги-и-й!.. – Это был не крик, а жуткий вой сирены.
И чужак услышал, обернулся к скамейке. Руль в его руках дрогнул. Мотоцикл вильнул. Этого хватило Порохову промчаться мимо, лишь задев жертву локтем. Он сам едва не вылетел с сиденья, чужак, кувыркаясь, полетел в одну сторону, мотоцикл, освободившись, ринулся в другую.
«Убился парень», – усмиряя «ковровца», без мыслей в голове, как в тумане, тихо покатил Порохов кругом по стадиону, возвращаясь назад.
Возле недвижного раскоряченного тела стояла она. Нагнулась, плача. Тонкая, красивая. Беззащитные лопатки на белой спине из-под кофточки лезли в глаза. Чужак шевельнулся, перевернулся с живота на спину. Тяжело охнув, попытался подняться. Она рванулась ему помочь, он, приметив подъехавшего Порохова, криво усмехнулся, отстранил её, поднялся сам. Всё лицо его было залито кровью. Шатаясь, он доплёлся до возмущённо тарахтящей «Панонии», поднял мотоцикл, взгромоздился кое-как и, не проронив ни слова, покатил мимо расступившейся толпы, как сквозь траурный строй.
Порохов глянул на незнакомку. Она плакала, пряча лицо в розовый платочек.
– Садись. Домой отвезу, – сказал он.
Она села.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































