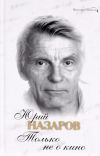Текст книги "Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино"

Автор книги: Ярослав Ярополов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В сценарии ордынцы появлялись во многих эпизодах, в фильме – всего в двух. Первый из них – «Набег. 1408 год».
И примечательно здесь, что в страшном горе, обрушившемся на жителей Владимира, виноваты прежде всего свои же русские и что соотечественники и единоверцы не менее, а пожалуй, и более жестоки, чем татары.
Тарковский переносит акцент с беды внешней на беду внутреннюю. Конечно, когда объединенное войско ворвалось в город, то по вековой привычке раздался крик ужаса: «Татары! Бегите! Та-а-а-та-ары-ы!» Но крикнувшего рубит саблей не ордынец, а русский князь. И если блаженную в сценарии изнасиловал татарин, то в фильме ее насилует русский воин.
Хан в эпизоде «Набег» не злодей. В какой-то мере он даже располагает к себе – своей сдержанностью, спокойствием, чувством юмора. Князь рядом с ним как личность сильно проигрывает. Хан – завоеватель и по праву завоевателя пользуется плодами своего освященного вековыми традициями ратного труда. А Малый князь – какой он победитель? – предал на растерзание родной ему по крови и вере народ.
В сценарии вражда между Великим и Малым князьями строилась на типичном для позднего Средневековья соперничестве двух братьев – старшего и младшего – в борьбе за власть. Не отменяя этой исторической основы, Тарковский переводит ее на более высокий уровень и рассматривает как борьбу нравственных начал, прежде всего в душе Малого князя.
Это выявляется драматургическим сочетанием сцен бойни, показанной в основном через восприятие князя, с его воспоминаниями об унизительном примирении с братом. Вызванный митрополитом, он вынужден был тогда целовать крест на верность Великому князю. Сейчас, прибегнув к помощи давних врагов Руси, Малый князь как бы постоянно подкрепляет мстительные чувства этими воспоминаниями, ищет в них оправдание своим преступлениям против племени и веры. Но и воспоминания не спасают. Кадр, в котором мы последний раз видим Малого князя, – крупный план человека, раздавленного своим посягательством на духовные заповеди и освященный вековыми обычаями обет крестного целования.
Тема междоусобия на Руси становится теперь предметом рассмотрения не политического, а нравственного. Тем самым Тарковский вводит свой фильм в традицию русской классической литературы: не под такими ли ударами больной совести гибнут души преступивших нравственный закон героев «Бориса Годунова», «Маскарада» и «Бесов»?
Не татары страшны сами по себе, страшно озлобление людей друг против друга и внутреннее рабство, рожденное страхом. Ужас поколения, пережившего чудовищное разорение родины неведомыми доселе грозными ордами, вошел в кровь русских людей, определил на многие века некоторые свойства характера народа.
Вновь вспоминается «На поле Куликовом» Александра Блока:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
«Послушай, – говорит в фильме Рублев Феофану Греку, привидевшемуся ему в разгромленном Успенском соборе, – что же такое делается? Убивают, насильничают вместе с татарами, храмы обдирают… А разве вера не одна у нас, не одна земля? Не одна кровь? А один татарин даже улыбался, вот так… – Рублев ощерился, изобразив улыбку. – Кричал все: «Вы и без нас друг другу глотки перегрызете!» А? Позор-то какой!..»
В эпизоде «Молчание» татары, наехавшие в Андроников монастырь, вообще ведут себя миролюбиво и даже дружелюбно. Они едят, шутят, смеются. Но почему же все нарастает и нарастает ощущение непереносимого национального унижения?
Поведение Дурочки здесь выражает в заостренной, гротесковой форме то, что сидело во многих русских людях того времени: над ней потешаются, ей кидают куски мяса, как незадолго до этого грызущимся псам, а она жадно хватает куски, жует их, заискивает перед татарами, сделавшими из нее забаву, в восторге принимает их подарки.
Как больно! Какой позор!
Дурочка бегает от Андрея, который хочет прекратить ее постыдное самоунижение, а потом плюет ему в лицо – ему, спасшему ее от насилия! – и уезжает вместе с татарами.
В сценарии преобладающими мотивами в обрисовке народа были мотивы социальные, а порой и вульгарно социологизированные. Теперь Тарковского они почти не интересуют. Он сосредоточивает свое внимание на другом – на духовном состоянии народа.
Уже в прологе, как мы видели, дан ключ, определяющий облик русского простого человека: темный, запуганный, озлобленный, но и способный на взлет.
Следующий эпизод развивает это противоречивое, жесткое, без показной сострадательности представление о народе.
Сцена со скоморохом, как и пролог, состоит из двух подчеркнуто разных по ритму и характеру частей. Первая из них: с веселым надрывом пляшет, бьет в бубен и поет скоморох среди сидящих в сарае мужиков, баб и детей. Пляска и пение все убыстряются – слов не разобрать, что-то про бояр; да слова и не важны, главное – исступленное неистовство, почти шаманское камлание. Собравшиеся охотно смеются. Кажется – свободные люди!
Контрастом к бурному веселью приходит тишина и почти полное бездействие. Скоморох спокойно пьет и ест заработанное; стащив с себя длинную посконную рубаху, выходит под дождь освежиться. Один из мужиков пьяно и неразборчиво напевает: «Увидела бабу голую… и взяла ее за бороду». Время как будто остановилось. Статичные планы Кирилла, детей. Даниил и Андрей спят. Долгая пауза. И в тишине начинает выводить за кадром женский голос протяжную мелодию.
В этой остановке действия есть что-то завораживающее. И замедленные движения двух мужиков, дерущихся снаружи у сарая. В драке нет той тематической и фабульной оправданности, какая была в сценарии. Там речь шла о разъединенности Руси – дрались трезвые; один на другого замахивался слегой.
«– Я тебе покажу, сволочь смоленская, языком трепать!
– Да бабы и то над вами, москвичами, смеются, – выдергивая топор из колоды, огрызается смолянин». Один из дерущихся оказывался беглым холопом.
В фильме – драка пьяная, поражающая своей бессмысленностью. Скользя в грязи, в мокрых от дождя рубахах и портках, облепивших худые тела, мыча непонятные слова и не к месту смеясь, мужики нелепо и озлобленно пытаются ударить друг друга, не попадая, как это бывает при драке очень пьяных людей. Один из мужиков, замахнувшись слегой, падает в грязь, поднимается, снова падает.
Драка – при всей своей отвратительности – прозаически обыденна. Как обыденна и последовавшая за ней страшная сцена: появившиеся дружинники выводят скомороха во двор, деловито бьют его всем телом о дерево, разбивают вдребезги гусли. Но всего больше поражает здесь другое: люди, только что смеявшиеся, не воспринимают творящееся зло как нечто из ряда вон выходящее или хотя бы любопытное. Мужики и бабы равнодушно молчат, через сарай спокойно проходит девочка. И если до этого вся сцена была снята в рассеянном освещении – за окнами лил дождь, – то именно с появлением дружинников через щели сарая стали пробиваться лучи яркого солнца. Даже как-то веселее стало. Но самым неожиданным и одновременно глубоко художественным оказался один штрих в актерском поведении Ролана Быкова: когда его выводят во двор, он оборачивается и виновато улыбается оставшимся.
Никакого впечатления – во всяком случае, внешне выраженного – не оказывает расправа со скоморохом и на Андрея.
Однако в сцене есть второй, более глубинный слой. Прозаически трезво показана привычность народа к жестокой обыденности и к беспросветности, даже ощущение им своей виновности (улыбка скомороха!). Кажется, все умерло в этих душах. Но та женская протяжная песня, которая началась в тихой части эпизода, слышалась все время и кончилась только с его концом. А когда скомороха ударили о дерево и он застонал, за кадром раздалось женское рыдание. Среди присутствующих никто не поет и не рыдает. Кто же это? Не сама ли Русь оплакивает себя и рыдает по своей участи?
Противоречивый образ народа, данный в начале фильма, закреплен позднее, в эпизоде «Страсти по Андрею». Рублев спорит с Феофаном Греком:
«Феофан.…Ты мне скажи по чести: темен народ или не темен? А? Не слышу!
Андрей. Темен! Только кто виноват в этом?»
И далее: «…он все работает, работает, несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит, только бога молит, чтобы сил хватило. Да разве не простит таким всевышний темноты их…» Слова эти мы слышим уже в начале сцены, в которой образ народа возводится до высот вселенского предания о восхождении Христа на Голгофу и его распятии. Христа и других персонажей этого предания Рублев, а через него и Тарковский видят не в библейских одеяниях, а в одеждах и в обстановке средневековой Руси. В пластической форме здесь реализуются слова Рублева о народе: «несет свой крест». И действительно, несет на себе крест русский мужик, несет, ступая лаптями по снегу, а за ним идут простые русские женщины; их сопровождают те же конные дружинники, которых мы видим и в других эпизодах.
Тайна необыкновенно сильного художественного воздействия сцены распятия – в соединении начал подчеркнуто обобщенных с резко заземленными. Строгие композиции кадров; сосредоточенное выражение лиц участников процессии; торжественный ритм как внутрикадрового движения, так и монтажа; слова Рублева, в которых раскрывается общечеловеческий смысл происходящего; музыка Овчинникова – мерная поступь глухих ударов – сменяется во время распятия все усиливающимся звучанием женского хорала. И вместе с тем – снег, прорубь в реке, крестьянские одежды, российские дома и городские стены, простонародные лица любопытствующего люда.
Особенно впечатляет кадр: «Христос» проходит к месту казни по снежному гребню мимо маленькой круглолицей девочки, стоящей за гребнем так, что видна только ее голова. Девочка смотрит на мученика снизу вверх и улыбается, обнажая свои редкие зубы.
Итак, темный, не сознающий себя народ-страдалец, терпеливо несущий свой крест. Но образ этот развертывается сюжетно. Почти сразу же за сценой распятия следует эпизод «Праздник», в котором народ предстает совершенно иным.
На пути во Владимир Андрей Рублев и Даниил Черный со своими подмастерьями попадают в чисто языческую деревню. В этом есть художественное преувеличение. Впрочем, на наш взгляд, вполне оправданное. Языческие верования в русском народе сохранялись после принятия христианства очень долго, вплоть до XIX века. В Средние же века они порой спорили с главенствующей религией. Академик Б. Рыбаков называл это явление двоеверием. Академик Д. Лихачев оценивает это по-другому. Он считает, что христианство «вбирало в себя… языческие обычаи». И даже более категорично: «Нет двух наук в математике, не было двоеверия и в крестьянской среде». Однако, несмотря на различие в научных определениях двух ученых, существо дела для нас не меняется – в русской деревне XV века преследуемые церковью языческие верования были сильны, и поэтому авторы фильма «Андрей Рублев» вполне могли пойти на сгущенное их выражение.
Русские люди из языческой деревни в «Празднике» не только вольны в проявлении своих естественных человеческих чувств, но и понимают их несовместимость с общепринятыми, навязанными им сверху религиозными установлениями. Еретики – они осознают свое еретичество и не боятся его.
…Три мужика хватают у сарая Андрея, подглядывающего за колдовством Марфы, и прикручивают его к крестовине столба. Снова распятие! Только что мы видели русского мужика распятым, теперь мужик распинает Рублева и тоже, по его словам, «навроде Иисуса Христа».
Распятие народа властью и распятие народом заступника чуждого ему – сопоставление огромной обобщающей силы, без него смысл сцены «Голгофа» не был бы воспринят полно.
Самое поразительное, что полуголый крестьянин-язычник, прикрутив Рублева к столбу, умело крестится. Еретик, инакомыслящий – не человек другой веры. Это единоверец, отвергнувший духовное насилие над собой.
Тарковский неизменно последователен. Он и бунтарские мотивы переносит из области социально-экономической в религиозно-нравственную. Федора и Марфу теперь вяжут на берегу реки дружинники не за то (как в сценарии), что ограбленный властью мужик спалил княжеские хоромы. Там он грозил: «Не будет жисти князю вашему, не бойсь! Не я, так другие» – мол, вся борьба еще впереди; здесь он кричит: «Не будет жизни князю вашему, а мы как жили, так и будем жить!» – то есть никакими карами не заставить их отказаться от язычества.
Народ терпеливо несет свой крест, но он способен над крестом и надругаться, ибо ничто не убило в нем душу живу, а крест нестерпимо давит. Правда, так ли уж хорошо это – надругаться? Итог неоднозначен. Утром, когда все молодые спят после сладострастных утех, помните темную фигуру старухи, застывшую в скорбной позе под равномерный скрип бревна? Она знает, чем кончаются эти праздники воли…
Далее образ народа развивается в фильме столь же сложно. Вновь страдание и беспомощность перед сильными мира сего: ослепленные люди ползают по земле, как черви, и жалобно перекликаются. Но без страдания не бывает взлета духа, без мук – героического подвига. При смеховом начале, заложенном в характере Патрикея (недаром на роль был взят клоун Юрий Никулин), он поднимается до образа великомученика. Сочетание высокого и низкого, присущее всей картине, здесь особенно разительно. Ключарь был смешон и нелеп в эпизоде «Страшный суд», когда, перебивая самого себя, многословно тревожился по поводу задержки с росписью собора. Но даже тут, в «Набеге», во время пыток огнем Никулин кричит как бы не всерьез. Его причитания: «А-а-а, больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно!» – поначалу даже вызывают смех зрителей, пока им не становится страшно.
Самая последняя мука – ужасна. В сценарии к устам Патрикея прикладывали раскаленный крест. Для фильма Тарковский избрал другое. Есть такая икона «Чудо Георгия о змие с житием» (конец XVII – начало XVIII века). В одной из шестнадцати клейм, которые окружают икону и рассказывают о жизни, мучениях и чудесах святого Георгия Победоносца, изображено, собственно, то, что происходит в фильме с Патрикеем. Георгий, как и ключарь, лежит запеленатый в белую ткань, и ему в рот по приказу царя Диоклетиана заливают расплавленное олово.
А вслед за этим – опять униженность, позор и упадок духа в сцене Дурочки с татарами (о чем уже писалось выше).
Но последний перед эпилогом эпизод – невероятное по смелости и напряжению душевных и творческих сил деяние русского отрока. Здесь вновь все строится на противопоставлениях: огромный колокол отливается под началом тщедушного мальчишки со срывающимся в крике высоким голосом. И работа идет именно по-русски: не разумно и размеренно, как работают иностранцы, а в какой-то вечной спешке. Недаром в эпизод введены иноземцы. Вежливые и спокойно переговаривающиеся, они в сцене подъема колокола совершенно инородны среди всеобщего беспорядочного возбуждения и угроз начальства: «Не успеем?.. Ну, глядите, мать вашу…» – с вечно русским «Давай, давай, дубина!». Но когда после долгой и томительной тишины ожидания, в которой только журчит равнодушная итальянская речь да размеренно скрипит раскачиваемый колокольный язык – раздается наконец долгий, низкий и могучий звук, – наступает минута экстатическая, минута высочайшего соприкосновения с истиной. Значит, можем. Такой народ способен свершить все.
Однако только на пафосной ноте заканчивать тему русского народа Тарковский, конечно же, не может. Ибо истина великого свершения народа – еще не вся истина о нем. Сюда, в «Колокол», Тарковский вставляет сцену из исключенной сценарной главы «Тоска» – возвратившийся из заточения скоморох хочет убить Рублева. Но теперь спасение иконописца обусловлено не внешними обстоятельствами – появлением татар, а причинами психологическими. Отсидевший десять лет в яме скоморох мыча (язык обрезан!) обвиняет Рублева в доносительстве и тут же, без видимых причин, исключительно по душевной отходчивости русского человека отбрасывает топор, выпивает кружку браги, натягивает упавшие штаны и произносит загадочные слова: «Эх, то ли еще будет!»
Еще одно мгновение истины: «то ли еще будет!» То ли еще будет с Россией…
Не в историографических сведениях, а в движении обобщенного образа предстает в фильме Тарковского историческое бытие русского народа.
В разрушенном и оскверненном храме Рублев говорит: «Русь, Русь… все-то она, родная, терпит, все вытерпит. Долго так еще будет, а, Феофан?» И призрак Феофана Грека отвечает: «Не знаю. Всегда, наверное…»
Неужели – всегда?!
Плоть жизни
Сразу же после пролога зрители видят на общем плане трех монахов, идущих по полю под дождем, узнают из их разговора, что они – живописцы, что идут в Москву, и слышат далее:
«Данила. Да. Вот, скажем, береза эта. Ходил каждый день, не замечал. А знаешь, что не увидишь больше. И вон какая стоит.
Андрей. Конечно, десять лет.
Кирилл. Девять.
Андрей. Это ты девять, а я десять.
Кирилл. Да нет, я семь, ты девять.
Андрей. Дождик. Давай сюда».
Можно ли понять, о чем здесь идет речь? И что за годы считают чернецы?
В сценарии и в первой версии фильма – «Страсти по Андрею» – перед этим разговором была сцена ухода Андрея, Даниила и Кирилла из Троицкого монастыря, поэтому было ясно, что они считали годы пребывания в нем.
Теперь режиссера не заботит, знает ли зритель эти обстоятельства, не смущает его и то, что разговор непонятен. Главное – три фигуры монахов под дождем.
Нет в картине воспоминаний Андрея о детстве, не важно и социальное его происхождение.
В финале остается достаточно темной дальнейшая судьба Рублева: упоминание о Никоне (кто такой?), который призывает к себе иконописца, тонет в покаянном многословии Кирилла, а обращение к Бориске самого Андрея: «Пойдем в Троицу» – в кульминационный миг фильма, под перезвон колоколов, – тоже растворяется в сбивчивой речи заговорившего наконец инока.
Тарковский уменьшает и без того ограниченное число биографических сведений. Он вместе с актером Солоницыным сосредоточивает внимание на духовном пути Рублева.
Но прежде – о резком изменении характера Андрея.
Авторы историко-биографического сценария пытались создать образ положительного (а как же иначе?) героя, не освободившись до конца от устоявшейся схемы: герой должен обладать смелостью и решительностью.
На это наталкивало, видимо, и имя Андрей, что в переводе с греческого означает «мужественный». Ведь Рублев его получил не от рождения, а выбрал сам: при пострижении в монахи изменение имени обязательно.
И вот в начале сценария Андрей смело бросается разнимать дерущихся москвича и смолянина. Табунщику-татарину, который говорит о Великом князе, что тот на коленях ползал в Орде, инок не спускает обиды: «…я убью тебя» – и, подняв с дороги обледеневшую слегу, бросается на татарина. В эпизоде «Тоска» Андрей вообще без видимой причины кидается на целый отряд конных татар, теперь уже со шкворнем в руке. Правда, в обоих случаях дело кончается конфузом, но в смелости, граничащей с донкихотством, в постоянной готовности совершать поступки Рублеву в сценарии не откажешь.
А каким было проявление там чувств чернеца? «Поднимает на улыбающегося татарина полный трезвой ненависти взгляд. Андрей смотрит на ученика Фому, и «взгляд его становится бешеным». Когда скоморох уличает Рублева в доносительстве, тот «дерзко смотрит» на него. «Что тебе от меня надо?» – зло настаивает Андрей при встрече в лесу с разбойником. Не стесняется он и таких слов, как «сволочь».
Как отличается Рублев в фильме от Рублева в сценарии! Мы видим молодого монаха, неторопливого в движениях, с приглушенной, несколько неуверенной речью, со спокойным и чуть виноватым взглядом глубоко посаженных глаз. Кажется, ничто не привлекает его внимания. Это тихий, кроткий человек, очень скромный и деликатный в отношениях с окружающими. Речь Рублева – Солоницына плавная, ровная, почти монотонная[4]4
Неожиданность актерского решения роли Рублева привела к тому, что многие принимавшие фильм в целом считали образ его героя неудавшимся.
[Закрыть]. Но в неторопливых движениях, в отрешенном лице есть что-то притягивающее.
Присутствие Рублева в фильме – в большинстве сцен – построено не на выражении его отношения к происходящему, а на впитывании внешних событий. Плоды тайной душевной работы обнаруживаются далеко не сразу. Да, он не «отреагировал» ни на пьяную драку мужиков, ни на беспощадность дружинников, ни на равнодушие деревенского люда. И совсем не тут же, а в главе «Страсти по Андрею» начнет он упрямо излагать Феофану Греку выстраданное понимание состояния народной души, причин ее темноты, веру в изначально добрую природу человека.
В споре с Феофаном Рублев предстает как человек, свободный от догматов: для него стремление к истине прежде всего. Но истину невозможно постигнуть вне любви, а любовь к людям приводит его, монаха, к мыслям еретическим. Инок – значит: иначе, чем миряне, живущий, но ни в коем случае по-другому, чем церковь, не думающий. Наоборот, монашеское братство – это добровольно на себя принятое единство жизненных и бытовых установлений, единство помыслов в своем служении божественному. В споре же с Феофаном Греком Рублев не инок, а инакомыслящий. Да, по христианской религии, «возлюби ближнего, как самого себя», но превыше всего в ней – любовь к богу, к Иисусу Христу как к залогу всеобщего спасения людей. Но для Рублева, каким мы его видим в фильме, любовь к богу – слишком умозрительная, книжная идея. Он исходит из собственных ощущений окружающего мира, он сам ищет истину, и поэтому любовь к богу у него отодвигается, затмевается любовью к людям. Недаром Христа он представляет в виде русского мужика, и недаром Феофан предупреждает Андрея о возможных карах за его вольнодумство: «Ты понимаешь, что говоришь? Упекут тебя, братец, на север иконки подновлять за язык твой».
Если говорить о монашестве Рублева – Солоницына, то монах он, конечно, странный: ни разу мы не видим его молящимся, ни разу он не перекрестился (вообще в фильме о монахах и о средневековой Руси крестится только мужик-язычник!), ни разу не вспомнил о своем духовном учителе – великом Сергии Радонежском. Вместе с тем, по моему мнению, Андрей Рублев в фильме – человек глубоко религиозный, ибо совестлив и превыше всего ставит любовь к истине и к человеку.
Такими же глубоко религиозными людьми были и погибший на костре протопоп Аввакум, и отлученный от церкви Лев Толстой, последними словами которого перед смертью были: «Истину я люблю много…»
Был ли на самом деле монах-иконописец Андрей Рублев таким вольнодумцем, каким мы видим его в картине? В письменных упоминаниях о Рублеве его называют одним из наиболее почитаемых старцев. А ныне церковь официально причисляет его к лику святых. Но святым может быть и раскаявшийся великий грешник, искупивший свой грех страданием и праведной жизнью.
Тарковский исходил в раскрытии мироощущения Рублева не из того, что писали о нем в житиях, а из духа творений великого художника, проникнутых преклонением перед красотой человека.
Любовь к людям, вера в родной народ, в его изначальную чистоту заводят в фильме монаха Андрея далеко. Когда в начале эпизода «Праздник» Рублева привлекают странные звуки, он не может противиться искушению и идет на их зов. Мелькание огней, призрачный свет, и среди деревьев бегут с факелами в руках женские и мужские обнаженные фигуры. Смиренный чернец-иконописец в замешательстве. Его неудержимо влечет к себе живая плоть жизни. Он человек и художник.

С Бориской (Николаем Бурляевым)
Тарковский вместе со своими товарищами не воссоздает здесь какой-либо определенный праздник, но соединяет действительно существовавшие языческие обряды, берущие свое начало не только в бытии и сознании людей дохристианской Руси, но славянства вообще и даже античности. Когда человек не противопоставлял себя природе, а был полностью в ней растворен, он считал себя ее частью и поэтому видел в ней человеческие свойства. Плодородие человеческое и плодородие земли для естественного человека были явлениями одного порядка. Поэтому, скажем, роса и дождевые капли виделись ему истекающими из грудей небесной матери (стилизации пары женских грудей находили в резных украшениях деревенских домов в России вплоть до начала нынешнего века), а осеменение земли отождествлялось у древних с оплодотворением женщины.
Культ чувственного, эротического возникал, разумеется, не от развращенности язычников, а, наоборот, от их неиспорченности, был не «блудом», а выражением изначальной животворящей силы. Рожденный природой, нераздельно в природе пребывающий, человек и умерев растворялся в ней – сожжение мертвых (огонь исходил от солнца и молний), пускание челнов с покойниками по воде.
Рублев попадает в мир языческих действ: тела бегущих людей, лишенных покровов, отделяющих их от трав, тумана и воды, огонь факелов и костров, огромная (на ходулях), ряженная в саван фигура матери-прародительницы, гроб-челн с соломенным чучелом-мертвецом, отправляемый по воде. Рублев сталкивается вплотную с будоражаще-манящей чувственностью: на его пути стоит нагая женщина, которую тянут вниз, в траву, откуда доносится прерывающийся от нетерпеливого мужского желания голос: «Иди сюда… ну иди ко мне».
Рублев хочет удалиться, однако праздник плоти, в который он попал, не отпускает его; от костра загорается ряса, огонь он с трудом тушит, затем Андрей видит, как колдует Марфа: прыгает, бормоча что-то, с лестницы, при этом тулуп, в который она одета, распахивается, и под ним – голое тело. Рублев не в силах пройти мимо, тут-то его и хватают мужики.
Распятый чернец с блуждающим взором и смело целующая его молодая нагая женщина с грубо-чувственным лицом и телом. Андрей беззащитен в прямом – он привязан – ив переносном смысле: его вбирает истекающая из Марфы плотская сила. Он борется с ней и, казалось бы, хочет убежать. Но плоть жизни не отпускает его – на пути вновь встает Марфа. И крупный план ее некрасивого, но полного чувственной уверенности лица – окончательное торжество природного начала над доводами разума и духовными установлениями.
Потому, что сцена языческой ночи кончается этим долгим планом, а также потому, что Андрей уже утром, крадучись, пробирается по деревне, – сомнений нет: иконописец не сумел уйти от греха.
Но неспокойна ли у Андрея Рублева совесть, лежит ли на его душе тяжелым камнем сознание греха, им содеянного?
Следующая глава, «Страшный суд», – одна из самых сложных по композиции и по перепадам душевного состояния героя.
Что тут мучает Рублева? Почему он никак не может взяться за работу над фресками? Не нашел живописного решения? Конечно, дело тут значительно глубже: Рублев не знает, как соотнести тему будущих росписей со злом, творящимся в мире. Страх – вот что довлеет над человеком в его стремлении к счастью и свободе.
О грядущем Страшном суде напомнил Рублеву Феофан Грек в их споре еще тогда, когда они расписывали Благовещенский собор. А Марфа так объясняла Андрею, почему мужики его связали: «Вдруг дружину наведешь, монахов… Насильно к своей вере приводить будете. Думаешь, легко вот так в страхе жить?»
Что же делать? Писать «Страшный суд»? Запугивать и так запуганный народ? «Да не могу я!.. Не могу я все это писать. Противно мне, понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми…» – говорит Рублев Даниилу Черному. В голосе Солоницына здесь просительные интонации: Андрей в самом деле не знает, что делать. Он не чувствует за народом, как и за собой, греха. Разве быть слиянным с природой грешно? Однако Страшный суд есть Страшный суд, и как же обойтись здесь без обещания кары господней за истинные грехи человеческие?
Но затем идут сцены ослепления, их драматическая и кинематографическая напряженность нарастает и достигает предела. Черные уголья сгоревших хором, белое молоко, потом ослепительно белые стены нового княжеского дворца. И Великий князь в белом. Белое на белом – прекрасное операторское решение Вадима Юсова. И мастера в белых одеждах. Но черными провалами зияют затем в лесу их пустые выколотые глазницы, и ползают слепцы по темной земле. А последний кадр – в болотной воде растворяется молоко. Вновь молоко! С него начинался эпизод. И резким монтажным ударом (единственным в картине, построенной на плавных, текучих переходах от кадра к кадру, от сцены к сцене) выглядит сопровождаемый сильным звуком (будто электрический разряд!) стык: растворяется в темной воде молоко, черная краска разбивается о белоснежную стену собора.
Краска ли? В сценарии Рублев тоже мазал стену черным (хотя и без описанного монтажного стыка: эпизоды «Ослепление» и «Страшный суд» там были разделены главой), но мазал сажей из стоящего на полу ящика. В фильме Дурочку безобразная клякса на стене очень беспокоит. Она пробует стереть ее, потом нюхает свои пальцы и морщится – черное пахнет плохо. Сажа так не пахнет. Не деготь ли это? Но сие есть осквернение храма! Страшнее и оскорбительнее ничего придумать нельзя: дегтем издавна мазали ворота гулящих жен и девок[5]5
В 1681 году сторонники протопопа Аввакума во время Крещенского водосвятия ворвались в Архангельский собор Кремля и измазали дегтем белую надгробную плиту покойного царя Алексея Михайловича. И это припомнили Аввакуму, когда решили сжечь его.
[Закрыть].
Тихий и кроткий Андрей Рублев совершает ужасное святотатство, на которое его толкнуло торжество зла – ослепление мастеров. Если подобное может твориться на земле, то какими муками небесного Страшного суда можно пугать и смирять человека?!
И здесь, в фильме, происходит на наших глазах чудо искусства, которое возникает вопреки всему и которое невозможно было предвидеть.
Подмастерье Сергей бубнит из Священного Писания о греховности женщин, снявших платок. Андрей слушает, смотрит на плачущую простоволосую Дурочку, и вдруг, в безмерном отчаянии, прорывается счастливый смех: «Данила, слышь, Данила! Праздник! Праздник, Данила! А вы говорите! Да какие же они грешники? Да какая же она грешница? Даже если платка не носит!..»
Слово «праздник» в устах Андрея устанавливает связь его нынешнего озарения с эпизодом языческого праздника.
Иконописец не тяготится своим грехом. И Марфа для него – не грешница. Человеческое в человеке, любовь, исповедуемую Марфой, он принимает как истину.
Страха Господней кары в написанном Рублевым «Страшном суде» не будет. Страх – побежден.

Феофан Грек (Николай Сергеев)
Перед нами – единственный случай в картине, где показано, как творил Рублев. И это в фильме о художнике! Но даже тут изображена не история создания фресок, а предыстория. Рублев решил, каким он будет писать «Страшный суд», но ни того, как он работает над ним, ни самих росписей мы не видим. Зритель должен довольствоваться тем, что Андрей крикнул: «Праздник!»
В сценарии герой тоже ни разу не представал с кистью в руке. Но была сцена, в которой Андрей разглядывал свой «радостный» «Страшный суд» и шло поэтическое описание фресок. В фильме такой сцены нет. Но дело даже не в этом. Тарковский меняет сам принцип соотнесения рублевского искусства с действительностью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?