Текст книги "Нашествие"
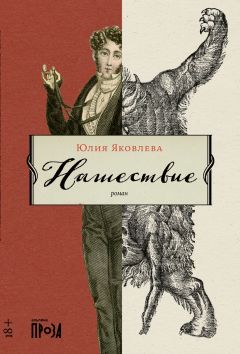
Автор книги: Юлия Яковлева
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Да, Яков.
– Господин Егошин к графу Алексею.
Внушительная пауза говорила, что лакей знает о нездоровье молодого графа.
– Егошин? – Она слышала имя впервые.
– Велите не принимать? – понятливо предложил лакей.
– Нет-нет, пускай.
Лакей с достоинством поплыл обрадовать неизвестного господина Егошина.
Господин Егошин окинул лакея насмешливым взглядом, в котором читалось: «Экий жеребец. Спорю, по ночам ублажает старую барыню. За тем и куплен». Лакей сообщил, что её сиятельство изволят принять. Её сиятельство? Егошин прищурился: а это что за сюрприз? Лакей, всё это прочитавший в его взгляде более или менее верно, не двинул и бровью. Пригласил в малую гостиную и оставил дожидаться.
Но сам не ушёл. А затаил дыхание за дверью, которая вела в курительную. Он знал, что генеральша пойдёт из столовой и не застигнет его здесь. Он наклонился к замочной скважине: проверил обзор. Егошин как раз помещался в латунный контур. Вот он, голубчик.
Егошин не видел карего глаза, припавшего к замочной скважине. Он оглядывал комнату. А деньжата водятся, прикинул. Есть что продать. В городе поговаривали, что Ивины живут не по средствам, недалёк тот день, когда кредиторы протопчут дорожку и выстроятся в очередь, и Егошин хотел оказаться в ней первым. Первому платят почти всё. Последние рискуют получить три копейки с рубля. Или вообще копейку с червонца. Егошин не любил должников. Но это не значит, что не умел с ними обращаться. То, что Алёша Ивин выслал вместо себя парламентёра, да ещё даму, было дурным знаком. «Ну да разберусь. И не из таких вытряхивал».
– Господин Егошин.
Мари с первого взгляда не понравилась ему. «Выдра», – отнёс он её к одной из категорий, на которые подразделял дам, и учтиво поклонился.
– Чем обязана визиту?
– У меня до графа Ивина дело.
– Дело? Вы можете мне его изложить.
Егошин оглядел её взглядом, который ясно дал понять, что Егошин прикинул, какова она без одежды, и не нашёл это приятным. Но если и смутил Мари, она этого не выразила: её глаза по-прежнему смотрели сквозь него и мимо него, как будто на стул, стол или диван. Егошину захотелось толкнуть её ногой, пихнуть локтем, щипнуть – лишь бы заставить посмотреть на себя, выразить хоть какое-то чувство.
Поклонился:
– Охотно.
И принялся излагать. Он по-прежнему не мог поймать её взгляд, и это бесило его всё больше. Он говорил, смотрел на неё – и думал о своём, подогревая, разгоняя злость. Навидался таких дам. Такие до смерти боятся всего: долгов, болезней, блядей, особенно беременных блядей, внебрачных детей – всего, что может поцарапать фарфоровую поверхность собственного статуса. Сделать предметом сплетен в свете. Такие всегда платят. Не пискнув. Всю сумму. Причём всю сумму чистыми, новыми ассигнациями. Да и те передают уже в кошельке, через лакея, на подносе. Чтобы не запачкаться скверной. Мерзкая чистюля…
– С процентами выйдет девятнадцать тысяч восемьсот рублей, – с наслаждением выговорил он сумму. – Прикажете получить?
Он глядел на неё почти с обожанием. «Да ты у меня руками в говно по локоть полезешь. Ты у меня на коленях ползать будешь. Ты меня умолять бу…» Как вдруг эта клокочущая слизь будто ударила в глухую стену. Мари подняла и встряхнула колокольчик.
– Боюсь, я не вполне поняла, о чём вы, но вполне убеждена, что не желаю этого знать.
– Что-с? – не поверил Егошин собственным ушам.
Услышав звон колокольчика, лакей Яков выждал четыре вздоха за дверью. И только тогда вошёл. Генеральша Облакова сидела прямо. Егошин смотрел в угол. Из-под бакенбард ползли красные пятна.
– Пожалуйста, проводите господина Егошина. Он по ошибке зашёл с парадного входа.
Егошин был оскорблён, но выдавил усмешку:
– Но больше этой ошибки не повторю. К вашим услугам.
Лакей, который слышал всё от первого до последнего слова, про себя ухмыльнулся, безразлично-холодно поклонился:
– Прошу.
Мари так и осталась сидеть. Ей казалось, что если она только расцепит руки, то вся разлетится вдребезги.
– Господин Бурмин с визитом.
Мари видела, что горничная Анфиса открывает и закрывает рот – стало быть, ещё один визит.
– Да, – выдавила Мари, не сумев двинуть и шеей. – Проси.
И только потом звуки, которые произнесла Анфиса, сложились в слова, слова дошли до её сознания, и Мари уяснила их смысл. Но Бурмин уже вошёл, отдав горничной свою круглую шляпу и перчатки, и поклонился Мари с холодно-безразличным видом.
В передней Бурмин обдумал все возможные вариации: что сказать, с каким лицом. Выбрал наилучший: безразлично-вежливый. «В конце концов, – зло напомнил себе, глядя в окно и покачиваясь с пятки на носок, – она недолго огорчалась. И тут же выскочила замуж. Да не за кого попало. А за богатого наследника. И моего друга». Успокоенный этой мыслью, он не заметил, что не задал себе самый естественный вопрос: не проще ли было бы вовсе не приходить с визитом? И не слишком ли он – для человека равнодушного – озабочен тем, как показать ей своё равнодушие?
Просто знакомый. Просто ещё один визит. Всем скучно, но так у воспитанных принято, и оба они это, слава богу, понимают.
– Как мило, что вы пришли, господин Бурмин.
Но когда увидел её расстроенное лицо, набрякшие веки, морщину между бровями, то растерялся. Забыл все обдуманные вариации: и приличные, и невозможные. Разум и воспитание подсказывали сделать вид, что ничего не заметил. Но точно бес какой толкнул в спину, и с языка сорвалось искреннее:
– Простите мою бестактность. Всё ли хорошо?
Мари была готова к холодному безразличию. Даже к забродившей за годы злобе. Но не к этому. В груди начал расти, распирать шар.
– Нет. Да. Простите. Всё хорошо.
«Я рад», – следовало ответить и откланяться, тактично притвориться, что не заметил, оставить её одну, дать время прийти в себя. А потом забыть сюда дорогу.
Но тот же бес пихнул его опять – к Мари:
– Что-то случилось?
– Да… Нет. Ах, это из-за Алёши. Так странно… Я сегодня вдруг подумала, что он навсегда мой маленький брат с розовыми ручками, хотя я уже давно не могу его взять и поднять… – Она прижала ладонь ко лбу. – Какая глупость. Простите.
– Нет, я понимаю.
– Вы не знаете, что за господин Егошин держит игру на Болонной?
– Алёша у него играет?
«Я делаю не то. Всё это страшно неприлично, – ужаснулась она. – Зачем я всё это рассказываю – чужому человеку?»
– Да… Нет… Всё хорошо. Я просто немного устала. Говорю глупости. И думаю глупости.
– Я всё об этом выясню, – пообещал Бурмин, – и позабочусь об Алёше.
«Какого чёрта я несу – у неё для этого есть муж», – дёрнулся. Но этот наспех поставленный картонный муж плоско повалился.
– Боже мой, нет. Что вы. Я совсем не имела в виду…
Мари почувствовала, как против воли в её взгляде вспыхнула благодарность, и отвела его:
– Не слушайте меня. Всегда после балов несколько дней чувствую себя немного нездоровой. – Попробовала улыбнуться, пошутить: – Уже не юная барышня, увы, чтобы плясать ночь напролёт. Мамашам полагается сидеть у стены.
Но и эта кое-как выдвинутая ширма в виде семьи завалилась набок. Вышло жалко.
– На бале… – заговорил и умолк Бурмин. Сердце его тяжело билось.
Они смотрели друг другу в глаза.
Оба чувствовали одно. То же самое, что испуганно ощутили на бале: отсутствие между ними чего-то важного, и потому – какую-то тошнотворную свободу. Свободу сказать что угодно. Свободу что угодно сделать.
Оба ужаснулись ей.
Бурмин уже потянулся, чтобы взять её руку, но вдруг остановился, будто бес и здесь держал ухо востро: отвёл. И вовремя. Зашуршало поодаль платье, в открывшуюся дверь плеснули голоса:
– Бурмин! Как мило! Вот сюрприз! Лакей сказал: господин Бурмин. Ба!
Граф и графиня вошли в гостиную. Оба бдительно оценили мизансцену. Но Мари и Бурмина разделяло приличное расстояние, лица не выражали ничего. «Слава богу, – подумала мать. – Ещё не хватало».
– Здравствуйте, голубчик.
Они расцеловались с Бурминым, обменялись вопросами о здоровье – его, тётки Солоухиной; новостями тоже бы обменялись, да не было. Принялись обсуждать прошедший бал.
Мать бдительно поглядывала то на Мари, то на Бурмина. Что-то было не так. Но что? Оба сидели далеко друг от друга, друг на друга не смотрели – может быть, как раз слишком уж старательно. «Зачем вообще притащился? Голодранец. Постыдился бы сюда казаться. После всего», – но мать очаровательным смехом ответила на замечание гостя.
Вошёл Облаков. И все были благодарны ему, когда после обычных любезностей он взял Бурмина за локоть:
– Прошу меня простить: похищаю. Идём, Бурмин. Покажу тебе свои трубки. А если какая понравится, то и угощу.
Графиня смотрела им вслед со сладкой миной и отнюдь не гостеприимными мыслями: «Пинка бы ему дать с лестницы, а не трубку».
– Зачем он являлся? – недовольно наклонилась к дочери.
– Как все, – равнодушно бросила та. – С визитом.
– Господин Бурмин не совсем одичал, – проскрипела мать. – Какая прелесть.
– Ну вот, – сказал радушно Облаков, затворив за ними дверь кабинета. – Бабье царство отрезали. Садись, где тебе улыбается.
Он говорил и диву давался, как легко вернулся в тот дружеский тон, что был между ними шесть лет назад. Хотелось верить, что и Бурмин чувствует то же самое. Но не хотелось слишком уж заглядывать ему в глаза. Облакову случалось подмечать эту манеру у других, он находил её собачьей.
– Сейчас я покажу тебе трубки, – раскрыл он ящик на столе.
– Только если сам хочешь.
– Тогда сигару? Есть свежие голландские.
Бурмин покачал головой.
– Ты разве не куришь?
Рука Облакова остановилась на поднятой крышке:
– Ну? Надо приняться заново. Как это? Офицер – и не дымит.
– Я и не офицер.
Облаков медленно опустил крышку. Бурмин так и не сел. Он оглядывал картины на стенах кабинета. Или просто ухватился за первый предлог отвести взгляд.
– Так-так. А я решил, что уговорил тебя вернуться в полк.
– Давай оставим…
– Но ведь твоя болезнь… Твоя рана, – быстро поправился Облаков, – тебя больше не беспокоит. Ты выходишь в свет. Танцуешь.
– С твоей женой, – попробовал шутливо перевести тон Бурмин. – Вот ты к чему! Признайся. Ревнивец!
– Не в этом дело. – Крышка выскользнула и треснула, сильнее, чем ему хотелось. – Но войны с Бонапарте не избежать.
– По-видимому, нет.
– И ты решил отсидеться? В стороне? Ты?
– Не пытайся меня задеть.
– Отчего ж тогда?
– Ты сам знаешь нашу армию. Воровство, злоупотребления, интриги, командиры, которые ставят муштру и придворную карьеру впереди военного искусства, пустой расход солдат – всегда одно и то же. Не хочу.
Облаков насупился. Сел. Откинулся на спинку (жёсткую и твёрдую, как было теперь модно). Сцепил руки на коленях. Засопел.
– Ну скажи, – попросил Бурмин.
– Мне просто странно, что такое нужно тебе говорить.
– Всё же давай.
– Ты вот ругаешь… Допустим, по делу. Но знаешь ли, если все честные дельные офицеры будут, как ты, плеваться и уходить, то тогда верно, тогда ты прав, останется ворьё, взяточники, дуболомы. Чем больше честных офицеров…
– Я понял твою теорию. Разбавить говно молоком. Но знаешь ли, пить это всё равно нельзя. Даже если долить очень много молока.
На Облакове дрогнули эполеты.
– Но ведь ты поправился? Ты теперь здоров?
– Как видишь.
– Тогда не понимаю! – воскликнул генерал. – Я был уверен, что ты передумал.
– Я? Нет. С чего?
– Тогда…
Облаков так резко стиснул зубы, что на мягком круглом лице обозначились желваки. Успел, прежде чем выскочило: «Какого чёрта ты сюда пришёл?» Скрипнул зубами, перекусил, перетёр. Сглотнул, слова драли горло, как сухая корка. Облаков налил себе воды. Выпил.
– Прости, – отвернулся от картин Бурмин. – Я не передумаю. Не будем про армию.
– Тогда зачем ты в обществе? – Облаков снова обрёл спокойствие. – Ради балов и гостиных?
– Ну… – Бурмин запнулся на миг, но закончил весело: – Может, и впрямь – подыщу себе невесту, как настаивают местные маменьки?
Облаков метнул комически подчёркнутый негодующий взгляд. Открыл крышку, рядами лежали сигары, он потянулся к бурой бомбочке. И увидел, что пальцы его дрожат.
Простились они тем не менее дружески.
Горничная проводила Бурмина в прихожую, отразилась в полутёмном зеркале, подала шляпу и перчатки. Он взял то и другое, потянул. Горничная не выпустила край. Бурмин холодно обозначил недоумение:
– Прошу прощения?
Горничная разжала пальцы, лягнула ногой подол, уронила книксен, глаза долу – точно ничего и не было.
Все остальные бросили игру и окружили стол, за которым господин Егошин стоял против молодого Ивина, обещавшего отыграться. Всем было интересно, чем дело разрешится.
Руки Алёши дрожали. Во рту пересохло. Голова была будто наполнена горячими углями. Взгляд прыгал с предмета на предмет. И вместе с тем это было не мучительно – это было прекрасно!
Он загнул угол, удвоив ставку.
Савельев дёрнул себя за ус, шагнул было к Алёше решительно, но Мишель удержал его. Шепнул:
– Оставь. Потеха.
– Ставка удвоена, – громко сказал господин Егошин.
Алёша зажмурился. И загнул второй угол. По игрокам пронёсся шелест.
– Изволите учетверить? – безразлично спросил хозяин.
Алёша сглотнул, кивнул. Не в силах выдавить слова из пересохшего рта. Странное веселье переполняло его. Кровь будто бурлила. В пальцах и щеках покалывало.
Господин Егошин взял новую колоду. Остановился. Взор его стал рыбьим, неподвижным. Алёша обернулся туда, куда он смотрел. «Бурмин… Бурмин», – пронёсся шепоток.
– Что, Бурмин? Тоже играете сегодня? – Алёша сам не понимал своего задора.
– Я приехал за вами. Идёмте.
Властность в голосе Бурмина задела его: «Что я ему – прежний мальчик?»
– Я не кончил игру.
Бурмин и Егошин глядели друг другу в глаза, не мигая.
– Это же шулер, – процедил Бурмин шёпотом, – карточный вор.
Но так, что чуткий слух господина Егошина разобрал. Губы понтёра изогнулись в презрительной ухмылке. «Да. И что?» – говорила она. Ни один не отвёл взгляда. Бурмин ответил его наглому спокойному взору – спокойным и презрительным.
– Идёмте. Вы разбиваете сердце своей сестре. – На сей раз шёпот был еле слышным, только для Алёши.
– Мари? – неестественным тоном удивился Алёша. – Насмешили, право. Вы превратного мнения о её чувствительности.
Но так и не смог поймать взгляд Бурмина. Тот был устремлён в глаза господину Егошину.
Алёшу это разозлило. «Как будто я ни при чём. Как будто я не могу сам за себя решить».
– У Мари сердце ростовщицы. Маленькой расчётливой торговки. Все знают.
«И вы», – чуть не сказал. Да и не требовалось. Бурмин на миг сжал челюсти. Выражение его лица снова стало неподвижно-небрежным.
– Вы пьяны, Алёша, – не мигая и не поворачиваясь, спокойно заметил в пространство перед собой Бурмин. – И вам, и мне удобнее счесть ваши слова пьяным бредом.
И всё смотрел на Егошина. Как на неодушевлённый предмет. Как на еду. На дне души у господина Егошина заметалась тревога. «Что пялится?»
– Что вам угодно?
«Как бы кулаки не распустил». В Твери господин Егошин раз был пресильно бит одним гусаром. Внешность его тогда надолго утратила презентабельный вид. Это скверно сказалось на коммерции. Унижения и боли побоев Егошин не боялся. Он боялся убытков. «С этими господами может выйти любое инкомодите».
– Мне. Угодно. Увести. Этого господина, – тихо и равнодушно ответил Бурмин. Как будто в зале больше никого не было. Как будто ему лень было размыкать рот.
– Я не могу остановить игру, – выдавил Алёша. – Я должен отыграться.
– Тогда извольте расплатиться на месте, – с готовностью ухватился Егошин.
Лицо Алёши пошло пятнами. Лоб покрылся испариной. Проиграно было больше прежнего. Деньги, которые дала утром сестра, чтобы покрыть первый долг, давно ушли.
– Я заплачу! Потом.
Егошин скроил мину святой невинности:
– Не смею усомниться! Но бумажки всякие, векселя, расписки. Ненавижу крючкотворство. Всепокорнейше прошу счесться у стола. Вам ведь не составит труда, – повесил он ядовитую паузу.
По зале опять пронеслось движение. И наступила полная тишина.
Алёша почувствовал, как наливается жаром стыда.
– Какое нахальство! – заорал Мишель. – Оскорбление! Алёшка, не спускай!
Двинул под шумок Савельева локтем в бок, хихикнул в ухо:
– Во-во. Самая потеха сейчас будет.
Алёша озирался направо, налево.
– Сколько ж? – спросил Бурмин через стол всё с тем же равнодушием.
Егошин поспешно наклонился над меловыми заметками.
– Так-с… так-с… Извольте видеть, – упёрся пальцем.
Бурмин опустил взгляд. Снова упёр в Егошина:
– Я дам поручительство. К вашим услугам.
И не тратя на шулера ни секунды более, схватил Алёшу за плечо и повлёк к выходу.
На лестнице Алёша попробовал вырваться:
– Какого чёрта вы устроили, Бурмин? Что за ералаш?
Он всё ещё был пьян. Бурмин волок его вниз, ноги Алёши попадали не по каждой ступени.
– Ералаш устроили вы, Алёша. Я отвезу вас домой. Вы ляжете спать.
– Вы только всё испортили! Я бы всё вернул! Сегодня же! У господина Егошина сегодня большая игра. Я бы отыгрался. Из-за вас…
– Хватит! – рявкнул Бурмин.
Они сбежали мимо сонного лакея, с крыльца, плошки уже чадили. Лунный блик кругло блестел на крыльях коляски, на крупе лошади. Сверху сыпанул пьяный гогот. То, что его увозят, увозят бесславно и бесповоротно, что хохотали – скорее всего, над ним, над кем же ещё? – дошло до Алёши:
– Я вам не мальчишка!
Бурмин пихнул его к коляске:
– Мальчишка и есть! Мальчишка! Который не думает о последствиях! О чувствах других!
– Вам не знать!
– Который привык, что всё уладит сестра.
– Да? – Алёша вдруг пихнул его в ответ. – Сестра? – клекотнул, изображая хохот. – Сестра-а-а. Вот оно что.
Лицо его собралось в пьяную злую гримасу:
– А вы-то сами? Вы сильно думали о её чувствах? Шесть лет назад…
Бурмин замер, как от пощёчины. Алёша стряхнул его руки.
– Меня поучаете! Или, ах нет, – спасаете! Благодетель вы мой, – кривлялся он. И опять обозлился: – Да только я тут ни при чём. Думали исправить, что натворили с ней шесть лет назад?
– Вы не знаете и не могли знать всего.
– Ах да? Потому что я был ребёнком? Так я вас удивлю: слепым я не был.
– Алёша…
– Смотрите лучше на себя!
Алёша поддал ногой рваный сапог, что валялся на мостовой. И пьяно, шатко побрёл по ночной улице.
Солнце щёлкнуло по Оленькиной серёжке, выбило искру – та впилась Алёше в глаз. Он поморщился.
Оленька вспыхнула, ибо приняла гримасу на свой счёт:
– Извини. Я понимаю, что предмет нашего разговора тебе не слишком приятен. Но ты должен мне пообещать.
…Ощущение было такое, будто вчера голову оторвали, потом, конечно, пришили, но не той стороной. Пол вело. Комната покачивалась, как на волнах. Желудок крутило. Алёшу мутило.
Но Оленьке… Разве барышне такое расскажешь?
Он обхватил голову руками. Чтобы остановить качку. В горло стрельнуло горечью.
– Ни за что больше! – воскликнул искренне.
Оленька требовательно смотрела на него своими правдивыми глазами. Она вполне понимала природу Алёшиных мук.
– Ты не можешь себе позволить… такое.
Есть вещи, которых барышни не называют. Даже если понимают.
– Зачем ты тянешься за такими, как этот Мишель, если ты – не такой?
– Ах, Оленька! – Сейчас, в муках похмелья, Алёша сам верил в своё раскаяние. – Разве ж я за ним тянусь!
– Зачем же ты туда отправился?
Алёшино лицо оживилось.
– Ты пойми. Ведь это единственная возможность всё поправить. Раз – и в дамки! Если только выпадет случай. Если повезёт! По-настоящему! В один вечер можно выиграть целое состояние! Выйти оттуда богатым и независимым. И тогда… Тогда мы сможем пожениться.
Он взял её руки в свои. Глядел с мольбой и надеждой.
Оленька порозовела. Рук не отняла.
«Оленька-а-а-а!» – донёсся голос графини. В нём сквозила лёгкая тревога, которую Оленька расшифровала без труда: графиня не видала ни сына, ни воспитанницу, из чего сделала вывод, что… «Оленька-а-а-а!» – голос двигался, приближался.
– Ты должен примерно служить. И выслужиться, – скоро заговорила Оленька, глядя Алёше в глаза. – Накопить капитал. Тогда мы сможем пожениться.
– Как у тебя всё просто, – уныло проговорил Алёша. – Будто это быстро. Выслужиться.
– Попроси… совета у генерала Облакова. Он тебе ни в чём не откажет.
Алёша задумался.
– Он наверняка сумеет подыскать тебе какое-нибудь хорошее место.
Голова после вчерашнего трещала, Оленькины слова ласково буравили от уха до уха.
– Обещай мне. Обещай! Обещаешь?
– Да, да, сто раз да! – И этому Алёша тоже верил.
Оленька быстро клюнула губами его губы.
– А, Оленька… – Графиня быстро оценила диспозицию: сын в углу дивана, воспитанница на другом конце комнаты, с рукоделием. Туалет в порядке. Волосы в порядке. Ложная тревога. Пока что – ложная. Глаз да глаз за ними нужен.
– Что, мама? – спросил сын.
Графиня приласкала его взглядом.
«Ну что стоит Мари просто увезти её с собой в Петербург? Тем более если Мари опять в положении. Ребёнку понадобится нянька! Мари так эгоистична, вечно думает только о себе…» – с привычным раздражением подумала мать.
Обернулась к бедной бесприданнице:
– Душенька, идём – помоги мне смотать нитки.
Оленька отложила пяльцы. Вскочила. Как всегда – готовая к услугам.
Некоторое время Алёша не думал ни о чём. Просто наслаждался внезапной тишиной. Даже голова болеть перестала. Он качал ногой, любуясь хорошо натянутым сапогом.
Цок.
Поднял голову.
Цок.
Стукнуло опять по стеклу.
Алёша подошёл к окну, жмурясь на солнечный свет.
Мишель тут же бросил ненужные камушки в клумбу. Он сидел верхом на своей английской кобыле. Шкура её лоснилась на солнце муаровыми переливами. Алёша дёрнул за шпингалет, отворил окно. Ворвался шум и запах лета: пыли, навоза, трав.
Жизнь была так прекрасна!
Ну как вот хоронить себя заживо в бумажки – вместе со штабными крысами?
– Симпатичная! – подмигнул Мишель Алёше.
Алёша подумал: надо бы ему строго указать, что не его дело. Но уже расплылся в глупой ухмылке.
– А знаешь что? – Мишель подъехал к самому окну, топча зелень и золотые шары цветов. Понизил голос. – Симпатичных девиц полно. А дам ещё больше. Жениться – считай, заживо себя похоронить.
«Вот и он о том же», – поразился совпадению мыслей Алёша.
– Едемте, граф! – шутливо отсалютовал Мишель. – Нас ждут великие дела.
Но обаяние Оленьки ещё не развеялось. Ещё окружало Алёшу, как скорлупа.
– Не могу, – мрачно сказал он.
Весёлое выражение на лице Мишеля несколько застыло. Лошадь крутилась под натягиваемым поводом. Копыта чавкали, ломая цветы.
– Шишкина позови, – предложил Алёша.
– Шишкин отпал. Переметнулся к занудам. Оказался тряпкой и слабаком. Я в нём ошибся. Но ты же не слабак?
На миг игра теней и бликов накрыла лицо Мишеля. Алёше показалось, что улыбка Мишеля похожа на злой оскал. Что в глазах мечется болотный огонёк.
Но Мишель повернулся. Тень ушла. Мишель весело похлопал кобылу по широкому крупу:
– Зизи выдержит двоих.
И скорлупа треснула. Алёшу окружило радужное обаяние Мишеля. Он знал, что ядовитое. Но… Солнце смеялось, зелень шелестела, похмелье отпустило. Происшествие с Бурминым при свете дня потускнело, а что он сам наговорил – уже и забыл. Он был молод, здоров. Ему хотелось жить, а значит – веселиться.
День впереди был прекрасным, долгим. И жизнь тоже.
«Я всегда успею связать себя по рукам и ногам. Потом».
Он весело закинул ногу и перемахнул через подоконник.
Пора было обходить дом – проверять двери и окна. Незапертое – запереть. Вставать на цыпочки, вытягивать спину, тянуться руками – а годы-то уж не те. Коряга старая, эх. Клим посмотрел через стекло на голубой вечерний сад, птицы отдыхали от дневных трудов, закатили концерт. Всё звенело, пищало, тренькало. Сердито пикала синица, её дразнил дрозд, тоже пикал, но другим – горловым звуком: то, да не то. Вот ведь стервец… В такой час хотелось сидеть на ступеньке, на завалинке, на веранде. Слушать птиц, вместе с ними отдыхать от забот, курить, с деревьями растворяться в синеющем воздухе, в голубом дыму. Когда-то Климу этого хотелось. Когда-то он так и делал. Когда-то вечерний час для него был часом отдохновения, венчал и вознаграждал день. Когда-то. Давно. Клим потянулся к шпингалету, открыв от усилия беззубый рот. Подёргал. Убедился, что заперто. Так-то. Снова посмотрел в окно. Послушал, как внутри набухает привычная тревога. Иные, тревожась, суетятся, слоняются, места себе не находят, а Клима тянуло брюзжать. Развязал шнур, распустил штору. Сада больше не было.
Пошёл к следующему окну. Сощурился, цокнул языком. Тёмный прямоугольник на подоконнике оказался книгой. Вот ведь старость, куриная слепота.
Побрюзжав на себя, принялся отделывать барина.
А кого ж? Кто книгу тут бросил?
«Барин и бросил. Где читал, там и бросил. Ну есть у него соображение или нет? Вот ежели дождь польёт? На небо-то смотрел? Вон синяки какие набрякли. Хляби небесные. А рамы старые, щель на щели и щелью погоняет. Натечёт на подоконник. И спортит книгу-то. Вещь».
Прошёлся рукавом по лиловому переплету. Смахнул, если вдруг что налипло. Вещи уважать надо. Они и послужат дольше.
«Раньше вон всё на совесть делали. Не то что нынче. Надо её хоть на стол снести. Чтоб дождём не попортило. Увесистая. До колен руки оттянет, пока донесёшь. Рук тут никаких не хватит. С барином этим. Всё за ним вот так прибирать. Такому дому нужно много народу, девок, баб молодых. А не старый хрыч одной ногой в могиле. Не могу ж я за всем уследить, года уже не те, чтобы вот так корячиться. Пылища вон, как у лешего. Только что гости не приходят, а то позор был бы на всю округу. Талдычу ж ему, бабу хоть надо в деревне найти. А не книжки повсюду разбрасывать. Что там можно читать?»
Грамоты Клим не знал, да хоть бы и знал, буквы были нерусские.
Раздвинул книгу сердито, будто уличая: нечего тебе путного сказать, а?
Пошелестел страницами. Посеял мелкое просо букв. Мелькнуло тёмное поле. Картинка, что ль? Стало любопытно. Вернулся к ней. Изображены были мужики. Что делают – сразу и не понять. Первый мужик был одет как господин. Второй тоже, но весь горбился. Третьего скрючило. Четвёртый вовсе на карачках. Чудно. А на голове у него что? Шляпа, что ль?
Поднёс в сумраке к глазам.
И отбросил. Книга шлёпнулась, как гадина.
Попятился. За грудиной растопырилась боль, дыханье спёрло.
Клим не помнил, как выкатился и дверью хлопнул, а вот что ключ в замке повернул – помнил. За шесть-то годков помнить такое приучился.
Попугай был большой, белый и ужасно вонючий. Клетку его поставили на специальную подставку. Своими гадкими большими кожистыми лапами он хватался за прутья почти человеческим жестом, это делало их ещё омерзительнее. Помогал себе кривым клювом, норовя взобраться к самому своду. Когти на лапах были кривые.
Мари старалась не смотреть на блюдо с бисквитами.
– Ну скажи: подай вина… Вина! Вина! – Граф терпеливо наклонялся к самым прутьям клетки. – Скажи: вина!
Лес продали, и Ивины наслаждались деньгами.
– Вижу, вы в восторге от своей новой покупки, – сказал из-за стола Облаков. Он отражался в самоваре.
«Лицо дулей, – подумала Мари. – И у меня – дулей. Прекрасная парочка. Два урода».
Снова стала смотреть на бисквиты.
– Мари, передать вам бисквиты? – любезно встряхнула кружевами на рукаве княгиня Печерская, протянула к блюду пухлую руку, другой придерживая на коленях всегдашнюю собачку.
«Сперва собаку гладила, теперь этой же рукою берётся за блюдо», – с отвращением подумала Мари. Ответила с улыбкой:
– Благодарю.
Взяла бисквит. Положила рядом.
Разговор весело жужжал.
– Представляете, малютка Ростова, ну та, которую, по слухам, украл да не украл Курагин, снова стала появляться в свете.
– У них вроде бы имение неподалёку.
– У Ростовых?
– Ах нет, я всё напутала. У Болконского. Почему я вспомнила Болконского? Всё путаю.
– Вы вспомнили, милочка, потому что ходили слухи, будто малышка Ростова была с Болконским помолвлена.
Мари не выдержала и отошла к окну, за которым синел вечереющий сад. «Господи, о чём они? О ком? Какое им дело до всех этих людей?»
– Болконский – славный парень. Говорят, поехал в Турцию в армии Кутузова воевать.
Толстяк Марков, зять княгини Печерской, с которым они вместе ехали в Смоленск, опрокинул в горло ликёр, стукнул бокальчик, задержал пальцы на его хрустальной талии. «А пальцы – как колбасы».
– Ах, – выпрямился граф, – неужели Господь Бог так же утомительно возился с Адамом? Или Адам сразу получился говорящим?
– Надо будет спросить у приходского священника, милый, – предложила графиня. Она разливала чай.
Молодёжь сгруппировалась на конце стола. Алёша о чём-то болтал. То с Оленькой по одну сторону. То с сёстрами Вельде. Их мать – с дамского конца стола – бдительно посматривала, как там идут дела. Но вынуждена была признать: без успеха. «Вот молодые люди. Болтать да танцевать – пожалуйста. А как жениться…» Впрочем, это был ужин, и ужин дармовой, так что настроение её не испортилось.
Граф опять наклонился к клетке.
– Вина! Подай вина… Вина… Вина…
Птица распустила гребень на голове, издала пронзительный скрип. Разговор запнулся. Марков нервно хохотнул. Графиня вздрогнула и зажмурилась. В чашке плеснул чай. Мари скривилась. Граф восторженно крякнул: «Первый шаг!» Только Оленька была всё такой же безмятежно спокойной. Отпила чай. «Господи, как же она хлюпает, – подавила раздражение Мари, – какая ужасная манера».
Теперь тёмный сад казался ей недобрым скоплением форм. Которые подступали к дому, к свету, к человеческому теплу – теплу добычи.
Мари вернулась к столу и уже изо всех сил старалась не смотреть на окна. Большие проёмы, в которых призрачно отражалась комната, блеск свечей, люди за столом. Темнота напирала снаружи. Продавливала, продавливала – вот-вот продавит и прольётся, всё затопит.
– Что же? Вы расстроились? – возобновила графиня прерванный птицей разговор.
– Не то чтобы расстроился, – задумался Облаков. – Мне стало грустно.
– Грустно? – подняла графиня бровь. Она избегала бисквитов, опасаясь за свои новые фарфоровые зубы.
Княгиня Печерская лакомилась за двоих. Хрупанье раздражало Мари. «Почему она жуёт так громко?»
– Что делает время.
– Скажи: вина… вина… вина… – всё куковал у клетки граф.
Толстый краснолицый Марков захихикал, будто остроумной шутке. Княгиня Печерская бросила на зятя ледяной взгляд, в котором читалось: тебя бы умолять не пришлось… А Облаков всё рассказывал:
– Я не узнал моего прежнего Бурмина. Он стал таким банальным. Так… поглупел. Каким блестящим был. Сколько надежд с ним связывали. И вот. Превратился в холостяка с причудами. Кто бы мог подумать.
– Ненадолго – холостяк, – поправила графиня.
Облаков удивился:
– Вы знаете что-то, чего не знаю я?
«Господи, он как старая сплетница, – разозлилась на мужа Мари. – Ему-то какое дело?»
– Хорошей семьи, не урод, – объяснил граф. – И сам не заметит, как его уже окрутят.
– По слухам, его состояние сильно расстроено, – сообщила Вельде.
«Кто бы говорил», – зло подумала на это Мари.
– …и эти его странные выходки, – не унималась Вельде.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































