Текст книги "Нашествие"
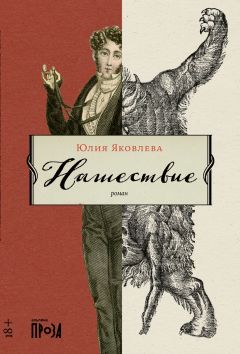
Автор книги: Юлия Яковлева
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Бурмина она терпеть не могла – он выказал равнодушие её дочерям и потому стал для неё, как тот виноград по пословице, зелен и кисел.
– Он сам, между прочим, намекнул мне, что подыскивает себе невесту, – рассказал Облаков.
– Он думает жениться? – вырвалось у Мари. Но вовремя прикусила язык. Ей показалось, что, говоря это, муж как-то странно смотрел именно на неё. «Будто наблюдает за мной?» Показалось? Отвернулся:
– Но я было решил, что он так пошутил.
«Я выдумываю всякие глупости».
– Скажи: вина… вина… вина…
– Папа, – весело крикнул Алёша, – зачем вы учите птицу по-французски?
– А? – обернулся граф.
– Её не поймёт прислуга!
Молодёжь засмеялась.
«У Алёши бабий хохот, – впервые заметила Мари. – Невесту!.. Охота выставлять себя на посмешище. Готов ухлёстывать за каждой. Противно».
– Ты прав, милый. Ты прав, – спохватился граф.
Стал донимать птицу по-русски:
– Вина… вина… Скажи: подать вина! Долго ваш Бурмин всё равно не пробегает, – вставил по-французски и опять принялся за русский урок: – Скажи: вина! Ну же… Вина!
Попугай бросил карабкаться. Сел на перекладину. Стал раскачиваться. Всё быстрее и быстрее. Всё глубже и глубже накренялся, закидывал туловище. Перья на его голове стояли дыбом. Мотался туда-сюда, как безумный маятник. Мари захотелось остановить его во что бы то ни стало.
– Наши смоленские невесты не таковы, чтобы за ними бегать, – продолжал граф. – Сами догонят и окрутят.
Она покрылась испариной. Испугалась, что сейчас и правда что-нибудь скажет. Что-нибудь сделает.
– Что с тобой? – еле слышно спросил муж.
– Со мной? – безмятежно изобразила удивление. – Ничего. Абсолютно ничего.
Она встала. Кликнула лакея. Велела опустить шторы.
– Темно уже.
Мари с неприязнью смотрела, как статный лакей, глядя вверх, тянет за шнур. Половинки штор сходились. «Какие у него короткие ноги».
Теперь комната была уютно ограждена от тьмы снаружи. Но лучше Мари не стало. Сегодня вечером всё раздражало её. Всё действовало на нервы.
Скрип паркета. Писк шёлковой обивки под чьим-нибудь ёрзающим задом. Чай пах мокрым веником. У maman пахло изо рта. От мужа – резким одеколоном. Раздражал прыгающий свет свечей. Раздражала мерзкая крупная птица. Чужой смех бил по слуху, как сухой горох. Все хлюпали, чавкали, сопели.
– А что твоя горничная? Ты ею довольна? – спросила графиня. – Мари?
– Что, maman?
– Твоя горничная. У неё наглый вид.
Попугай вдруг забил крыльями, хрипло заверещал. Звук был пронзительный и сильный. Перья хрустели о прутья.
Мари казалось, голова её трескается. Муж ласково-вопросительно коснулся её плеча. Она вздрогнула, будто он приложил не руку, а горячий утюг. Его заботливый взгляд раздражал.
– Ты прав, – прошептала, – голова весь вечер болит.
«Потому что, если я сейчас не выйду, я что-нибудь сделаю». Хотелось хватить чашкой об пол, заорать, заплакать. Мари преувеличенно-осторожно положила ложечку на блюдце. Остальные допили наконец чай. Встали. Застучали, загрохотали стульями.
Лакеи раскладывали карточные столы.
– А ты, Мари?
– Пройдусь по саду.
– Шаль только возьми. Вечером уже прохладно, – напомнил муж. «Да что ж он от меня никак не отстанет». Мари выдавила кивок:
– Да. Свежо.
Пожилые стали рассаживаться для карт. Молодёжь отошла к фортепиано и весело обсуждала новый романс.
Облаков ей подмигнул. Сделал мину: а мне теперь с ними скучать. Мари попыталась улыбнуться в ответ. И тут же испугалась: ещё увяжется. Поспешила прочь.
– Шаль, – ласково напомнил вслед муж.
«Что я? Что со мной? Зачем я выдумываю всякие глупости? Он же хороший человек», – чуть не со слезами Мари набросила шаль на плечи.
– Мари не будет играть? – встрепенулась старуха Печерская. – Я рассчитывала на её пару. Я не могу играть одна. Меня обдерут как липку.
Играли по копейке на партию.
– У Мари разболелась голова, – ответил Облаков, тасуя карты. – Свежий воздух поможет.
Граф и графиня с понимающей улыбкой перемигнулись.
– Я вам составлю пару, княгиня! – услужливо поспешила Вельде.
Мужики стояли перед старостой на коленях, опустили головы. Луна сияла за сквозистой верхушкой берёзы, как венец. Блестели блики на дулах охотничьих ружей, увязанных за спины. На топорах, заткнутых за пояс.
– Без леса нам никуда. Бонапартий далеко, а Шишкин на шее сидит. Какой-никакой, он нам теперь барин. – Староста мрачно сплюнул в сторону, выражая общее мнение о том, какой Шишкин барин.
– Кончить надо про́клятого. Четверых наших уже порешил, пора укорот дать.
Вынул и поднял икону со смутным в темноте ликом.
– Благослови Бог на охоту.
Мужики по очереди поцеловали её. Поднялись с колен, бряцая навешанным оружием. Староста каждого обнял, троекратно облобызал. Натянули шапки.
– Ступайте, ребята. Освободите лес от твари. Все вам за это поклонятся.
…Они шли, стараясь не приминать траву. Бесшумно отводили с пути ветки. Все четверо были опытные зверователи.
Внизу заблестел огнями барский дом. Сама Бурминовка лежала в темноте.
– Честные люди спят. А этот – жжёт.
Все четверо встали рядом, молча глядели.
– Грят, кажную ночь вот так, – покачал головой один.
– Это на сколько ж рублёв так за ночь нагорает?
В кустах зашумело. Вышел мужик, в руке топор. В другой – колотушка.
– Чего бродите? – поприветствовал мрачно.
– А ты кто такой?
– Дед Пихто.
– Сторож он, из Бурминовки, – узнал его один из охотников. – Извиняй, папаша, мы проходом.
– По христианскому делу, – подтвердил другой.
Сторож попался сварливый:
– Это по какому ж такому христианскому делу среди ночи валандаются?
– Сам-то ты что дома не сидишь по-христиански?
– А ты что, поп на исповеди?
Чтобы не дать завязаться ссоре, один из охотников кивнул на блеск вдали:
– Эк ваш барин угорает.
Сторож не повернулся:
– Не наш. Мы терь вольные люди.
– Слыхали.
– Потому и не сижу дома. – Он кивнул на барский дом в огнях. – Сторожим кажную ночь. Как бы себя не спалил. И нас заодно.
– Ну даёте. Подпалите сами его, вместе с домом, вот и будете спать спокойно.
Сторож набычился:
– Дельная мысль. Вот только у нас в Бурминовке нету свиней неблагодарных. Все у вас.
Мужики угрожающе брякнули снастью. Сторож приподнял топор. Все были вооружены. Шум был ни к чему.
– Шабаш, ребята, – успокоил вожак. – Вот, грят, Бонапартий идёт, всем волю несёт. Землю мужикам раздаст. Тут барам и конец: и нашим, и вашим.
– Почём знаешь, что землю раздаст? – не поверил сторож.
– А то с чего бы господа наши с ним всё воюют да воюют. Вот и кумекай сам. А идём мы на дело. Вон, глянь, луна.
Сторож зыркнул на серебряное блюдо в небе.
– Луна-то луной, – согласился. – Ладно, – проворчал. – Окочуришься тут с вами стоять трепаться. Ступайте, куда шли. Прикончите эту тварь.
Перекрестил всех разом:
– Благослови Бог на охоту.
Алина сама переоделась в амазонку. Слуги и дворня шпионят. Не хочешь, чтобы шпионили, делай всё сама. Сама подколола волосы под шляпку. На ходу сунула под мышку перчатки и хлыст, высунулась в коридор. Темно, пусто, все звуки – в отдалении.
Стараясь не шуметь платьем и обходить скрипучие доски пола, проскользнула на лестницу. И…
– Вы в сад, барышня?
Алина обернулась, точно никуда не спешила. Носик придавал лицу девки сходство с репкой. Вспомнить бы ещё, как эту репку зовут. Алина улыбнулась:
– Прогуляюсь по саду.
Носик задвигался.
Алина быстро шагнула к ней, отпихнула к стене, ткнула хлыст под подбородок. Руки у Алины были сильные, руки наездницы:
– Слушай-ка. Не знаю вот, застращала тебя барыня или подкупила… Ты сама мне скажи. Что она тебе посулила?
Девка захрипела, косясь глазами на хлыст. Пришлось ослабить хватку.
– Коральку, – выдавила, кашляя.
– Коральку.
Алина убрала хлыст. Но не отвела глаз. Maman – дура, до старости дожила, а не поняла, что запугать лучше, чем пытаться подкупить. Потому что всегда найдётся кто-то, кто даст больше. Алина ласково заправила девке прядь волос за ухо.
– Ну так спросит, а ты ей и скажи: в библиотеке барышня. В саду. Вышивает. Поёт. Головой о стенку стучит. Топиться пошла. С уланом убежала. Придумай сама, да? И коралька твоя.
Девка кивнула. Понятливая. Алина погладила её по щеке.
Привычный сложный запах – выделанной кожи, сена, пропотевших попон, свежего пота, навоза, словом, конюшни, – успокоил Алину. Руки привычно делали своё дело: проверили подпругу, узду, похлопали по сильной шее, привычно радуясь ощущению твёрдых мышц под шкурой, перекинули повод, скользнули к загубнику.
– А, вот ты где! Напугал? – загоготал позади Мишель.
Шутливо-задиристый тон брата уже надоел ей. И было досадно, что вздрогнула:
– От неожиданности, вот и всё.
– А я тебя обыскался. Что ты здесь делаешь? Тоже положила взгляд на какого-нибудь конюха?
Алина фыркнула:
– «Тоже»? Я пока ещё не так стара, как maman.
Мишель преградил выход из стойла:
– О, значит, успела соблазнить кого-то из местных увальней? Бог мой, как быстро ты скатилась. А ведь мы ещё только приехали в деревню. Дай угадаю, кто счастливец. Имбецил Шишкин? Желторотик Ивин? Не старичок же губернатор? Боюсь, тебе придётся потрудиться, чтобы его благонамеренный мог тебе угодить. Только не говори, что положила глаз на этого Бурмина. Обнищавшие аристократы хороши только в книжках.
– Может, как раз и съезжу погляжу на его имущество. Приценюсь.
– Ты же не серьёзно?
Алина нарочно повела лошадь так, что бок притиснул Мишеля к стене; боясь получить копытом по ступне, он встал на цыпочки:
– Эй-эй, гляди, куда идёшь!
Она вывела лошадь вон. С края крыши сломя голову срывались ласточки, чертили голубоватый воздух в погоне за отяжелевшими от вечерней росы последними насекомыми. Алина вдохнула. Пахло свежестью, свободой.
Мишель крикнул:
– Так куда ты собралась?
Бедняга, он тоже скучал в этой дыре, но что поделать – и он ей до смерти надоел. Все рано или поздно надоедают, все. Одни позже, другие раньше, третьи – сразу. Вот и вся разница. Бывают ли вообще нескучные?
– Покататься, – отбросила рукой подол, поставила ногу в стремя.
– На ночь глядя?
Сделала вид, что не расслышала. Послала лошадь с места в галоп, так что под ноги Мишелю брызнули камешки. Что там ещё он крикнул ей вслед, перемололо в токоте копыт.
Был вечер, один из его многих одиноких деревенских вечеров, в прелести которых Бурмин уверял Облакова. День остывал. Рыжие лучи ложились среди стволов почти горизонтально. В воздухе золотыми зигзагами и дугами носились мошки. А другой край неба уже темнел.
В комнатах медленно смеркалось.
Бурмин, заложив руки за спину, ходил из комнаты в комнату, из залы в залу. Слушал стук собственных шагов – и не слышал.
Нигде не сиделось. Взгляд соскальзывал. Все предметы казались потерявшими связь. Бурмин смотрел на рогатую сквозистую форму – и не понимал, что перед ним стул. Видел месиво пятен – оно не складывалось в картину.
Он точно ждал чего-то. И не знал чего. Не знал даже, приближалось оно или неподвижно находилось вдали. Лишь был уверен, что сразу поймёт: вот. По коже пробегал озноб. Внимание было рассеяно и напряжено одновременно.
Всё, что мешало вслушиваться в это непонятное нечто, злило. От подвывания сквозняка в каминной трубе у него сводило зубы. В глубине дома скрипнула дверь, и скрип её показался пронзительным воплем.
Попробовал сесть. Встал. Подошёл к столу. Постоял. Не узнал ни один из странных колючих маленьких предметов. Отошёл. Остановился. Наклонился. Поднял с пола книгу. «Проповеди», что одолжил у Шишкина. А она что делает на полу? Он точно помнил, что оставил её на подоконнике. А впрочем, какая разница. Машинально приткнул на подлокотник дивана.
Не то, не то.
Всё было слишком, всё мешало. Следовало что-то вспомнить. Но что? И тут же эту мысль опять стёрло, как мокрой чёрной губкой.
Он сам себе мешал, точно тело вдруг стало не по мерке: жало в подмышках, было коротко в руках и слишком длинно в ногах, давило шею. Ему казалось, он чувствует, как растут волосы, прокалывая и разрывая кожу, как трава землю.
Вспомнил!
Но тут колени подломились. Перед лицом Бурмина очутилась кожаная подушка, старинный диван был громоздким, как гиппопотам. Глаза начали смыкаться. Бурмин схватился за диван, повис на нём всем телом. Сумел выпрямиться. Выдернул из-за подушек кожаный ремень. Он был отрезан от сбруи и одним концом обвязан внизу вокруг мощной ноги-тумбы. На другом была петля. Бурмин сунул в неё руку. Теперь только затянуть, просунуть медный язычок, застегнуть пряжку. Но другая рука уже не слушалась, пальцы свело. Глаза смыкались. В ушах гудело. Одному уже не справиться.
– Клим!!! Ко мне!!!
Тело дёрнулось. Обнаружило ловушку. Завалилось, потянуло. Ножки дивана-исполина с грохотом двинулись по паркету. Гаснущий слух различил приближающийся войлочный стук. Дверь издала кошачий вопль, впустила шаги.
Первое, что увидел Клим, подняв свечу, – был мужик на карачках, одетый почему-то как его собственный барин, но в остальном совершенно такой, как в поганой книжке. Первая мысль стала последней: а ведь это не шляпа.
Горячий воск из дрогнувшей свечи облил руку, и Клим грохнулся в обморок.
Мари обернулась на светящиеся окна. Шторы скрывали от неё гостиную, но Мари казалось, что она видит всё: самовар и скатерть, старух и бисквиты, попугая и фортепиано, лакеев и ломберные столы, шали и чепцы. Ощутила тошноту и чуть не заплакала от досады. «Что со мной? Почему я не могу просто всему этому радоваться?!» Попробовала напомнить себе, сколько людей мечтало бы оказаться на её месте, но мысль эта её нисколько не тронула. Мари побрела по саду. Дождь прошёл. Листья серебрились в лунном свете. Ветки роняли тяжёлые капли. Мари чувствовала, как намокают туфли, как тяжелеет от влаги край подола. Даже под шалью было зябко. Всё было ей здесь знакомо: дорожки, клумбы, кусты сирени, которые начали цвести, и жасмин, который ещё не зацвёл. Но от ощущения, что она запуталась, зашла не туда и никак не может выйти, хотелось плакать.
Мари вошла в аллею.
Темнота ночи вливалась в глаза. Наполняла, как вода сосуд. Но не было никакой связи между тем, что видели глаза, и тем, что слышали уши. Перед Мари был лес. Он кишел звуками. Мари постояла на краю, послушала чужую жизнь. Вошла, раздвигая на пути ветки.
Она не боялась леса, за шесть лет он не изменился. Память угадывала поваленные стволы, пни, подъёмы, спуски.
Луна то скрывалась за тучей, то глядела круглым оком. Ноги то проваливались, то скользили. Сердце заходилось от шорохов, которые раздавались вдруг совсем рядом. Мари хваталась за ветки, а те хлестали. Туфли хлюпали, край платья лип к ногам. Шаль цеплялась за ветки. Лодыжки больно обожгло колючим витком дикой малины. Но от движения Мари согрелась. Мысли рассеялись. Тревога всё так же стесняла сердце, но стала светла, как грусть.
Мари остановилась, схватившись за шершавый ствол. Ей показалось, что в отдалённом шорохе был ритм. Шаги? Прислушалась. Слишком громко билось собственное сердце. Посмотрела на бледно-голубые блюдца грибов на стволе.
Вот так же было и тогда. Когда они… Вот здесь. И точно так же был туман. И что-то плеснуло в отдалении. И у него были такие холодные руки, когда он расстёгивал на ней платье, и это её жутко смешило, и она чувствовала себя так глупо: романтический миг, не правда ли? Страсть и так далее – а ей смешно. Щёки горели. Мари вспомнила ту ночь так достоверно, как будто не было никаких шести лет и времени вообще не было, как будто всё это она ощущала прямо сейчас: тепло кожи, запахи. Существует ли вообще время?
«Дойду до берега. Посмотрю. И назад», – решила она.
В темноте заухали, захихикали птицы.
Мари резко обернулась. Руки под тонкими рукавами покрылись гусиной кожей. Нет, тихо. Обычные ночные звуки: писк внизу, шорох в ветвях.
Сизое облако отошло, луна в своём коричневатом ореоле опять озарила всё бледным светом: листья, шершавые массы листьев, хвойные лапы. И лицо. Мари показалось, что сердце её пропустило удар. Что сама она очутилась внутри только что вызванных воспоминаний: ощущение было настолько безумным, что Мари казалось, видимый мир поплыл, двинулся, как карусель. И замер, стал на место. Это был он. Бурмин прижимался щекой к стволу, глаза были обращены на Мари, казались чёрными щелями.
Он не двигался, не говорил.
Должно быть, тоже растерялся. А кто бы нет. Навык самоходных светских разговоров мог помочь на Английской набережной. Но не в лесу же ночью. Мари вообразила на миг: «Дивная погода, вы не находите?» – «Как очаровательны летние ночи». – «Здесь они такие непривычно тёмные, не то что в Петербурге». Голова кружилась. Мари поняла, что больше не выдержит тяжёлых ударов в груди, повернулась, быстро пошла прочь, ветки дёргали её за платье.
– Пахнет рекой, – говорила она на ходу. Слушала его шаги за спиной. Не знала, чего боится больше: что стихнут или подойдут ближе. В висках стучало.
– Вот та тропинка, смотрите.
Бурмин не отвечал. Мари слышала его взволнованное дыхание.
– Я всё здесь помню, – говорила с нервным оживлением, скорее нервным, чем оживлённым. Трава хлестала по ногам. Щёки горели.
– Здесь мы встречались. Тогда. Шесть лет… Подумать только.
Она остановилась. Берег обрывался. Луна казалась оком. На другом берегу ели в колючих юбках спускались к самой воде. Длинные ленты тумана медленно плыли над водой.
Опять плеснуло – где-то под ногами, далеко внизу. Сердце у Мари заколотилось как бешеное.
Она чувствовала его дыхание на своей шее. Он стоял прямо у неё за спиной. И молчал. Мари заговорила первой:
– Может быть, какие-то другие люди всё делают верно и ни в чём не ошибаются… Понимают, чего хотят и как надо…
Обернулась.
Его губы приоткрылись. Зрачки расширились – глаза казались совсем чёрными. Она быстро протянула ладонь к его щеке, приоткрыв губы.
Бурмин крепко перехватил её запястье.
Мари вскрикнула – больше от неожиданности. Но он не разжал хватку. Мари ощутила, как в ней занялся жар, сердце толчками разгоняло его по телу. Мгновенно представила, как сейчас будет. Уже знала, что не будет нежно. После шести лет. Не в первый, по крайней мере, раз.
Бурмин схватил её за шею. Сжал, укусил. Но это не было больно. Нет, больно. Но это было как надо. Как должно быть. Она схватила его за горло – тоже больно. Скользнула губами к губам. Ощутила, как её дыхание смешалось с его. Увидела своё отражение в чёрных зрачках.
На дне их точно что-то шевельнулось. Зрачки дрогнули, сжались, показав раёк.
Бурмин оттолкнул её.
– Это не то, что вы думаете! – И бросился к обрыву.
Мари попятилась, запнулась, потеряла равновесие, перед глазами качнулась луна. Треснул край то ли шали, то ли платья, когда она ударилась локтями о землю и прикусила язык. В глазах на миг потемнело, а в следующий миг Мари увидела его фигуру, зависшую в нигде и никогда: между луной и лунной дорожкой, между одним берегом и другим, между сизыми облаками и их отражением.
Глава 3
Прочь – от того, что она могла сказать. От того, что могло случиться. Чуть не случилось. К обрыву. Только чтобы этого не случилось. Дальше. Одним прыжком отправил тело в пустоту между двумя берегами. На миг ощутил влагу тумана. Затем вокруг него разверзся холодный тёмный грохот. Тело сразу стало медленным, чужим. Голову, шипя, окружили серебряные пузыри, бусины, бляшки. Они неслись вверх. Сам Бурмин – медленно летел вниз.
Опускался, спокойно глядя на воздух, который вылетал из него, на жизнь, которая уходила вместе с ним. Время стало тяжёлым и плотным, как стоячая вода. Сжимало со всех сторон тяжёлой тьмой. Её прорезала белая вспышка. Свет? Нет, снег, покуда хватало глаз, волнисто лежал снег…
СМОЛЕНСК, ЯНВАРЬ 1806 ГОДА
…Был тот час, когда не поймёшь, который собственно час. Возок плавно летел, повизгивая полозьями. Но казалось, что стоял, а двигались – небо, снег, далёкий гребешок леса. Как панорама на спектакле в Большом театре, которая наматывается на огромные валики, спрятанные в кулисах.
Небо, низкое, какое-то ноздреватое, обещало подвалить снегу. Облаков вынул из кармана, выпростал поверх шубы брегет на цепочке. Поймал бледный пасмурный свет из оконца. Посмотрел на часы (не понял ничего из того, на что показывали пальцем стрелки), потом на Бурмина. Тот всё сидел, не меняя позы. Привалился лбом к рамке окна. Можно было подумать, спит. Но в раскрытых глазах выпукло бежало уменьшенное отражение: снег, небо, далёкая щётка леса.
«Лучше ему? Хуже?»
Облаков нарочно щёлкнул крышкой брегета. Бурмин не повернулся, даже не сморгнул. Облаков убрал часы. Бурмин не переменил позу.
– Удивительное дело, – оживлённо заговорил Облаков по-французски. – Зимой в деревне как никогда чувствуешь себя именно русским. Тебе не кажется? Вот этот холод, снег. Казалось бы, должно напасть уныние, хандра. Напротив! Весь как-то ободряешься. В мускулах – особая сила. Чувствуешь себя бодрее, легче, радостнее, моложе.
Бурмин, всё так же не меняя позы, скосил на него глаза. Взгляд был тяжёлый. Облаков растерянно пробормотал:
– Может, потому, что от мороза кровь быстрей бежит по жилам?
– Может. – И снова отвёл глаза к окну.
Санки чуть прыгнули на снегу. Бурмин стукнул лбом о стекло. Но и тогда не переменил положения.
«Хуже», – решил Облаков.
– Послушай, – заговорил мягко, – нельзя вот так взять и не заехать.
– Лучше так. Порвать сразу.
– Да зачем же рвать? Всё ещё уладится.
Бурмин поднял взгляд на окно. Облаков посмотрел туда же. Красное солнце опустилось так низко, что показалось из-под пелены. На оснеженных деревьях загорелись алым золотом верхушки. На снегу вытянулись голубые тени. Одна – угловато-скошенная – бежала рядом с возком.
Облаков разошёлся:
– Мне кажется, ты находишься в том заблуждении… но я тебя, конечно, понимаю, – поправился он, – тебе сейчас кажется, что так будет всегда.
– Разве нет?
– Конечно, нет!
Бурмин отвалил от окна. В тёмной тесноте возка блестели глаза Облакова и блик на лакированном козырьке его офицерской фуражки.
– Ты говоришь, что ты сейчас не тот, каким был. Тут я не буду с тобой спорить, я не могу знать, каково тебе сейчас. Но всё же выслушай мои доводы. Ты сказал, что такое ранение, как твоё, меняет человека. Но посмотри на всё иначе. Ранение, может, и меняет. Но потом приходит выздоровление. Раны затягиваются. Здоровье восстанавливается. Не сразу. Медленно. Затем быстрее. В один прекрасный день ты будешь здоров. Снова тот, что был.
Бурмин отвернулся к окну.
– Нужно лишь время, – не сдавался Облаков. – Поживи. Посмотри. Расскажи всё им… Ей.
– Нет, – ответил Бурмин с закрытыми глазами. – Это исключено. Я не хочу ни жалости, ни снисхождения. Пусть лучше возненавидит. Тем скорей забудет. Скорей утешится.
– А если ты поправишься?
– А если не поправлюсь?
Бурмин повернулся. Даже через свою и его шубу Облаков чувствовал, как друга трясёт мелкая дрожь.
«Хуже. Хуже». Облаков не смог солгать ему в глаза: «Я уверен, что поправишься». Лишь вздохнул, что можно было толковать как угодно.
– Послушай, – тихо начал Бурмин. – Я тебе, твоей дружбе, твоей верности и храбрости столь многим обязан. Самой жизнью…
Облаков смущённо остановил его. Почти робко напомнил:
– Ведь они тебя ждут.
Духу сказать «она» ему не хватило.
– Что ж, по-твоему, надо делать то, чего от тебя ждут другие?
Его зубы клацали. Лицо побледнело так, что светилось в темноте.
«Ему даже хуже, чем я полагал». Облаков сдался:
– Извини. Я не прав. У меня вообще нет права советовать: я не пережил то, что ты. Я лишь говорил как твой друг. Друг, который желает тебе…
– Нет. Ты прав. – Бурмин наклонился к окошку в передней стенке, толкнул его.
Ворвался и засвистел ледяной воздух, от которого Облаков не почувствовал себя ни моложе, ни веселее, а лишь подобрался и запахнул шубу. Бурмин сквозь оконце ткнул тростью в подушкообразный зад укутанного на козлах кучера. Выпустил облачко пара:
– К Ивиным.
Шесть святых вечеров прошли. Все, кого хотели посмешить, посмеялись. Все, кого хотели попугать, тоже посмеялись. Все друг друга ряжеными увидели, даже и по нескольку раз, так что никого уже было не одурачить, как ни переряживайся. Тем более что идеи для костюмов иссякли. Костюмы надоели и – помятые, закапанные и оборванные – были возвращены в сундуки. Погадали – и на воске, и на снеге, и петухом. Оленьке вышел жених-портной, а Мари – табачник. Тот же табачник вышел и старому графу, все смеялись. Но и гадания иссякли. Потихоньку в углах комнат и зал большого дома Ивиных начала собираться скука, которую не разгоняло метавшееся на сквозняках пламя свечей. А впереди было ещё шесть крещенских вечеров, называемых в народе «погаными» (может, кстати, как раз поэтому). Прислуга даже при деле слонялась так, будто никакого дела не было. Граф шлёпал по зелёному сукну картами в пасьянсе, который не сходился никогда. Графиня глотала зевки над толстой книгой какого-то французского романа (какого-то – потому что переплёт его давно оторвался и пропал: книжка была старая, ещё матерью графини купленная и так же давно сосланная в деревню). И даже Оленька, бедная воспитанница, которая привыкла держать ухо востро и ни на миг не распускаться, вышила розу голубыми нитками и теперь спарывала маленькими ножницами, поворачивая шитье то так, то эдак, вытянув от усердия губы трубочкой, показывая пробор в чёрных волосах.
– Оленька, – позвала пробор Мари.
Поднялось, повернулось лицо – знакомое до отвращения:
– Что?
– А. Нет. Ничего.
Оленька не выразила ни удивления, ни раздражения, опять наклонила кудри над пяльцами.
– Ну распарывай, раз очень надо! – чуть не со слезами воскликнула Мари. Отошла к окну.
От стекла дышало холодом. Между рамами было выстлано грязноватой ватой. От вида её у Мари сами навернулись слёзы.
Графиня, граф и Оля переглянулись. И опять опустили головы: к книжке, к пасьянсу, к голубой розе.
Хорошо себя чувствовали только Алёша и кузен Костя. Да и то потому, что обоих не было дома. Оба то и дело уезжали веселиться. Подальше от источника этой самой скуки, источник которой всем в доме был ясен: им была старшая дочь Ивиных – Мари. И была такой с середины декабря, когда от ротмистра Облакова пришло то самое письмо.
Она бродила по комнатам. Присаживалась с книгой. Роняла книгу. Брала вышивку, откладывала вышивку. Открывала фортепиано, закрывала. Начинала разговор, умолкала на полуфразе. Утомила собой родных и домашних, устала от себя сама. Всем, включая саму Мари, тоже было ясно, что пора ехать в Москву. Но в то же время понятно, что ни в какую Москву они не поедут. Со дня на день ждали Бурмина.
– Милая, ты зря себя изводишь. Зачем про это думать да гадать? Кто ж пишет, если ничего не происходит? Писать не о чём, вот и не писал, – подала голос мать. – Едет сам, и слава богу.
– Я вовсе про это не думала, – ответила Мари.
– Подумай сама. Уж больно предмет неаппетитный, – отозвался от ломберного столика граф, – гошпиталя да повязки. Кто ж такое барышне пишет. Да ещё невесте.
– Вот-вот, – подтвердила графиня.
– Почему ж тогда этот Облаков не… – разозлилась Мари.
Но родители дружно сделали вид, что не слышали:
– Все знают к тому же, что такое почта.
– Конечно. Тем более во время войны. Сама посуди. Аустерлиц! Это, значит, сначала Австрия. Потом Пруссия. Потом Польша. Потом только Смоленская губерния. Он писал. Да пропало в дороге.
Мари молча смотрела, как опускается на стекло облачко её дыхания – и тает. Опускается – и тает.
У неё готово было слететь с губ: у этого Облакова почему-то не пропало. Но отец и мать успели чуть ли не хором:
– Цензура опять же!
– Военная, – уточнил отец.
– Никому не понравится знать, что его личное письмо невесте читает чужой человек. Хоть и по служебной необходимости.
Все согласились: ничего странного.
– Нет, нет и нет.
Тем не менее все в доме Ивиных сочли это весьма странным. После Аустерлица, где он был ранен, жених не написал своей невесте и строчки. О том, что Бурмин был ранен, написал Облаков.
Письмо друга должно было успокоить бедную невесту (безупречно воспитанный Облаков адресовал своё письмо графу, но все всё поняли верно).
Облаков писал скучно, толково и деликатно. Неудачное для русской армии сражение. Ранение Бурмина. Отступление по замёрзшей реке. Чудесное спасение. Чистый опрятный прусский госпиталь. Быстрая поправка.
Хорошее письмо. Безопасное письмо. Успокаивающее письмо. Его читали по очереди. Читали вслух. Отдавали читать соседям и знакомым. Там снимали копии и передавали дальше: у всех были в действующей армии если не родные, то родные родных. Оно обошло Смоленск и часть окрестных имений, пока снова вернулось к Ивиным. Настолько оно было порядочно, деликатно, уместно – как воспитанный человек, который принят везде. Как сам Облаков.
Мари оно ошеломило и ужаснуло.
Главный, подлинный смысл письма она поняла сразу.
Смысл этот был простым. По русской поговорке, охота пуще неволи. Кто хочет написать, тот всегда найдёт для этого и бумагу, и время, и слова, и оказию. А кто не написал – тот… тот… Тот найдёт тысячу причин не сделать. Лучше было не думать почему.
Но не получалось.
В стекло – у самого её лица – стукнули.
Мари вздрогнула, отпрянула. Движение навстречу, собственное движение прочь слились для Мари в одну секунду глубочайшего ужаса. Сначала она увидела щель, обсаженную неровными острыми камнями. Потом – две дыры над ней. Потом два острых треугольника: они торчали вверх.
– Кто там ещё? – спросила с дивана графиня.
Чёрные дыры пялились.
– Мари! – позвали за спиной. Голос, казалось, шёл со дна колодца. Пол под ногами качнулся.
Наконец дыры и треугольники соединились в харю волка. Клоками торчала шерсть.
Волк загоготал.
Тут же стали стукаться и тыкаться в окно остальные хари: коза, гусь, медведь, свинья. Все в вывернутых тулупах. Кивали, приплясывали. Гусь стал растягивать гармошку. Стекло задребезжало в такт:
Милый Боженька,
Дай пироженька.
Граф, скрипнув коленями, весело выпростался из-за ломберного столика. Зашуршали платьями maman и Оленька. Англичанин-воспитатель надменно поднял бровь. Хари стучали по стеклу. Расплющивали пятерни. Им в ответ улыбались, стучали из гостиной.
– Какая прелесть! Это чьи? Наши?
– Вот тот, гусь! Ха-ха.
– Фисонька, – окликнула девку графиня, – это наши или бурминовские?
Конопатая девка в белом фартуке подошла, хмурясь. Она не любила, когда её, барскую прислугу, жившую в доме, высший слой, считали экспертом по слою низшему – крестьянам.
– Не могу знать, – сообщила она, не поглядев, и отошла.
В жёлтом прямоугольнике света, падавшего из окна, свинья сцепилась танцевать с гусем (а тот всё наяривал на гармошке), коза – с волком. На каждое коленце граф отвечал взрывом хохота, дамы ахали. Снег так и летел из-под лаптей.
По спине Мари молниями сбегал ледяной ужас. Она и понимала, что это ряженые, свои, крестьяне, и в то же время изо всех сил старалась удержать ум на последнем винте, чтобы понимать: это ряженые, свои, крестьяне. Стоять и улыбаться. Рядом бил в ладони отец, притоптывала в лад мать:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































