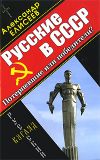Текст книги "И плеск чужой воды… Русские поэты и писатели вне России. Книга вторая. Уехавшие, оставшиеся и вернувшиеся"

Автор книги: Юрий Безелянский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Борис Пильняк – одинокий волк Октября
Ровесник Бабеля – Пильняк. Прозаик совершенно иного стиля, но та же ужасная судьба: не раз имел возможность остаться за рубежом, но ею не воспользовался, не остался, не захотел стать эмигрантом. И после очередного вояжа на Запад возвращался. Истый возвращенец. А в итоге погиб в сталинской мясорубке.
Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау; 1894, Можайск – 1938, расстрел). Отец – земский врач из немцев-колонистов, мать – русская, из купеческой семьи. В 1913 году окончил реальное училище в Нижнем Новгороде, а в 1920-м Московский коммерческий институт (нынешняя Плехановская академия). Писать начал рано – в девять лет. Однако началом своей литературной деятельности писатель считал 1915 год, когда появились его первые рассказы под псевдонимом Б. Пильняк. Первая книга «С последним пароходом» вышла в 1918 году. Пильняк считал себя учеником Алексея Ремизова: «Мастер, у которого я был подмастерьем».
В рассказе «Расплеснутое море» (1924) Борис Пильняк признавался: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который лезет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть честным с собой и Россией».
Он и имел горькую славу. Был честен. Лез на рожон, за что и поплатился своей жизнью.
Писательский взлет Пильняка пришелся на революцию, которая дала новые темы и новую авангардную манеру письма (ритм, динамика, осколочность и эскизность текста). Недаром Пильняк однажды высказался по поводу Максима Горького: «Хороший человек, но – как писатель устарел». Широкую известность Пильняку принес роман «Голый год» (1921). Маститый критик Вячеслав Полонский писал: «Вряд ли другой советский писатель вызывал столь противоречивые оценки, как Пильняк. Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем.
Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его рукой. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность вызывала большие сомнения».
Николай Тихонов не без зависти написал о Пильняке: «Верховодил в литературе… занял место первого трубача революции своими романами». Нет, никаким трубачом Пильняк не был. Он был писателем-аналитиком и пытался разобраться в политических и социальных процессах, происходящих в новой России. Он не «слушал музыку революции», он ее анатомировал и поэтому пристально присматривался к большевикам, «кожаным курткам», – кто такие и откуда (это уже потом Булат Окуджава придумал другое определение – «комиссары в пыльных шлемах»).
«…В исполкоме собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) – и каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных, – в дерзании. Из русской рыхлой корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!» («Голый год»).
В этом своевольном, ницшеанском «баста!» никакой апологетики, никакого восхищения, а выражение сути «кожаных курток».
В книге «Отрывки из дневника» (1924) Пильняк открыто декларирует:
«Я не… коммунист, и поэтому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, – и признаю, коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с коммунистами, т. е. поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними, признаю, что мне судьбы Р.К.П. гораздо менее интересны, чем судьбы России…»
Пильняка действительно мало волновали всякие идеоло-гемы, он был просто русским писателем, таким, как Чехов, Борис Зайцев, Бунин, но без этих мотивов печали и пессимизма. Пильняк был более оптимистичным и светлым в восприятии жизни. Хотя в своем знаменитом романе «Машины и волки» (1924) он достаточно мрачен и пишет о волчьей России, что «вся наша революция стихийна, как волк», что дало повод современникам сказать, что по Пильняку выходит, что главный герой Октября – волк. Тут следует отметить, что образ волка, который олицетворяет, с одной стороны, жестокость по отношению к своим жертвам, а с другой – он сам является жертвой (известная формула – палачи и жертвы), привлекал не одного Бориса Пильняка. К теме волка обращались и Есенин, и Мандельштам, и Высоцкий («Идет охота на волков..
Некоторые литературоведы считают, что революция поманила Россию к смерти (в марте 1918 года Пильняк признавался: «…Манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда». И это не могло не отразиться на прозе писателя. «Голый год» точно отразил дух распадающегося, разнуздавшегося времени.
В книге «Литература и революция» (1923) Лев Троцкий писал:
«Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов и “Серапионовы братья”, Есенин с группой имажинистов, отчасти Клюев были бы невозможны – все вместе и каждый в отдельности – без революции. Они это сами знают и не отрицают этого… Они не художники пролетарской революции, а ее художественные попутчики… Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции?..»
Да, Пильняк был всего лишь попутчик и пытался шагать в ногу с новой властью, но при этом старался не слишком испачкаться прислуживанием ей. Когда осенью 1929 года Пильняка «громили «всем колхозом», один из погромщиков, Д. Горбов, отмечал: «Пильняк очень долго жонглировал такой ценностью, которой жонглировать нельзя. Он жонглировал званием советского писателя. Жонглировал и в конце концов его уронил. Он хотел стать над событиями…»
В 1922 году Пильняк одним из первых советских писателей посетил Германию. Туда он привез рукописи советских писателей для русских издательств. Эмиграция приветствовала Пильняка как представителя новых писателей, «родившихся в революции». Вернувшись в Россию, Пильняк писал:
«Я люблю русскую культуру – пусть нелепую – историю, ее самобытность, ее несуразность… ее тупички, – люблю нашу мусоргщину. Я был за границей, видел эмиграцию, видел туземщину. И я знаю, что русская революция – это то, где надо брать вместе все, и коммунизм, и эсеровщину, и монарховщину: все это главы русской революции – но главная глава – в России, в Москве…И еще: я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем и всех любить, я выкинул всяческую политику. Мне чужд коммунизм…» (из письма 3 мая 1922 года).
В 1923 году Пильняк побывал в Англии, где убедился, как далеко ушла Европа, какой долгий путь предстоит пройти России, чтобы приобщиться к европейской цивилизации. И в связи с увиденным Пильняк все больше большевеет, и, очевидно, поэтому его спокойно посылают по всяким издательским делам за рубеж: в Грецию, Турцию, Китай, Японию, Америку и в другие страны. Пильняк много пишет, издает и при этом отмечает, что ему «выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон».
Запись из дневника Чуковского от 1933 года: «Был на лекции Пильняка 22/XI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать “Америка и Япония” Теперь, ввиду признания Америкой СССР, Америка тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии трюизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика негодовала… он не сказал ни слова об Америке…»
В романе «Машины и волки» Пильняк впал в некоторое романтическое преувеличение индустриальной мощи, ему казалось, что есть особая «машинная правда», которая позволит уйти «от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи – к России и к миру, строгому, как дизель… Заменить машиной человека и так построить справедливость».
Увы, торжество техники не есть торжество человечности.
Пильняк, в отличие от многих советских писателей, поездил по белу свету и ясно видел положение вещей: что есть Запад, что есть Восток и что есть Россия, «огромная земля многих народов, ушедших в справедливость». По крайней мере, так ему хотелось думать – что Россия движется в сторону правды и справедливости.
В дневнике Корнея Чуковского можно прочитать: «Вчера был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох… Со всякими кожаными куртками он шатается по разным “Бристолям”, – и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком…»
То, что легко удавалось Пильняку, никак не удавалось Корнею Ивановичу, отсюда и его едкий иронизм.
Пильняк был плодовитым писателем: был издан сначала шеститомник его произведений, а в 1929–1930 годы – собрание сочинений в 8 томах.
Но вернемся назад. 31 октября 1925 года в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице умер видный военачальник, председатель Реввоенсовета, нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Умер во время операции. Смерть не то по медицинским причинам, не то по политическим. В 1926-м Пильняк написал об этом «Повесть непогашенной луны», которая была опубликована в «Новом мире», и тираж номера был немедленно изъят из продажи и заменен новым тиражом, где вместо подозрительной луны Пильняка была помещена повесть малоизвестного автора «Стада аллаха». Повесть Пильняка была признана «злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии». Пильняка, соответственно, вывели из числа сотрудников «Нового мира», а заодно из «Красной нови» и «Звезды». Можно сказать, легко отделался.
Может быть, помогло официальное покаяние в том же «Новом мире», в котором Пильняк писал, что «ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету. Сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании». Выходит, наивно писал, не предполагая даже, о чем и куда целит?
1926-й не 1937-й: Пильняка простили. И разрешили ему печататься дальше. В 1929 году за границей вышла его другая повесть, «Красное дерево», переданная в Берлин официально по линии Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (БОКС), но это «Красное дерево» оказалось красной тряпкой для многих критиков автора, и на Пильняка обрушился вал ругани и брани.
Поучаствовал в травле и Владимир Маяковский (ну как же без него!): «Повесть о “Красном дереве” Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал. К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое его считает Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене. Надо бросить беспредметное литературничанье. Надо покончить с безответственностью писателей…»
И в конце: «Кто создал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?»
Никаких выходов из зоны, призывал Маяковский. Только шагать в рядах «атакующего класса», как бы говорил Владимир Владимирович и через год пустил себе пулю в лоб.
Где и у кого искать защиту от яростных нападок на явление «пильняковщины»? Конечно, в Кремле и, разумеется, у товарища Сталина. И Пильняк пишет письмо вождю: «Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы поможете мне выехать за границу, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только революционным писателем. Я напишу нужную вещь».
Лично меня передергивает от такого письма, но у Пильняка, видимо, не было другого выхода. И чудо: Сталин отпустил раскаявшегося писателя.
«Нужные вещи» Пильняк начал писать с ходу: малохудожественный роман «Волга впадает в Каспийское море», одобрил приговор по «делу Промпартии» статьей в «Известиях» – «Слушайте приговор истории!». В ней он обратился ко всем сомневающимся и к тем, кто вяло аплодирует власти: «Интеллигенция, знайте, что бы ни было – будущее у социализма, будущее у СССР, будущее у нас!» И Пильняк бодро зашагал в марше со всеми громко ликующими.
Власть поняла: перековался. И Пильняка отправили «полпредом советской культуры» в США. Там он вел себя исключительно правильно и получил разрешение привезти на родину в личное пользование автомобиль «Форд», на зависть остальным советским писателям.
Некая сделка: «Нужная вещь». – «О’кей. Американский роман» за право приобретения и вывоза «Форда». Как говорится, все разинули рты… Лиля Брик тоже просила до этого у Маяковского привезти ей из Франции «автомобильчик».
Но оставим детали. А скажем главное: все последующие произведения Пильняка, вроде «Созревания плодов» (1935), свидетельствуют о неуклонном иссякании таланта. Очевидно, он не захотел вникнуть в предупреждающие строки Бориса Пастернака, посвященные ему, Пильняку:
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
Пастернак дружил с Пильняком. У Пильняка в доме висел портрет Пастернака с надписью «Другу, дружбой с которым я горжусь».
За два года до ареста, 14 сентября 1935 года, Татьяна Лещенко-Сухомлина записала в дневнике: «Мы были в гостях у Бориса Пильняка. Его жена прелестна. Молоденькая грузинка, сестра Наты Вачнадзе, киноактрисы. Он недавно снова женился!.. Неуемные страсти! Но младенец-сын лежал в кроватке такой хорошенький, а стоящий рядом Пильняк пыжился от гордости… Пильняк потолстел, поважнел, не такой “богема”, как был. И вообще, многие из тех, с кем мы встречаемся, поражают меня напыщенностью, важничаньем, какой-то фальшивой торжественностью! Конечно, советской культуре всего восемнадцать лет! И в воздухе какое-то вранье…» (по книге «Долгое будущее», М., 1991).
Вранье, лживый пафос – все это было. Но был и Большой террор. Пильняка арестовали 28 сентября 1937 года, в день рождения сына (специально или случайно?). Сын Борис Андроникашвили-Пильняк впоследствии рассказывал (по воспоминаниям матери) об обстоятельствах того рокового дня:
«День тихо катился к закату. Сели пить чай… В десять часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Пильняк встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. “Николай Иванович, – сказал он, – срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома”. Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны (жены Пильняка. – Ю.Б.) при упоминании имени Ежова, он добавил: “Возьмите свою машину, на ней и вернетесь”. Он повторил: “Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить”.
Пильняк кивнул: “Поехали”. Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок… но Пильняк узелка не взял. “Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом”, -объяснила мне потом мать…»
При обыске у Пильняка изъяли: документы, два кинжала (оружие!), пишущую машинку «Корона», переписку и рукопись последнего романа «Соляной амбар», который был опубликован лишь посмертно в 1990 году.
Отвезли писателя на Лубянку, где отобрали галстук и ремень (чтобы не повесился?). В первый же день пребывания на Лубянке Пильняк написал «покаянное» письмо наркому Ежову:
«Я ставлю перед собой вопрос, правильно ли поступило НКВД, арестовав меня, – и отвечаю, да, правильно.
Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы революции я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах…» А далее шел выдуманный рассказ о «преступлениях».
Что можно сказать по этому поводу? Тут и страх Пильняка перед пытками, и наверняка знание, как выбивают необходимые показания у арестованных, и желание поскорее закончить общение со страшными следователями, которые вели его дело, с Райзманом и его шефом майором Журбенко… Адская государственная машина работала умело, делая из живого человека – выдуманного, собирательного, как на плакате. Честный человек моментально превращался во врага народа, и не было ему никакой пощады.
Заседание военной коллегии длилось 15 минут.
– Признаете ли вы себя виновным? – спросил председатель коллегии Ульрих.
– Да, полностью, – ответил Пильняк, признавая, что он – японский шпион и подготавливал в стране террористические акты…
Совещание судей и вердикт: расстрел. 21 апреля 1938 года сразу после вынесения приговора Борис Пильняк был расстрелян. Ликвидирован. Уничтожен. Анна Ахматова не знала о гибели Пильняка, но почувствовала всем сердцем, что произошло что-то не то:
…По тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет…
В 1956 году Военная прокуратура СССР установила, что Пильняк был осужден необоснованно, с использованием противозаконных методов следствия, поэтому дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления. Словом, не японский шпион. А честный нормальный писатель. А затем, увы, не сразу и не скоро, пришла реабилитация и творческая. Стали издавать книги Пильняка. И молодое поколение читателей поразилось и затейливым движениям фабулы, и оригинальному пряному языку, переключению ритма повествования, насыщенной фантасмагории, сюрреализму и многому прочему. Стиль Пильняка довольно сложный, и за эту сложность ему немало доставалось при жизни. Его упрекали в заимствованиях, в подражательстве и т. д. Максим Горький отмечал, что Пильняк пишет «мудрено», Эренбург считал, что «вычурно». А вот мнение о Пильняке Сергея Есенина: «Пильняк – изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений».
«Всякая женщина – неиспитая радость…» – читаем в «Голом годе».
«Доктор Павловский хотел послушать мое сердце: я махнул на сердце рукою! Я радостнейше выползал из гирь и резин, надевал в гордости штаны и завязывал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юроси-гоза-имасил», то есть объяснял, что очень хорошо!..» (рассказ «Синее море»).
Борис Пильняк – это очень хорошо!
В повести «Мать-мачеха» один из персонажей говорит: «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, – ложь повсюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это – массовый психоз, болезнь, слепота?..»
А еще Пильняк был лириком, ибо только лирик способен написать, к примеру, такую фразу: «Небо упруго, как Бунин, а дни прозрачны, как Пушкин».
В целом история с Пильняком печальна до невероятия, и поэтому немного скрасим ее отрывком из воспоминаний Вадима Шершеневича «Великолепный очевидец»:
«Флобер лучше писал, говорил пьяный Есенин Шершеневичу.
– Сережа! При чем тут Флобер!
– При том, что надо писать, чтоб было лучше Флобера.
– Да ведь у Пильняка и Флобера совершенно разные манеры. Как можно их даже сравнивать?
– Все равно хуже Флобера…»
Вообще, спорить о литературе и о писателях – дело бесполезное. И оставим в покое бедного Пильняка.
* * *
Есть такой анекдот про старого еврея. Не помню, как он точно звучал, перефразирую по-своему. Итак, умирает старый еврей и слабым голосом спрашивает: «А Абрам тут? А Яков пришел? А где Ривка? Что-то не вижу Эсфири… А вот и она. А Зяма?..» Список длинный, и старик вспоминает всех родственников, и оказывается, что пришли все к постели умирающего, и тогда он в ужасе восклицает: «А кто в лавке остался?!»
Одна волна эмиграции, вторая, третья. Лучшие умы и перья покидали советскую Россию. А кто из писателей и поэтов остался на родине, кто был с Софьей Власьевной (так втихомолку называли литераторы Советскую власть), кто ублажал ее, холил, обслуживал, угождал, служил ей? И таких было множество – страна-то большая, а среди миллионов оставшихся наверняка была сотня-другая, нет, тысячи пишущих. И вообще, как сказано в Библии, свято место пусто не бывает. Уехал Бунин и компания, на передний план выдвинулся Демьян Бедный с громогласным Маяковским. И пошла снова писать губерния, только не старая, дореволюционная, а новая – революционная, советская, с новым языком, лексикой, словечками, образами, метафорами, сравнениями и т. д. Без слез Надсона, без туманов Блока, без всяких прочих интеллигентских рефлексий. Главное – борьба: борьба за мировую революцию, за построение социализма в стране, за воспитание нового человека, за новый быт, за новую любовь…
Все годы в СССР шла борьба. С неграмотностью, с религией, с кулаками, за коллективизацию, за индустриализацию; боролись с партийными уклонами, с саботажниками, вредителями, космополитами, врагами… Одна борьба и, разумеется, жертвы. Но кто их считал? Как у Светлова в «Гренаде»: «Отряд не заметил потери бойца…» А Николай Тихонов в «Балладе о гвоздях» подвел итог:
Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче бы не было в мире гвоздей.
Гвозди, винтики, шпунтики – это вот новый советский человек, «хомо советикус», не рассуждающий, а точно выполняющий приказ: надо – и всё! Выполняй и умирай.
В феврале 1937 года на торжественном заседании в Большом театре поэт Александр Безыменский выступил с юбилейной речью о Пушкине (к столетию со дня смерти Александра Сергеевича):
Да здравствует гений бессмертный ума!
И жизнь, о которой столетья мечтали!
Да здравствует Ленин! Да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Не хочется об этом вспоминать, писать и говорить: было такое позорно-патриотическое время (а разве сегодня оно закончилось?..).
Не буду размазывать тему советской литературы. Ее представителей можно классифицировать на ряды: солисты и кандидаты в классики, просто певцы, масса хористов, ну и немалая прослойка: так называемые попутчики, внутренние эмигранты, полуоппозиционеры, молчаливые, немые и держащие фигу в кармане; кто какую позицию выбрал – на диване, в засаде, на баррикадах. Ну а большинство – и это надо признать – шашки наголо и в атаку. На врага. Кто нынче враг? Америка? Сейчас мы ей врежем по морде! Веселися, храбрый росс!..
В советское время многие были ангажированными, сервильными, преданными и влюбленными во власть. Не избежал этого соблазна и один из классиков Серебряного века Валерий Брюсов. О Маяковском и говорить нечего…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?