Текст книги "Просто Чехов"
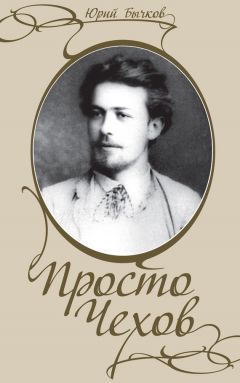
Автор книги: Юрий Бычков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«…Фамилию и свой фамильный герб я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски…
Впрочем, Суворин телеграммой просил дозволения подписать под рассказом фамилию. Я милостиво позволил, и таким образом мои рассуждения de facto пошли к черту».
В первом своем письме А. С. Суворину, предложившему молодому писателю постоянно, на выгодных условиях сотрудничать в «Новом времени», он писал: «Я врач и занимаюсь медициной… Не могу я ручаться за то, что завтра меня не оторвут на целый день от стола… Тут риск не написать к сроку и опоздать постоянный…» Но справедливые и во время сказанные слова «благовестителя» Д. В. Григоровича, сумевшего разглядеть в молодом Чехове выдающийся талант, выдвигающий его «далеко из круга литераторов нового поколения», сделали свое дело. Обласканный, ободренный, материально поддержанный Григоровичем и Сувориным Чехов начинает всё больше времени и душевных сил отдавать писательству, поняв, что оно – его истинное призвание, его долг перед Богом и людьми.
Он не убрал в дальний ящик стетоскоп и докторский молоточек, но его основное рабочее место отныне – писательский стол, на котором всегда находились и медицинские инструменты. Чехов все бабкинские летние сезоны (1885–1887 гг.) подвизается в качестве земского врача в Чикинской и Звенигородской больницах («Вчера я получил письмо от коллеги, земского эскулапа, который просит меня сменить его с субботы 13-го, ссылаясь на то, что ему с женой во что бы то ни стало ехать куда-то в пространство»; 9 июня 1887 г.). Он просит коллегу П. Г. Розанова «взять у врача Успенского оставленную красную рубаху «земского эскулапа» и доставить при случае в Бабкино, как вещественное доказательство пребывания Антона Павловича в г. Звенигороде. В Бабкине и Чикине он популярен: «Больные лезут ко мне и надоедают. За всё лето перебывало их у меня несколько сотен…»
Подвести итог разговору о деятельности А. П. Чехова на поприще земского врача и визитирующего эскулапа хочется фрагментом его медицинской «Автобиографии».
«Что касается практической медицины, то еще студентом работал в Воскресенской земской больнице (близ Нового Иерусалима), у известного земского врача П. А Архангельского, потом недолго был врачом в Звенигородской больнице. В холерные годы (92–93) заведовал Мелиховским участком Серпуховского уезда».
«Ловлю холеру за хвост». Мелихово. 1892–1893 ггПик медицинской деятельности Антона Павловича Чехова приходится на мелиховские годы его жизни (1892-1 899 гг.). Это и наиболее значительный и плодотворный период в творческой биографии писателя.
В октябре 1891 года, за несколько месяцев до переезда в Мелихово, Чехов писал: «Если я врач, мне нужны больные и больница, если я литератор, то мне нужно жить среди народа. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни…»
В Мелихове он получил все это сполна.
Очень скоро его избрали земским гласным. Участвуя в работе Серпуховского уездного земского собрания, Антон Павлович становится активным ходатаем по делам народного образования и просвещения. Он организует, вкладывая и свои, писательским трудом заработанные, средства в строительство земских школ в селах Талеж, Новоселки, Мелихово. Составляет проекты, заключает подряды, покупает строительные материалы, обеспечивает школы инвентарем, мебелью, наглядными пособиями. Он подбирает и опекает учителей этих школ, в каждой из которых, устроена просторная, отвечающая нормам гигиены и санитарии квартира для учителя.
Постоянной и самой существенной частью его общественной деятельности вновь, как в молодости, становится врачебная работа. Доктор Чехов (он с первых дней течения мелиховской жизни разъяснял и наделе показывал крестьянам, что он «не барин, а доктор») завоевал сердца мелиховцев, жителей окрестных сел и деревень.

Серпуховской уездный санитарный совет. Стоят: доктор П. И. Куркин, заведующий серпуховской уездной больницей доктор И. Г. Витте, земский гласный князь С. И. Шеховской; сидят: А. П. Чехов, доктор А. А. Кашинцев, М. П. Чехов, председатель Серпуховской земской управы Н. Н. Хмелев.
Без полного доверия писателю Чехову не открылась бы ему во всей глубине нравственных, социальных, эстетических проблем народная жизнь, не были бы написаны повести «Моя жизнь», «Мужики», «В овраге».
Когда Антон Павлович оформлял покупку у художника Сорохтина усадьбу Мелихово, то под договором всероссийски известный писатель поставил подпись «Врач – А. Чехов». Медицина помогала налаживанию добрых отношений. Он с гордостью сообщает А. С. Суворину: «…Мужиков и лавочников я уже забрал в свои руки, победил, у одного кровь пошла горлом, другой руку деревом ушиб, у третьего девочка заболела… Оказалось, что без меня хоть в петлю полезай.
Кланяются мне почтительно, как немцы пастору, а я с ними ласков – и всё идет хорошо».
Чехов заявляет о себе и как санитарный врач. Через уездное земство он проводит запрет на строительство кожевенного предприятия на речке Люторке, из которой окрестное население брало воду.
Чехов для мелиховцев одновременно мудрец и святой. Он сам рисует себя таковым: «… Ходил в деревню к чернобородому мужику с воспалением легкого. Возвращался полем. По деревне я прохожу нечасто, и бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку…»
1892 год, год переезда из Москвы в Мелихово, холерный. С юга на центральную Россию надвигалась страшная эпидемия. Серпуховская земская управа запросила у Чехова согласие на его участие в борьбе с холерой, и он тотчас письменно выразил согласие, отказавшись от платы за работу участкового врача. Антон Павлович взял на себя обслуживание 25 деревень, двух фабричных сел и монастырь Давидова пустынь.
Михаил Павлович Чехов писал об этом времени; «Несколько месяцев писатель почти не вылезал из тарантаса. В это время ему приходилось и разъезжать по участку и принимать больных на дому». С августа по октябрь он принял, записал на карточки около тысячи больных. Отказа не было никому – каждый обратившийся мог быть «холерным больным». Хотя Чехов, посмеиваясь, отвечал вопрошающим, что литературой заниматься некогда: «Ловлю холеру за хвост», – по-чеховски острил он.
Оборонительные редуты против холеры приходилось создавать на голом месте: «Оказался я прекрасным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных… Я избавил земство от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень…»
Усилия не оказались напрасными – холере был поставлен заслон. Когда эпидемия отступила, он, несмотря на неимоверную затрату сил, на отсутствие помощников, бездорожье и безденежье, написал своему конфиденту Суворину:
«Ни одно лето я не проводил так хорошо, как это… Мне нравилось и хотелось жить… Завелись новые знакомства и новые отношения. Прежние страхи перед мужиками кажутся теперь нелепостью. Служил я в земстве, заседал в Санитарном совете, ездил по фабрикам – и это мне нравилось».
На следующий год снова пришлось предпринять исключительные меры, чтобы погасить новую эпидемию холеры, и снова доктор Чехов по словам его друга, серпуховского санитарного врача П. И. Куркина, «встал под ружье».
«…Лето в общем было не веселое… Я опять участковый врач и опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, посещаю пункты и разъезжаю по злачным местам».
В медицинском отчете, направленном земству, он признается, что амбулаторным больным (принял более тысячи человек!) уделял внимания недостаточно из-за частых разъездов по участку и «собственных занятий, от которых… не мог отказаться».
Врач и литератор – они всегда спорили в нем и всегда взаимодействовали.

Младший Чехов, Михаил Павлович вспоминал: “В сущности у нас в Мелихове образовался настоящий больничный приемный пункт. Ежедневно чуть свет больные уже сидели во дворе усадьбы в ожидании приема. Антон Павлович вел регистрацию больных, и по записям видно, что больные приезжали к нему из деревень, отстоящих от Мелихова на 20–25 верст.”
Ассистентом, медицинской сестрой во время приема старательно и толково работала Мария Павловна, хозяйка Мелихова.
Вот описание состояния доктора Чехова в холерные годы.
«…Душа моя утомлена… Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры…»
А вот так трансформируется это характерное для сельского лекаря мышление в реплике Астрова («Дядя Ваня», Мелихово, 1896 г.)
«…От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили…»
Из человеколюбия Антон Павлович Чехов нес этот крест добровольно, исполняя клятву Гиппократа.

В докторской белой фуражке и кителе, в обнимку с Анной Петровной, служившей ему верой и правдой практически все мелиховские годы. Антон Павлович, не шутки ради, позирует брату Александру для этого замечательного двойного портрета. Как бы он везде успевал, не будь в любой час готова везти его к больным покладистая, работящая, безотказная Анна Петровна!
“Не жалеете Вы себя, Антон Павлович…”
Приняв вещи Антона Павловича от извозчика и проводив писателя до пятого номера, поверенный в делах по Большой Московской, коридорный Семен Ильич Бычков достал из-за обшлага форменной куртки продолговатый конверт.
– Неделю как была здесь с этим конвертом барышня – видная из себя, розовощекая молодая особа. Очень сокрушалась, что вас нет. Оставила конверт, чтоб я передал, – объяснял словоохотливый коридорный, не выпуская из рук письма.
– Семен Ильич, письмо-то барышнино не унесите.
– Ох, грехи наши тяжкие. Заговорился, – поставив на привычное место, справа от стола, баул Антона Павловича, он почтительно передал письмо. – Теперь вы с дороги передохните, а я мигом закусочку соображу, чайком вас побалую.
– Это кстати. Знобит меня. Прошлой ночью опять кровью плевал.
– Не жалеете вы себя, Антон Павлович, честное слово. По весенней ростепели – грязь, холод, реки вот-вот взломает – вы мотаетесь туда-сюда.
Вместе со стуком в дверь послышался голос:
– Посыльный из «Русской мысли».
Не ожидая приглашения, видимо, осведомившийся у швейцара, что Чехов дома, вошел улыбчивый парень в светлых кудрях, будто обсыпан сосновыми стружками.
– Пожалуйте, Антон Павлович, для вас корректурные листы и записка от Виктора Александровича.
– Спасибо, голубчик! – он немедля достал из аккуратно склеенного конверта записку.
«Дорогой Антон Павлович, в понедельник корректуру верни. Твой В. Гольцев».
– Семен Ильич, какой сегодня день?
– Пятница. 21 марта. – Бычков с важностью извлек из жилетного кармана часы-луковицу. – Пять часов пополудни.
– У меня на корректуру – сегодняшний вечер, суббота и воскресенье. Но не следует забывать, что в Москве Суворин.
Поднес к глазам записку Гольцева: «В понедельник корректуру верни».
– Мне в прошлый раз Виктор Александрович намекал, будто ресторанного официанта Чикильдеева вы с меня списали. Только я здоров, славу богу, а ваш Чикильдеев в деревню помирать выехал.
– Одна умная, талантливая особа сорока с лишним лет от роду тоже вообразила, будто в рассказе «Попрыгунья» с нее списана юная Ольга Дымова. Произошел форменный скандал. Будь она кавалером, непременно вызвала бы меня на дуэль. Гольцев напрасно это вам навязывает. Судите сами: Чикильдеев – смертельно больной, а ты, Семен Ильич, слава богу, в полном порядке.
– А лестно, Антон Павлович, попасть к вам в книжку.
– Ну-ну! А где же обещанный чай, сыр и прочее?!
– Соскучился я по вас. Вот и забылся. Простите! Я мигом. Одна нога там – другая здесь.
Отступив от твердой привычки сразу отвечать на полученные письма, Чехов, повертев в задумчивости письмо, сказал себе: «Завтра». Достал платок, вытер со лба испарину и повалился на спинку дивана. «Мочи нет, говорят старухи деревенские, отшагав 5–7 верст, поспешая на прием ко мне, доктору. Вот и доктор – мочи нет и все тут. Кажется, заболеваю».
Вошел коридорный с подносом, уставленным закусками, и моментально сервировал стол.
– Скажи, Семен Ильич, не приходил ли Суворин?
– Не было их, Антон Павлович. Меня бы известили, если что.

Аксессуары переписной компании на писательском столе Антона Павловича.
…Уютно светит лампа под зеленым абажуром. Тикают часы. Тишина, какой давно не было вокруг него. В Мелихове в январе и феврале шла кампания по переписи населения. Он был «на манер ротного командира» во главе переписчиков Бавыкинской волости. С утра до вечера в гостиной толпились порученцы счетчиков и сами счетчики – помещики, учителя, ветеринары: забирали по счету подписные листы, пачками лежавшие на крышке рояля. Антон Павлович выдавал под роспись каждому счетчику амуницию: папку, опознавательный знак, чернильницу, ручку, пять перьев, карандаш. Он ворчал, бесперечь насмешничал по обыкновению.
Перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, портфели, в которые не лезут переписные листы, впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой о притолоки, и как нарочно голова трещит адски: и мигрень, и инфлуэнца. В одной избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала от того, что всех называют Михайловными, а ее по крестному Львовой. Я сказал: «Называйся Михайловной». Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется приобретать друзей богатством неправедным.
Хлопот было через край. Перепись проводилась впервые. Связь, дороги – убогие. Не доставало то одного, то другого. Приходилось ему вместо алмазной прозы писать казенные бумаги вроде вот этой:
«В Серпуховскую уездную Переписную комиссию. 25 января 1897 г. Мелихово.
Имею честь покорнейше просить выдать для счетчиков Бавыкинской волости 1600 листов формы А-1 и 30 переписных листов для монастыря Давидова Пустынь…»

В мелиховской юдоли печали (он – одинокий мужчина, обремененный нескончаемыми трудами, заботами, обязанностями) Антон Павлович открыл в близком окружении духовные пристани, куда устремлялся при благоприятных обстоятельствах и попутном ветре. В монастырь Давидова Пустынь его тянуло потому, что там он мог испытывать столь желанное для него чувство уединенности от суеты мирской, а в больнице доктора Яковенко его ждала радость общения с коллегами, разговоры с достойным собеседником в лице самого Владимира Ивановича.
Не счесть больных, обращавшихся к нему по разным поводам в январе, феврале и марте. В ту же пору устраивал в губернскую психиатрическую больницу к доктору Яковенко эпилептика Григорьева, опасного для общества больного.
Перепись населения оказалась хлопотным делом. 4 февраля он писал учителю из Новоселок Забавину, счетчику Бавыкинского участка:
«Многоуважаемый Николай Иванович! Напоминаю Вам, что вечер 4-го февраля – это крайний срок для представления переписного материала. Буду ожидать Вас сегодня весь вечер, до 12 часов ночи.
Уважающий Вас
А. Чехов».
С Забавиным на пару он ведет строительство нового здания Новоселковской земской школы. Когда в декабре по большому снегу выбирали, обмеряли шагами площадку под стройку, Антон Павлович вымок, сильно переохладился – отсюда непрерывный изнуряющий кашель, головная боль, то, что доктора в те годы называли инфлуэнцей.

Мелиховский староста Прокофий Симанов, в содружестве с которым Чеховым осуществлялось строительство третьей по счету земской школы.
Это о ней, школе в селе Мелихово, Антон Павлович писал Суворину: “Предполагаются еще постройки в недалеком будущем, и если Вы ничего не будете иметь против, то из Вашего пожертвования я буду выдавать по сто рублей, и таким образом Вы окажете помощь не один, а пятнадцать раз.”
Большие хлопоты были связаны с организацией поездки московских артистов-любителей с благотворительным спектаклем в пользу Новоселок в Серпухов. Сколько это потребовало сил!
Чехов сел за стол и погрузился наконец в чтение корректурных листов. Работе мешал надоедливый кашель. Он встал, сгорбившись, пошел «плевать кровью» к умывальной раковине за ширму, которая стояла справа от входа в гостиничный номер. Приведя себя в порядок, возвратился к письменному столу и сидел за корректурой до глубокой ночи. Благо, никто не мешал.
Его утреннее настроение не было радужным, но умиротворенным, деловым, рабочим. Он еще до завтрака стал гасить московские долги.
Письмо барышни извлечено из-под груды корректурных полос, горой лежащих на подоконнике, и вот уже по листу плотной, высокосортной веленевой бумаги рассыпался бисер чеховского раздельно-слитного почерка: каждая буква на особинку, а в то же время «самостоятельные» буквы сбиты в слова, фразы, обороты речи.
«97.22/III. Большая Московская гостиница, № 5.
Милостивая государыня!
Приехав вчера в Москву, я получил от Вас письмо, в котором Вы выражаете желание прислать мне Ваши рукописи. Я рад служить Вам; рукописи я прочту с удовольствием и искренне выскажу мнение.
А. Чехов».

Таким собранным, волевым, красивым (так и хочется сказать, в расцвете сил, хотя это не секрет, что он буквально надрывался в зиму девяносто шестого – девяносто седьмого годов, и совершал, видимо, свыше ему назначенное из последних сил) Чехов был в канун легочного кризиса весны 1997 года.
Невольные размышления о «видной из себя», в понятии Семена Ильича, барышне напомнили ему о безусловно видной, красивой, статной молодой даме – Лидии Алексеевне Авиловой. С ней Чехова связывают давние писательские (он был для нее старшим товарищем в литературе, чем-то вроде наставника, «домашнего критика») и, можно сказать, приятельские, не более того, отношения. К огорчению Антона Павловича, в последнее время Авилова вознамерилась их приятельство, доверительность двух коллег-писателей перевести в ранг отношений ревнивых возлюбленных, что ли, с непременными обидами, недомолвками, выискиванием оскорбительных нот в корректных, деловых письмах Чехова. Последнее письмо Лидии Алексеевны его всерьез огорчило. Оно содержало обвинение в уклонении от условленных встреч и явные, недопустимые, вроде бы, по правилам хорошего тона претензии замужней женщины к ничем не обязанному ей неженатому мужчине.

Лидия Авилова и Чехов… Долговременные, пятнадцатилетние отношения. Переписка, редкие встречи, постоянная память друг о друге. Им не быть вместе – так встряла в их жизнь судьба. Их диалог сквозь время и расстояния – магнетическое тяготение двух душ, зов горячих сердец в словах и поступках…
В таких случаях в шутку говорят: «Не до шуток». Однако, Антон Павлович против обыкновения, когда ему было особенно тяжко, добродушно шутил, без устали острил, тонко иронизировал. «Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень – несмотря даже на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае»… Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в каком случае: задержать меня может только болезнь».
Зная, что она в Москве, он сообщил, что приедет из Мелихова в понедельник и остановится в Большой Московской гостинице.
И вот изъят из стопки еще один лист веленевой бумаги.
«Я приехал в Москву раньше, чем предполагал. Когда же мы встретимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома!
Не найдете ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к вам? Желаю Вам всего хорошего. Ваш Чехов».
Деловое, корректное и содержанием своим весьма конкретное письмо. Интонация дружественная, доверительная. В дверь заглянул коридорный.
– Не угодно ли что приказать?
Семену Ильичу Чехов вручил два письма:
– Это, голубчик, снесите на Главный телеграф – так ваша барышня велела. Другое, будь столь любезен, Семен Ильич, передай лично в руки Лидии Алексеевне Авиловой. Адрес я написал, кажется, разборчиво.
Не успел след простыть чеховского посыльного, в гостиничный номер, как к себе, вошел высокий, седобородый, сановитый Алексей Сергеевич Суворин.
– Антон Павлович, карета у подъезда, сейчас же отправляемся на съезд российских сценических деятелей. Вас там заждались! Завтра закрытие.
– Не охотник я речи говорить…
– Не хочется говорить, посидим, послушаем. Так сказать, почтим своим присутствием. Съезд проходит в Малом театре – рукой подать.
– А после речей да возгласов – в «Эрмитаж». Там селянка отменная. Известно, соловья баснями не кормят.
У Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже».

Мелихово. Апрель 1897 года.
Чехов испугался этого припадка. «Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что он – желудочный, а во время кровотечения, что оно – геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки».
Войдя в просторный суворинский номер, Антон Павлович в изнеможении повалился на кожаный диван.
– Алексей Сергеевич, отправьте записку к нашему семейному доктору и моему доброму знакомому Николаю Николаевичу Оболонскому.
– Чтобы поскорее прибыл сюда?
Чехов слабо кивнул головой и передал написанное Суворину:
– Ознакомьтесь на всякий случай.
«Приезжайте, голубчик, сегодня в «Славянский базар», № 40, где остановился Суворин. Я заболел.
Ваш А. Чехов».
Какой была первая ночь из двух, проведенных больным в гостиничном номере у Суворина, узнаем из письма Антона Павловича Гольцеву. Чехов не посвящает его в специфику медицинских усилий своих и Оболонского, но о сущности происшедшего говорит без обиняков: «Вчера вечером со мною случился скандал: только что сел обедать, как из легкого пошла кровь, я унял только к утру. И ночевать пришлось не дома».
Домом Чехов считает в московской части своей жизни пятый номер Большой Московской гостиницы. Туда Антон Павлович посылает курьера с запиской к хранителю всех сокровищ и тайн Семену Ильичу Бычкову: «Прошу выдать посыльному все печатные листы, которые лежат у меня в 5-м номере на окне». Несмотря ни на что, надо читать корректуру «Мужиков». Он помнит о просьбе Гольцева: «В понедельник корректуру верни».
В Большую Московскую по получении любезной записки Антона Павловича пришла Авилова. Полное недоумение: вчера она получила от него любезное, исполненное доброжелательства письмо, сегодня записку с приглашением, а его нет, и никто ничего не говорит. Никто не знает, где он.
Некоторое время Авиловой предстояло пребывать в недоумении.
«Где же он? Как мог он забыть о назначенной им же встрече?» – безответно вопрошает Лидия Алексеевна, а Чехов, обретший корректуру «Мужиков», после страшной ночи, когда жизнь его держалась на волоске, лежа на кожаном диване суворинского номера, превозмогая слабость, с привычной увлеченностью читает и правит мелиховскую повесть. Обязательная чистовая отделка прозы всегда совершалась им в корректуре. Он жестко требовал присылки корректуры, ставил это непременным условием передачи рукописи в печать.
Держать корректуру мешало то и дело возобновлявшееся кровотечение из правого легкого. Как он ни аккуратен, но следы крови Гольцев заметил на некоторых листах, когда Чехов передал ему многострадальную повесть со словами: «Прочитал, кое-что поправил». Виктор Александрович в тон ему заметил: «Бог даст, цензуру пройдем без особых потерь…»
О следах крови на корректурных листах редактор распространяться не стал – видел, положение слишком серьезное.
Окончательно кровотечение удалось остановить только к утру воскресенья 23 марта. Можно сказать, это было воскресение из мертвых. И тотчас, в тот же день, Чехов хватается за «обчественные» дела.
«Милый Виктор Александрович, если шехтелевский проект у тебя, то пришли мне его на одни сутки, нужно показать одному богатому человеку». Воистину: «Есть упоение в бою, и мрачной бездны на краю». Суворин договорился о свидании Чехова с Кузьмой Терентьевичем Солдатенковым, московским миллионером, меценатом, именитым коллекционером. 16 февраля 1897 года в редакции «Русской мысли» обсуждался спроектированный Шехтелем по просьбе Антона Павловича Народный театр. Чехов радовался, что проект всем нравится.
Утром 23 марта получив через курьера «Русской мысли» шехтелевский проект, стал готовиться к разговору с Солдатенковым. А вечером в номере «Славянского базара» появился петербургский писатель Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов) – Жан Щеглов в обиходе старых друзей… Чехов для Щеглова на французский лад был Антуаном.
Каким блистательным предстал перед коллегой-писателем Антон Павлович при их встрече! Острил, язвил, иронизировал, разыгрывал комические сценки. Антон-Антуан напомнил тогда Ивану-Жану, как они переполошили чеховскую семью, послав в дом Корнеева на Садовую Кудринскую телеграмму: «Выехали со Щегловым из Петербурга в Москву на лошадях – ожидайте через две недели!» Домашние, представьте, поверили. А еще была с блеском исполнена для обомлевшего Суворина сценка-шутка, как 35 тысяч курьеров из министерства мчались в Москву, чтобы пригласить Антона Чехова в генерал-губернаторы Сахалина. Ай да Чехов! Какая выдержка, какая сила воли, высочайшее достоинство!
Щеглов в тот вечер сделал следующую запись в дневнике: «23 марта. Вечер с Сувориным и Чеховым… Хорошо на душе, как давно не было!» Похоже, Щеглов даже и не постиг того, что Антон Павлович смертельно болен – настолько Антон был хорош, доброжелателен, светел. Да, да. Самообладание. Мужество. Умение в любом положении держаться на людях молодцом.
24 утром, когда Суворин еще спал, Чехов оделся, разбудил конфидента и сказал, что уходит к себе в отель. На уговоры остаться не поддался, ссылаясь на то, что получено много писем, что со многими надо встретиться…
Антон Павлович испытывал неудобство, близкое к нравственному страданию, оттого, что так неловко вышло с Авиловой – наобещал и пропал. Послание к ней, за которое он принялся, с трудом добравшись до Большой Московской, выдержано в тоне иронично оправдательном: «Вот Вам мое преступное curriculum vitae (жизнеописание)… В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и, едва сели за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в «Славянский базар»; доктора; пролежал я более суток – и теперь дома, т. е. в Большой Московской гостинице».
Влюбленная и, как ей казалось, непонятая женщина без промедления отправилась в Большую Московскую, и была вознаграждена редкой в их отношениях теплотою и доверием со стороны больного писателя.
25-го утром, получив из Большой Московской от Чехова записку: «Идет кровь», доктор Оболонский примчался в гостиницу и отвез больного в клинику профессора Остроумова на Девичьем Поле.
В записной книжке Чехова 15 февраля девяносто седьмого года среди других заметок для памяти есть такое суждение: «Вечером был у профессора Остроумова; говорит, что Левитану «не миновать смерти». Сам он болен и, по-видимому, трусит». Чехов и Остроумов со времен учебы на медицинском факультете Московского университета близко знакомы. Клиника Остроумова – лучшее в Москве место для таких больных как я», – подумал Антон Павлович, услышав предложение Оболонского, и не стал ему перечить.

В студенческие годы Чехов слушал лекции Алексея Александровича Остроумова. В феврале девяносто седьмого года вместе с профессором Остроумовым участвует в консилиуме – больной, его друг художник Левитан, долго не протянет. Теперь вот сам Антон Павлович в клинике Остроумова. На сей раз медицина, его “законная жена” отвела великого писателя от роковой черты, от небытия.
Взволнованный, перепуганный Суворин записал в дневнике: «Вчера… в 11-м часу пришел Оболонский и сказал, что у Чехова в 6 часов утра пошла опять кровь горлом, и он отвез его в клинику… Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные… Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река с его кровохарканьем. Несколько дней тому назад он говорил мне:
– Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет, с вешней водой уйду».

Сестра Мария Павловна была в Мелихове и не подозревала о случившемся. На Курском вокзале, по приезде 25 марта в Москву, она, к своему удивлению, увидела брата Ивана. «Обычно меня на вокзале никто не встречал, – вспоминала Мария Павловна. – На этот же раз, почти ночью, меня встретил брат Иван Павлович. У него на руках был маленький конвертик, и, подавая его мне, он сообщил, что Антоша находится в клинике… В клинику никого из посторонних не пускают, в конвертике был пропуск для меня. На другой день утром я была в клинике…»
Чтобы не спровоцировать нового приступа кровотечения, врачи запретили Чехову говорить. Доктор, строго поглядывая на сестру больного, подал Антону Павловичу листик бумаги и карандаш. Он, не вставая с постели, держа бумажку над собой, крупно написал: «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Мария Павловна ушла удрученная, перепуганная.
С 28-го, кажется, дело пошло на поправку. В полдень пришла с прощальным визитом Авилова. Лидия Алексеевна вечером уезжала в Петербург. Она появилась в палате, где лежал Чехов, с букетом цветов.
– Цветы, – тихо произнес Антон Павлович. – Благодарю вас.
Чехов на минуту закрыл глаза. Передохнув, поднял руки с блокнотом и карандашом над собой и написал весьма многословное в его положении и не лишенное чеховского милого юмора послание (Гольцев был в числе немногих избранных приятелей, с кем Антон Павлович был на «ты»):
«Милый Виктор Александрович, пришли мне икры четверть фунта зернистой и полфунта паюсной высший сорт. Сие мне разрешено.
Я просил докторов, чтобы они, буде ты придешь, впустили тебя в мою темницу. Мне легче.
Будь здоров, голубчик…
Мне можно есть сладкое, выпустят меня только к Пасхе».
Почему-то посещение растроганной, умиленной Авиловой (пока он выводил карандашные слова послания к Гольцеву, Лидия Алексеевна то и дело, приподнимая темную вуальку, убирала надушенным батистовым платочком горько-соленую влагу, непроизвольно накапливающуюся в уголках ее глаз) заставило его вспомнить о другой женщине, которая энергией, веселостью, жизнерадостностью своей вот уже семь лет «держала» в поле притяжения весьма разборчивого, не приемлющего никакой фальши Чехова. Елена Михайловна Шаврова вспомнилась ему, как только чуть отлегло», – 26 марта.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































