Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
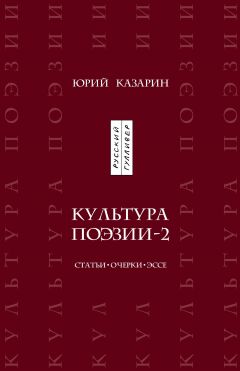
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я знаю этого коршуна
Объём и качество моего одиночества в Каменке определяется небом. Если в городах неба нет совсем, то в деревне оно прижимается к земле. Зимой его больше: зимнее звёздное студёное небо – всё – на земле: в сугробах, в садах, на серебряных заборах, на овчинных крышах, на хрустальных и слюдяных окнах, на тяжелеющих ресницах, на зябнущих плечах. Небо всюду – светом, сверканьем, белизной, высотой и ознобом… Летом – другое дело: небо то отрывается от земли, застревая в деревьях и с трудом отлипая от воды, а то и вовсе утекает вверх – туда, где его главное место, определённое гравитацией, кинетикой, оптикой и нашим мифологическим сознанием. Власть физики и метафизики летом в деревне очевидна. Кто-то или что-то затевает пасмурную погоду – и небо прижато к траве, а вот когда вёдро, небо восходит в свои пределы и сгущается вокруг невидимых дневных звёзд. Если неба много – моё одиночество становится ясным и могучим. Если неба мало – оно возвращается в свои человеческие пределы, тянет душу Бог весть куда, жмёт сердце и гонит слезу – сухую, нутряную, русскую, неизбывную, золотую.
Летом в Каменке я весь во власти сочинительства и рыбалки (а это для меня одно и то же: на мостках с удочками видишь сразу два неба, так и сидишь, зависаешь между ними, прислушиваясь к себе и к мирозданию; так приходят слова, слова вместе с музыкой и ритмом, и с ознобом плечевым). На озеро я иду в темноте, ещё ночью. Пробираюсь кустами и зарослями репейника и крапивы, вознося удочки к небу – не порвать бы лески, не потерять бы поплавки. Добираешься до мостков – мокрый по пояс и весь заляпанный травинками, лепестками, веточками, семенами дикой травы. В темноте, с фонариком в зубах налаживаешь, наживляешь и забрасываешь удочки. Потом куришь, разгоняя дым ладонью: он стоит на месте, как в помещении, нет – просто и прямо в помещении ночи и мирозданья. Тёмный воздух постепенно становится серым. Вот – серое вещество света. Приближающего света. Сначала свет тёмный, потом серый, а затем уже светлый, чтобы стать, наконец, окончательно белым.
С рассветом густеет туман. Плотный. Стелющийся. Клубящийся. Сплошной. Туман лежит (вернее, стоит) на воде – и пошевеливается. В нём образуются длинные узкие ходы, с поворотами, зигзагами и кругами. Кто-то или что-то ходит в нём – сквозь него. По воде. Кто? Что? – Ясно, Кто. В сером веществе света, предсвета, досвета, архесвета можно углядеть фигуру Того. Фигуру Его. Он движется не спеша, но быстро. Так быстро, что кажется, что Он везде. Всюду. Он и есть этот туман. И пустоты в нём – тоже Он. И его коридорами ходит свет: он ещё темнее ярко-влажно-белого тумана. Но – легче его. Воздушнее. Ты чувствуешь власть Его – и над туманом, и светом, и целым Светом: в сумерках утренних земля и небо – одно, неразделимое целое. Вот – счастье; счастье видеть это. Это… Потом Он исчезает – и всегда ровно и точно на середине (в географическом центре) озера. И тогда туман начинает отделять землю от неба. Он собирается в огромные белые шары, которые, отрываясь от воды, становятся облаками. Рождение облака, вознесение его – есть чудо. Кто этого не видел – тот не жил.
Туман – власть. Власть его, что называется, испарилась. Воспарила – и пропала в бесконечности изначального неба. Нет его – и не было. А вот Он, Тот, – был. Такие дела… Становится совсем светло. И над озером появляется коршун. Один и тот же. Десять лет мы смотрим друг на друга, и он мне нравится. Да и я ему не мешаю. Он делает облёт всего овала водного зеркала – и начинает охоту. Чаще – за рыбой, которую выхватывает из воды, как серебряную ложку. Через час-полтора в небе появляется ворона. Она орёт, матерится, истерит, рыдает и нападает на коршуна, который нехотя уворачивается от картавой дуры, но никогда не отвечает ей: он мог бы убить её одним ударом клюва или когтистой лапы. Но он её не убивает. Знает, что это провокация, что сейчас налетит этих тварей штук десять, и тогда придётся туго. Он вежливо и серьёзно выслушивает вороньи мать-перемать и не менее вежливо уходит выше, выше, очень высоко, где власть этой дуры превращается в ничто. Власть – дура. Власть – ничто. Когда у тебя есть запас высоты. Высоты беспредельной и запредельной.
Поэзия – высота. И высота – поэзия. Поэзия и вообще художество. Мой старый приятель как-то пошутил: ты, мол, заметил, что после опустошительных и сокрушительных войн, после эпидемий, мора и глада, – в России (да и в любой другой стране) всегда уцелевают, остаются в живых две социальные группы населения – чиновники и писатели. Хороша оппозиция: бюрократия и сочинители. Косноязычие и словесность. Концеляролект и литературный язык, поэтолект. Чиновники не любят писателей (как и обыватель): они НЕ понимают, Зачем и Почему эти господа пишут, а не наживаются и не наслаждаются жизнью. Здесь и Сейчас.
Население России варваризируется. Визуализация информации. Гибель семантики. Текст превращается в текстоид. Речь убивает мышление – тараторят, и безответственно, все: политики, юмористы, чиновники, писательницы и дикие сочинители, работающие на рынок, на обывателя, на пошлость. От любой информации остаётся только шелуха: мнимая фактология и гламурные эмоции. Пошлость разрастается, поляризуется (от быдла до Кс. Собчак), атомизируется, крепчает в каждом человеке, в каждой семье, в каждой корпорации. Теперь все институции – суть корпорации. А корпоративный интерес – это деньги. Просто деньги. Бумажки. Власть. Недомышление масс порождает духовные пустоты, в которых усиливается гравитация зверя: недомышленники (всюду: в жизни, в судьбе и даже в поэзии, в художестве), варвары НЕ думают – они фиксируют (визуально) всё на свете, просматривают. Российское человечество разделилось на две группы дикарей: для одних думать – это горе (от ума), наслаждение и основа / суть существования; для других – НЕ думать есть их конститутивное качество; ловчить, креативить, хитрить, денежки добывать, жульничать etc. Первые сидят по кухням, литобъединениям, в творческих союзах (которые, правда, приказывают долго жить), в универах, на кафедрах, в редакциях и в дешёвых кафе – думу думают: как бы так уцепиться за вечность и всё такое. Вторые считают себя хозяевами жизни. Любой жизни. Первые не замечают вторых. Вторые презирают и ненавидят первых. (Так и не удалось мне, бывшему «главному писателю» Екб, объяснить чиновникам, что есть литература, кто суть писатели, зачем нужны книги: все как один и в один голос вопрошали – риторически: плохо вам, сочинителям? – Все увещевали: затолкайте свою литературу в шоу-бизнес – вот и деньги появятся…). И все, все до одного, тянутся к власти. И протестующие (хоть камнем – но дотянуться, пощупать её, ощутить, приобщиться), и возлюбившие власть (любую: дэнги давай, дэнги!). А художник парит себе промеж небес – верхним и отражённым водою нижним – и лениво уворачивается от ворон, и легко, играючи преодолевает гравитацию зверя. И уходит в свою высоту.
Художник знает иную Власть. Власть неизведанного и познаваемо-непознаваемого.
АРИОСТ
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной – кузнечик мускулистый,
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.
Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый,
И прямо на луну взлетает враль плечистый.
Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А на дворе у рыб ученый был советник.
О город ящериц, в котором нет души, —
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала —
И солнце рыжего ума взошло в глуши.
Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И свежей, как заря, удивлены утрате…
4–6 мая 1933 – июнь 1935Стихотворение О. Мандельштама
Я сижу над водой и над небом, над плёночкой его, обтянувшей озеро, каждую его водяную неровность и заводь. Нижнее небо толкает меня в лицо, поднимает его к небу верхнему, где коршун нарезает свои круги своего воздуха. Я знаю этого коршуна. И он знает меня.
Не зарывай
Несколько лет я работал за границей: преподавал практический русский язык в одном из университетов Индии. Студенты были разные: бакалавры, магистры, аспиранты и аутсайдеры – офицеры, инженеры, имевшие дело с российской техникой и советским оружием, а также просто люди, влюблённые в русскую литературу и культуру. Кроме обязательных по программе занятий, я проводил что-то вроде семинаров, в семейной обстановке, расслабившись, мы читали вслух (по просьбе студентов) Толстого, Чехова, Пушкина (Достоевского я не любил и не люблю), Бунина, Куприна, Лермонтова, Цветаеву, Пастернака, Юрия Казакова и Мандельштама. Ещё мы переводили на хинди и малаялам (дравидийская языковая семья, язык южного штата Керала) русские стихи – и прозой, и в рифму. Переводили так: сначала на английский (язык-посредник), а потом уже на коренной язык. Мне кажется, я нравился студентам (белокожий, бородатый, большой) и не нравился администрации («коммунист»), которая мне улыбалась и обласкивала меня, тем не менее: я приносил университету немалый доход. Моя завкафедрой и её муж учились когда-то в Москве, в МГУ и в Университете дружбы народов. Общались мы на русском языке, но я иногда позволял себе переходить на малаялам (варварский, разговорный, приблизительный), и им это очень нравилось.
Моя начальница любила показывать меня местной, столичной и приезжей, из других стран, интеллигенции: вот, мол, русский мужик, визитинг-профессор, спортсмен, классный теннисист (second – seeded в их универе + ещё 104 колледжа). Правда, перед такими party и session она постоянно и не по разу просила меня: «Юра, не говори им, никому, что ты пишешь стихи: здесь это считается несерьёзным занятием, верхом легкомысленности и латентным бунтарством». И я скрывал своё основное занятие, прикидываясь рафинированным интеллектуалом, спортсменом и мужем красивой жены, к тому же полиглотки: английский, французский, немецкий, итальянский – всего понемножку. Однако внутренне я негодовал, психовал, отчаивался: хотелось говорить – с кем угодно – о стихах, о литературе, о словесности, о культуре поэзии etc.
В Нью-Дели перед отъездом на юг страны меня вызвали к послу. Я пришёл. С ним в приёмной сидел за отдельным столом дядька в чёрном костюме (таких на флоте звали «молчи-молчи»), он изучал, видимо, моё досье. Посол беседовал со мной. Всё было ровненько и прилично до вопроса: Ваше хобби? Ну, говорю, рыбалка, спорт… да, ещё я пишу стихи и даже изредка их публикую. «Где?» – неожиданно спросил в чёрном. «В СССР», – ответил я. «Всё. Вопросов нет», – резюмировал чёрный. И – меня не завербовали, как некоторых иных преподавателей, отъезжающих в индийские университетские центры. Стихи меня спасли. От разведработы. Благодарю тебя, Господи, за то, что явил меня графоманом, стихолюбцем и сочинителем!
И вот первый отпуск. Мой друг, родившийся в Абхазии (мать – украинка, отец – эстонец), был абсолютно русским человеком. Он был проездом в Свердловске (это середина 80-х), и мы отправились в ресторан. (Когда я ехал из Шереметьево на такси с делийского самолёта в Москву, я заметил странную вывеску над каким-то заведением «Пектопах». Потом попалась ещё одна. Ещё. На четвёртой я сообразил, что читаю русское слово «ресторан» в ложноанглийской литерации – PECKTOPAH. Такие дела.) В ресторане мы крепко посидели. Метрдотель был армянином, и мой товарищ быстро подружился с ним, разговаривая с ним только по-армянски. К полуночи, когда в Централке («Центральный ресторан» или ресторан «Центральный»?) все уже изрядно выпили и расшумелись, Peter (так кличет его отец-эстонец) что-то сказал метрдотелю, и тот с микрофоном обратился к публике: мол, среди нас есть поэт, и он сейчас прочтёт своё стихотворение; тихо, мол, товарищи, давайте послушаем (я читал Peterý стихи, привезённые из Индии, и одно ему шибко понравилось). Официанты соорудили из двух столиков высокий постамент, меня буквально под руки водрузили на него, и я прочёл в мёртвой моментально протрезвевшей тишине:
В этом доме был вчера покойник.
Окна – настежь, комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.
Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугунке.
Спит в саду зареванный мальчишка
с яблоком надкушенным в руке.
Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.
Слишком высоко они летают —
мальчики туда не долетят.
Тишина длилась ещё с минуту. А потом… В общем, окончания праздника я не помню.
В России в те поры (и до двухтысячных) меня всегда и всюду представляли так: Ю. В. Казарин, доцент (потом профессор), член СП СССР (потом СПР), поэт. Недоумения или разочарования в глазах новознакомцев я не замечал вплоть до двухтысячных годов новой эры посткнижной и тотально денежной русской цивилизации…
Словесность, филология, вообще гуманитарная деятельность сегодня в России не поощряются. Более того – вся гуманитарная сфера образования, науки и проч. редуцируется (мягко сказано), – нет: вы-тап-ты-ва-ет-ся. Кем? Чиновничеством.
Университеты отныне лишены права на самоуправление и свободные выборы руководящего состава учебного заведения (выборы вообще отменены: ректор, деканы и проч. назначаются). Даже добрейший В. И. Ленин не решился на такой акт. Университеты сегодня ранжированы на основе экономического принципа, что означает следующее: классическим университетам – конец (и фундаментальной науке тоже), а вот коммерческим вузам (и специальностям, например: «Сервис и туризм», – и этой ерунде нужно учиться 4–6 лет!) – все преференции. В дичающий стране уничтожить гуманитарную сферу науки – значит довести народонаселение (чиновничье словцо) до полной, крайней и окончательной этико-эстетической дикости.
Переход от специалитета к бакалавриату и магистратуре не должен проводиться Минобром! Минобр и ВАК следует закрыть.
Нужны новые формы управления (уж коли мы следуем Западу во всём): UGC, университетская главная комиссия (комитет), он и будет регулировать школьное и вузовское образование. Попытка захвата РАН чиновниками продолжается. Думаю, бюрократ победит. (Почему-то наши госслужащие очень богаты, они имеют двойное [тройное и т. д.] гражданство, а их дети обучаются в оксфордах; все это знают; все, кроме Генпрокуратуры, которая всё узнаёт последней). Тотальная коррупция в России привела чиновников к необходимости осуществления «петляющего креатива», т. е. запутывания, замутнения сознания нации чудовищно невежественным отношением ко всему интеллектуальному и духовному, т. н. реформами и нововведениями вроде ЕГЭ, доживания (пенсионеров «старого образца»), оптимизации, укрупнения, секвестирования и т. п. Деятельность бюрократии заключается в уничтожении непонятной и враждебной ей культуры и в перелопачивании ошмётков реальной деятельности институций, существующих 300–400 лет…
Я вернулся из Индии в 1987 г. В стране припахивало разрухой. Экономической. Сегодня в стране назревает разруха интеллектуальная и духовная. Природная нравственность фундаментальной – вне прагматики и прикладываемости («прикладной») – науки попрана. Образование сведено к заучиванию речевых шаблонов и порядка нажатия кнопок (тестирование – это следствие не только «моды» и ориентации на Запад, но и болезненной зависимости всех от компьютерных программ, игр и технологий вообще). Искусство утрамбовано в шоу-бизнес. Культура рассечена на субкультурки. Человек превратился в потребительскую машинку…
А тогда, в 80-х, я вернулся из отпуска в свой индийский университет и отправился к проректору просить машину для того, чтобы съездить в полицию (40 км от Campusá). Говорю ему, мол, я need a car to go to Police. Произношение моё было плоховатое, с редукцией и чередованием безударных гласных, поэтому произнёс я [пали́с], вместо [поли́с]. Дравидийцы почти не различают звуки [л] и [р], поэтому проректор услышал не Police, а Paris. Но машину дал. До Бомбея (ныне Мумбаи), а там на пароме до Марселя, от Марселя до вожделенного Парижа опять на университетской машине и т. д… Мы долго смеялись с ним над нашим межъязыковым казусом. Но! Машину до Парижа он давал! А у нас и на издание монографии не давали, не дают и теперь уже точно никогда не дадут.
Я не узнаю свою страну. Россию. Кто я? Чужак? Или чужие те, кто делает из неё чиновничьи штаты страны? ЧШС. Не знаю.
Тоскую. И пою. Пою романсы Дениса Новикова.
РОМАНС
Презрительным рассмейся смехом
и надо мной, и надо мной,
как над каким-нибудь чучмеком;
езжай домой, скажи, домой.
Во мне священного таланта
не признавай, не признавай,
не убивай меня – и ладно;
не зарывай, не зарывай.
Крупнее жизни
Всё чаще мне кажется, нет – я чувствую, что я умер. Всё, что со мной происходит, – это не жизнь, это нечто иное: то ли большее, то ли меньшее. Не знаю. Жизнь проживает не столько меня, сколько себя саму. Она теплеет и холодает уже как бы и не здесь, а там, где свет иной, ещё (или уже?) неотделимый от тьмы. Тот свет? Не думаю. Он слишком крупный, чтобы быть мифологически обоснованной реальностью. Это иная реальность – безумная, бескнижная и хоровая. Даже государство норовит потоптать («оптимизировать») то пространство, куда слетаются книги. Сходятся и сползаются – чтобы их прочитали не на раз и поняли. Чтобы о них написали другие книги – книги книг, которые являются потомками первых великих Книг (Веды, Тора, Библия, Четвероевангелие, Коран, – ну и, скажем, «Война и мир [мiръ]». В каждой книге мерцает и посверкивает, бликует книга книг и ещё – Архекнига. Вселенная – Архекнига. Галактика – Книга Книг. Планетарная система – Книга. Мир – это книга книг, и всё в нём – книга. И дерево, листаемое ветром, и вода, перелистываемая ветром, камнем и горой, и воздух, читаемый светом и тьмой, и человек, прочитываемый природой, и человек, читающийся человеком, и зверь, прочитанный небом и землёй, и земля, переплетённая небом, и небо, написанное Землей, Им Самим и Человеком, и пустота, истекающая всеобщим алфавитом, и Буква, явленная прозрением, отчаяньем и любовью.
Всё это, познаваемо-непознаваемое, читаное-непрочитанное, – ныне проходит, проживает и умирает мимо человека. Человека – играющего и алчущего. Человека, погрязшего в нищете и в излишестве. Бедность и Роскошь – сёстры. Сёстры-близнецы, раздирающие книгу жизни на две половины – по обложкам: передняя достаётся роскоши, задняя – бедности. Человек назвал себя гордо человечеством, которое незаметно для себя переименовал в цивилизацию. Цивилизацию, производящую утюги и оружие. Homo. Humanis. Гуманизм.
Гуманный. Гуманитарный. Т. е. – человеческий и человечный. Гуманитарная сфера человечества – мизерна. Россия, обнюхавшись нефти и природного газа, решила присоединиться к Европе и остальному миру («гуманному», см. «Декларацию прав человека», то бишь дельца: США ещё в 1950-х годах [да и ныне] не считали [и не – ют] цветных за людей; сегрегация, Чайна-Таун, Гарлем, Бруклин etc.), – присоединиться, нанюхавшись халявы, к цивилизованному миру, вытаптывая гуманитарную сферу (ядерную! центральную! сердцевинную! сердечную!) культуры, науки, образования, медицины и проч. Филология – основа всех наук, т. к. любая наука – это Слово, а филология – наука о Слове. О том Слове, которое было в начале, будет в конце и после конца. Которое было, есть и будет всегда.
Одичание, нелюбопытство, презрение к познанию (и к познаваемому), леность разума и души, когнитивное безумие и бездумье – вот черты, качества и свойства расчеловечивания. Рационально и прагматически (потребительски) обоснованное и добровольное слабоумие миллионов пользователей всего на свете уже не пугает, т. к. ты понимаешь: это уже иной свет, другая жизнь, проживающая не человека, его разум, сердце и душу, а – саму себя. Жизнь проживает жизнь. Всю. Без остатка. Что остаётся от неё? – Утюги и оружие, обращающиеся во прах. После такой жизни книг не остаётся. Памяти не остаётся. Традиции. А значит – культуры. Мы живём в посткультурном обществе.
Есть такая хорошая здоровая болезнь Горе-от-ума. Нынешнее слабоумие подслащивает всё: и горькую нефть, и вонючий газ (труба одна, а народу много: один из трубных заводов Урала понавтыкал огромные щиты вдоль трассы Москва-Восток: Всем Труба; хар-роший юмор у трубопрокатчиков!). Компьютер, интернет и ТВ делают из глазеющего в экран-монитор – слепого: картинки движутся, объёмизируются (3D), тексты просматриваются, но в книгу не складываются. И всё это визуальное роскошество – цветное. Думаю, что нынче среди молодых и здоровых дальтоников нет.
Несколько лет назад со мной случилось несчастье. Беда: смерти близких, предательство и проч. Я впал в трёхлетнее отчаянье. И я перестал видеть и воображать мир – цветным. Колористика во мне умерла. Два года я не видел цвета. Не внимал их и им.
Я видел мир чёрно-белым. Закрывал глаза, пытаясь представить озеро (голубое), небо (синее), траву и лес (зелёные), цветы (красные, синие, фиолетовые, жёлтые, золотые), – не получалось. Отчаянье моё крепло. Разрасталось. Я понимал, что уже упираюсь всем телом в непрочную оболочку безумия: это такой прозрачный шар с прозрачным белком по краю и с оранжево-алым ядром… Меня спасли Мандельштам, Рильке, Фрост, Седакова, Данте и Целан. Пробовал в те поры читать Поплавского – ржал. Ржал и рыдал над автоматическими стихами, пропахшими дурью (кокаин? морфин?). Осип Эмильевич плакал со мной.
Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питьё, —
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно моё.
март 1937
Поэзия вернула мне колористические возможности моего зрения. Я радугой прозрел.
25 лет я прожил в Екатеринбурге на улице имени международного Дня Женщины, Дня Весны, Дня Узаконенного Гендерного Пьянства. Напротив моего дома, как раз через эту славную улицу с трамваями и другим нерельсовым транспортом, стояла девятиэтажка (брежневка) о двух подъездах с тыльной стороны здания, серого, в потёках, унылого и без лица (у дома должно быть лицо!). Общежитие. Общага. Постоялый двор работниц медицины низшего и среднего звена (сегодня там живут выходцы из Закавказья и Средней Азии). Шли девяностые годы, серые, мрачные, пустые, с ваучерами и вездесущим Ельциным, по доброте душевной раздававшим суверенитеты, ваучеры, страну. Так и помню начало девяностых – серое. Всё серое. Работал я в университете, где – так уж вышло, мне пять дней в неделю поставили вторую пару (начало занятий в 10.40). Так что вставал я с дивана не в 6.30., а в 8.00. Пил кофе и курил у окна в своей набитой книгами комнатке, обозревая с седьмого этажа улицу женщин, весны и гендерного пьянства. И вот однажды, ровно в 9.00, как-то обратил внимание на мужичка, который именно в это время выходил на балкончик блочной системы комнат, стелил на балконной палубе (седьмой этаж, то бишь выходило аккурат ви-за-ви) газетку, снимал штаны и становился над неизвестным печатным СМИ на корточки – и справлял быстро, но не суетливо – большую биологическую нужду. Затем он поднимался с корточек, натягивал штаны, сворачивал – осторожно – газету и бросал её вниз, в газончик, в садочек, в палисадничек, от которых до главной женского дня дороги было метров 40. Думаю, что никто, кроме меня, этого интимного акта не заметил и не видел. На третье-четвёртое утро я вооружил глаза биноклем и рассмотрел этого дядьку, так негативно относившегося к современному ему месту, времени и миру в целом. Лет сорока. Мелкий мужичонка. Тщедушный. Весь в портачках. Майка драная (октябрь месяц на дворе!), треники рваные, морда алкогольно зависимая, глаза глубоко занырнули в череп, давно не стриженный… Почему он это делает так и на балконе? Закрыт в комнате? Нет возможности добраться до туалета, до умывальника? Ломка на сухую? Беглый? В розыске? Чья-то любовь ТАК его уберегает от вина, иглы, полиции, дружков, подельников, кредиторов? Вот это – любовь! Задощипательная (температуры за дверью балконной нулевые, с минусом и первым жёстким снежком). Бедняга… Как тут – помочь? Безработица. Самому жрать нечего (дружок мой Саша, ныне покойный, Царство ему Небесное и Вечная Память, время от времени таскает в мой дом колбасу, сыр и консервы – сын у меня подрастает). И расплакался я. Как баба. Как пацан. Интеллигент хренов. (Потом я таких дядек, тётек, девок и парней видел десятками тысяч в пригородах нашего мегаполиса, в промзонах, в посёлках, в сёлах, в деревнях – ваучеры как-то не помогли, что ли?).
В те постреволюционно-капиталистичекие холодные зимы люди («алкаши» и бездомные) гибли сотнями, а может быть, и тысячами: подъезды все заперты на железные двери, странноприимных домов нет (и до сих пор – нет), больнички перенабиты (с коридорами и лестничными маршами) стариками, онкологическими, наркоманами и просто по-честному больными. Вот когда это всё началось. Народ наш во второй раз (после Ленина – Сталина) лишили чести и достоинства. Вот он ныне и отрывается – на иномарках (остановки с детьми и женщинами сносит), на яхтах, на пляжах. Расчеловечиться легко. Очеловечиться – почти невозможно.
Больно и страшно смотреть на людей, разбирающих помойки в поисках еды. Невыносимо больно думать о том, что осталось от школы (всё: читать-писать умеют единицы), невозможно смотреть на разрушаемые вузы, на классический университет, распиленный на институты, страшно смотреть на разрушение и обветшание фундаментальной науки (не-прикладной и бесполезной, нецелесообразной с точки зрения власти).
Я умер? Да. Я – умирал. Но… Я выжил? Я живу. В своём книжном мире, да? Такой вот придурок, не пожелавший (и при-родно к этому неприспособленный) заниматься чёрным риелторством, скупкой ваучеров, разорением рабочих посёлков и промышленных городов-городков; побрезговавший стать членом партий и чиновником. Да, я жив. Нас, таких, как я, осталось немного. Скоро мы действительно умрём. Вымрем («период доживания» пенсионеров и интеллигентов – короток). И вот тогда…
А пока мы живы… Пока мы живы – жив мир. Мир подлинно человеческий и божественный. Господи! Благодарю Тебя за Осипа Мандельштама. Он, вслед за Тобой, знал всё.
Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! —
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски…
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!
19 марта 1937
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































