Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
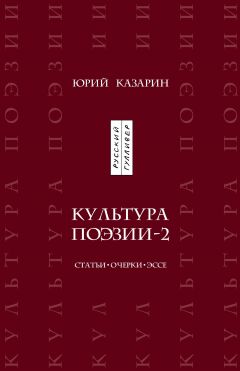
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
До пятой музыки
В детстве я был взрослым. Не то, чтобы я чурался детей, – просто говорить с ними было не о чем. Впрочем, вру: с Гришей, деревенским парнишкой из большой татарской семьи, мы рыбачили всегда вместе и, естественно, говорили только о рыбалке, о снастях, о рыбе и о водоёмах. Обычно я забегал к Якубовым и спрашивал у тёти Зои: – Гриша дома? – Зоя оторопевала, отрываясь от нескончаемых дел, и, помолчав, подумав, отвечала: – Да дня три его уже не видела… И ещё столько бы, – добавляла она, улыбаясь загадочной улыбкой кочевницы. Говорил я мало: во-первых, я был совершеннейший заика, немтырь; а во-вторых, боялся, что попытки моего говорения вызовут смех и неминуемые дразнилки. И я молчал. Я был взрослым (уже лет с трёх-четырёх), и я молчал. Взрослое детство моё распадалось на две части, параллельные, альтернативные и несовместимые (и никакой Лобачевский здесь не поможет) – на детство городское и деревенское. Полгода я жил в городе, где молчал, особенно в школе: все задания-ответы были для меня письменными; и полгода (каникулы – все болезни и выходные дни – все) я проводил в деревне у деда с бабушкой. Разговаривать я мог только с бабушкой – без напряжения и стыда. Она была неграмотная (ни читать, ни писать) крестьянка, на которой женился сын помещика (мой дед) после рождения в 1930 г. моей матери… Итак, я молчал. Молчал. Молчал. До тех пор, пока не заметил, что я постоянно говорю – в себя. Внутри себя. Во мне. И днём. И ночью. И во сне. И наяву. Я говорил в себя – но не с собой. С кем? С чем?.. Однажды дед красил полы в доме. Масляной краской, которая пахла небом, иконой, воздухом иным. Я наблюдал за тем, как дед ласкает половицы – любовно и крепко – кистью. И я чувствовал, а иногда и слышал, как доски шепчут: хо-ро-шо-хо-ро-шшшо!.. Я вышел из комнат в кухню (мне было лет 5) попить воды. И вдруг… Вдруг услышал, как кто-то или что-то шепнуло в меня: – И я хочу. И я. Покрась меня, а?.. Я обомлел, но не испугался. Огляделся. И понял – говорил табурет. Старый. Обшарпанный. Самодельный. С дыркой для пальца (для переноски) посередине сиденья. Я отвернулся. Посмотрел в окно. На всякий случай перекрестился. И – понял, осознал, с кем и с чем я говорю-разговариваю, кто и что мне говорит в меня… Вещи, дома, заборы, деревья, птицы, трава, зверьё, кусты, вода, особенно когда она гладкая или когда бежит сверху вниз, свиваясь, сплетаясь в цепочку, которая ловко укладывается в любой сосуд – доверху, всклень. Всё, вся и все говорили не со мной, но в меня. И я отвечал им не в них, а – в меня. Весь мир, и я вместе с ним, говорил в меня.
Не знаю, почему, но мне и сегодня всё это не кажется сумасшествием. Безумием. Так вышло. Ничего не поделаешь… Пельмень кричит, когда его ешь? Вода стонет, когда её рвёшь веслом или ведром? Трава рыдает, когда её косишь? Дерево вопит, когда его рубят? Да. Именно так.
Сегодня понимаю, как начинается музыка. Так, как у меня 50 лет назад? Это у меня – так. У других, возможно, всё происходит по-другому.
Ребёнок находится в состоянии трансгрессии (по М. Фуко, художник, заступив в метафизические сферы, создаёт в пустоте Нечто из Ничего), когда стереотипичность (мышления и говорения) не сдерживает архетипичность миропонимания и миро-строения. Метаэмоция жизни, смерти и любви подавляет любую возможность эмоциональной энтропии, эмоционального эксгибиционизма и вообще гламуризации, стандартизации эмоций. Не отдавайте детей в школу!
Коллективно можно изучать только математику, физику и химию (хотя с физикой не так всё просто). Остальные предметы суть части словесности. Остальные предметы – интимны. Всё коллективное в детстве – это начало известных и неотвязных социальных болезней, когда коллективный человек (а ныне – корпоративный) неизбежно становится шопоголиком, киноголиком, интернетоголиком, клубоголиком, алкоголиком etc. Гуманитарно-словесные циклы дисциплин – антропоцентричны. Мироцентричны. Духоцентричны. Поэтому сегодняшнее уничтожение (или масштабная и тотальная – редукция) гуманитарной сферы науки и образования направлено прежде всего и прямо против человека. Человека как такового. Человек – ребёнок. И он одинок. Всегда одинок в своём душевном существовании. Душевное, духовное всегда словесно. Всегда звучит в человеке. Звучит. Слово звучит – в уме, в сердце, в душе. Как музыка. Слово есть музыка. Я постоянно ощущаю наличие двух «музык»: музыки физической (звучащей во мне) и музыки метафизической (звучащей в меня и звучащей мной). Вторая музыка – онтологична, духовна, объективна и божественна.
На всякий страх есть сосны у реки,
полёт шмеля, исполненный лучами —
всё прочее возьми и отсеки
от сказанного нами.
Пусть голос лишь себя, себя возьмёт
из множества молчаний о пропетом —
над бездной, в нужной музыке без нот
себя сыграет светом.
Держась за звук, протянутый до нас,
не устрашись, о музыка в июле,
ни скрипа сосен, ни обрыва фраз
в шмелином чистом гуле.
Побудут нами берег и река,
пока полёт продлится ниоткуда,
пока полоска тёмная легка
летящему отсюда.
Стихотворение Алексея Порвина – как раз о музыке. О такой музыке, которая есть и свет, и тьма, и жизнь, и смерть, и любовь, и мир, и Бог. Поэт здесь эксплицирует знаки метамузыки. Метаэмоции, метаобразы и метасмыслы приближают нас к метамузыке, к музыке главной, к музыке, слышной не всем и не всякому.
Я крашу табурет. Выпросил у деда кисть и крашу табурет. Крашу табурет – и ему хорошо. Он молодеет. Он постанывает и даже всхлипывает от счастья. Боже, он – балдеет. Как мальчишка (из моего детства), надевающий новые кеды…
Потом я научился выбирать собеседника. Собеседников – так точнее. Ими стали вода (рыбачу с пяти лет), огонь (костёр, печь, камин), небо (от нижнего, исподнего до жирного от звёзд и пустоты), земля (особенно глина, из которой я лепил всё на свете до тех пор, пока пьяный мой папа не сокрушил всю эту мою «выставку херни»), воздух, из которого состоит всё на свете – от воды до звёзд. Думаю, что словесник, художник должен сначала духовно, ментально и эмоционально освоить эти стихии, эти метапредметы и метавещества перед тем, как начинать прикасаться к архевеществу, к археквантам («частицам, клеткам Бога»), прежде чем не имитировать вербально, но вербализовать метасмыслы. Архесмыслы. Божественные смыслы.
РЕКА – ОБЛАКА
Ресница твоя поплывёт по реке,
и с волосом вьюн,
и кровь заиграет в пожухлом венке —
и станешь ты юн.
И станешь ты гол как сокол, как щегол,
как прутья и жердь,
как плотской любви откровенный глагол
идущих на смерть.
И станешь ты сух, как для детских ладош
кора старика,
и дважды в одну, как в рекламе, войдёшь —
и стерпит река.
И стерпит земля, небо, вода, воздух и огонь – тебя. Вот о чём здесь говорит Денис Новиков. И ты – стерпишь этот мир, как терпит и стерпливает его мир иной, уже посетивший тебя и говорящий – в тебя.
Человек – универсален. Если он способен существовать в контексте природы и в контексте общества одновременно. В контексте природы все равны. Все разные, но – равные. В контексте природы предметно-личностная валентность отсутствует. В обществе такая валентность лежит в основе прежде всего множественной сегрегации: сегрегации социальной, экономической, политической, а главное – этико-эстетической, когда валентность толпы погашает в человеке универсальность. Созревание слуха, зрения, голоса и т. д. Стереотип убивает стереоскопичность разума, сердца и души. Недавно в одном из интервью меня спросили: вот, мол, город выделил 5–6 млн. руб. приглашённому на День Города Киркорову, – а кого бы Вы пригласили? – Отвечаю: – Земфиру. Кто-то и что-то (Нечто) поёт в неё – и мы слышим Вторую Музыку.
Есть ли третья, четвёртая и т. д. музыка? Наверно, есть. Поэты не регламентированы набором нот, давлением стиля и моды. Они могут расслышать и пятую музыку. Музыку, звучащую в поэта. Как много музык в Боратынском, в Пушкине, в Тютчеве, в Мандельштаме, в Ахматовой, в Заболоцком, в Седаковой! Поэт – сам – музыка.
играли себе, собирали цветы.
это было в начале.
названия возникали из пустоты
и пустоту означали.
пониманье как смерть приходило ко мне.
я ложился в траву, безымянный.
голова подключалась к земле,
становилась легкой и пьяной.
и опять мы играли, и нас, дураков,
прибавлялось.
дул бессмысленный ветерок,
пустота повторялась.
сколько наших костей, сколько лет.
не собрать. собираю.
я смотрю на закат – как на фотопортрет.
узнаю. забываю.
Стихи Владимира Беляева – стон, исходящий из поэта, в которого говорит та самая, Вторая Музыка. Иная. Подлинная. Первоосновная. Главнопричинная. Архевещество Вселенной. Проникающие в жизнь «частицы Бога», первокванты, архекванты души и тела…
Табурет стал новым. Я вышел на крыльцо и сказал в себя: пора на рыбалку. Самодельная удочка (удилище сосновое, тонкое, крепкое, дешёвая леска и перьевой, тоже самодельный поплавок, крючок № 4 и т. п.) хранилась на поленнице дров, на огороде (или «огородчике», т. к. главный огород – 12 соток картошки – отстоял в стороне, в паре вёрст отсюда); там же, на дровах, стояли алюминиевый бидончик и пустая консервная банка для червей. Я зашёл на огород и увидел кота Васю, чёрного, немножко сивого уже от старости. Он услышал моё «Пора на рыбалку» и ждал, чтобы сопроводить меня до озера, чтобы присесть на травку в сторонке, куда я иногда бросал ему пескарика. Вася всегда ходил на озеро со мной: он шёл впереди, не оглядываясь, но повернув уши назад – ко мне. Он шёл и приговаривал время от времени: – Про рыбку-то не забудь, парень, да?.. Я накопал, точнее – копнул червей – и пошёл за Васькой в гору, за ограду, к озеру, замирая от счастья предстоящего одиночества, когда вода смотрит неотрывно в тебя, а небо в тебя говорит.
2014
Война в войне
Россия – страна телескопическая (как, наверное, и другие страны – государства). Множественная природа РФ (и СССР, и РСФСР, и Российской Империи тоже) очевидна не только в экономическом, политическом и вообще социальном отношении, но и прежде всего – в культурной сфере. Утверждаю: ядро русской / российской культуры (словесность, искусство и фундаментальная наука) всегда существовало и функционировало в подпольном, полузапрещенном или – чаще – в запрещенном виде. Именно «виде», а не «форме»: форма, например, написанной и пишущейся в стол литературы отсутствует – её не печатают, не публикуют, не изучают, – всё это – обретение книжной формы, происходило и происходит постфактум. От протопопа Аввакума до Н. И. Новикова (первого свободного русского журналиста 18 в.), до А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова («Горе от ума» было опубликовано более чем через полвека после смерти своего автора – драма / комедия в стихах стала первым массовым образом русского / российского самиздата), до Д. В. Давыдова (гусара, партизана, кавалерийского полковника и баснописца), до прозы О. Э. Мандельштама, до А. И. Солженицына. Именно с книжкой последнего я чуть было не погорел. Чуть было не «спалился». Бродского, вообще поэзию и в том числе серебряного и начала свинцового века, Булгакова, Платонова и др. мы читали тайком (и это было не так уж и давно: в семидесятые годы 20 в.!), передавая друг другу перепечатки текстов на папиросной (чаще) бумаге (седьмой экземпляр из пишущей машинки был уже размылен, но всё ещё «читабелен»). Однажды Дима В. (в обмен на «папиросные» стихи Мандельштама) дал мне почитать (на сутки – это было по-божески, как правило, давали читать такие вещи «на ночь») «Ивана Денисовича» Солженицына, книгу запрещённую и изъятую из всех библиотек в издании серии «Роман-газета». Шёл 1976 год. Я – студент филфака, первокурсник (это ещё до Игоря Сахновского, который присоединился к нам на втором курсе и с которым мы 4 года просидели за одной партой). Читал я «Денисыча» прямо на «парах», на лекциях, держа книгу (точнее, журнал) и пряча её в минуты шухера – опасности в парту – в отделение для портфелей (в те поры в рюкзаках носили картошку или ходили с ними в походы и на рыбалку-охоту). Так и шло: читаю – не читаю, хоронюсь, а книжка ходит туда-сюда с колен в парту и обратно. Когда «Денисыч» нырнул в стол очередной раз, – прозвенел звонок. Я вышел со всеми из аудитории (а. 417 на философском) – и забыл-оставил-проворонил «запрещёнку» в парте. Вспомнил я о «Денисыче» только дома, на Уралмаше, в полночь… Господибожетымой! Я – попал. Или – «влетел», «опарафинился». Книгу найдут или уже нашли (второе – очевиднее и вероятнее). Вычислят факультет, курс и группу по расписанию. Опросят – допросят. Конечно, признаюсь. Скажу, книга моя, от деда досталась. И – меня тихо или громко вытурят из универа. И пойду я, властью палимый, к такой-то матери…
Ночью не спал. Отгонял видения: комитет ВЛКСМ, партком УрГУ, ну и просто Комитет. Волчий билет… Бедная моя мама! Она с ума сойдет: и в армии у меня было не всё гладко, не шероховато, а разухабисто и горячо, и в университете («в институте», как говорила мать) – дело швах. Вах! – везучий я, да?..
Утром в 7.00 (за 2 часа до занятий) я был «под колоннами» – у огромных дверей, барских дверей в храм науки и в мой ад. Я постучал. Я позвонил. Открыл Миша, ночной безумный сторожака. Как-то я дал ему рубль – он был невероятно беден и несчастен. И он меня помнил. И – впустил. Через 40 секунд я был на четвёртом этаже в 417 аудитории. «Денисович» был на месте. Одна ночь Ивана Денисовича прошла спокойно для него и спасительно для меня. Такие дела.
Так мы жили. Так и живём. Политическая цензура сменилась цензурой рынка.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
О. Мандельштам погиб из-за этого стихотворения. Он погибал долго – пять лет. Нынче времена иные – «вегетарианские», как говаривала А. Ахматова. Но к цензуре рынка сегодня приросла цензура иная: цензура пошлости (толпа), цензура лицемерия (власть), цензура целесообразности (политика) и т. д. Страна распалась не только социально (нищие – бедные – бизнесмены – чиновники – олигархи – правители), но и геополитически; сегодня на территории РФ существует несколько «стран»: Россия – 1 (главная), назовём её не Москва, а INMKAD (все деньги РФ сосредоточены в имперской казне и, соответственно, в кошельках и кошёлках бизнеса и чиновничества), здесь даже искусство – добровольно – стало крепостным: музыканты, певцы, живописцы и т. п. живут «чёсом», корпоративами и прочей дешёвкой; словестность беллетризировалась и работает на Рублёвку, тусовку etc., – назовём такое искусство и такую «литературу» – нижепоясными («поющие стринги» и пишущие гениталии); Россия – 2, это метагосударственное образование, нависшее над всей страной, над Россией реальной, над РФ, – Соединенные Штаты Чиновников (СШЧ); Россия – 3, Россия денег, рынка, силовиков, коррупционеров etc.; Россия – 4, страна гастарбайтеров; Россия – 5, или Сочи – Россия, страна Олимпийского Огня, страна всероссийских мероприятий международного и всемирного масштабов по «распиливанию» бюджетных целевых средств; Россия – 6, а это – «Россия, нищая Россия» – самая стабильная страна в стране; Россия 6 + n, РФ (и СССР, и Российская Империя) – государство мобильное во всех отношениях, имеющее десятки своих вариантов – реализаций и функций.
Сегодня в России идёт война. Война культурная, священная война. «Посткнижная культура», переходящая в следующее своё состояние посткультурного пространства, убивает (с помощью власти) литературоцентричную культуру. И. Бродский предсказывал войну культур с различным этно-религиозным содержанием (она уже идёт), но внутри этой глобальной войны проистекает война сердцевинная. Война культуры и пошлости (толпяной, денежной, рыночной, государственной). Война в войне.
Удушение русской словесности сопровождается фронтальными, фланговыми, тыловыми и вертикальными (сверху) массированными ударами по гуманитарной фундаментальной науке. Насильное реформирование высшей школы (после ЕГЭ – роботизации средней школы), её разрушение, стирание её демократических и либеральных (свободолюбивых) основ (выборов, ректоров, деканов, разрушение факультетов, кафедр и т. п.), редукция набора студентов на филфаки, истфаки и философские факультеты (в Челябинском университете в этом году не было набора студентов на филфак! – отменили чиновники; ну да, их дети учатся в сорбоннах и кембриджах, их российские вузы не интересуют), сокращение штатов ППС и т. д. и т. п., – всё это приводит (уже привело) к тому, что гуманитарная сфера науки и образования снизилась почти до нуля («нулевизация» – термин Минобра).
Однако гуманитарная сфера фундаментальной науки есть территория формирования и воспитания универсального научного мышления. Без этой сферы не было бы ни Платона, ни Пифагора, ни Коперника, ни Эйнштейна, ни Лобачевского, ни Н. Бора, ни П. Капицы, ни Л. Ландау, не говорю уже о Паскале, Спинозе, о немецких философах, о великих филологах-мыслителях и др. Любой ученый-естественник есть философ, филолог, историк и в целом словесник. Слово – это носитель этики, эстетики и научной семантической точности, а с другой стороны – стереоскопичности знаний (когнитивный аспект семантики, значения слова). Гуманитарные фундаментальные науки прежде всего – нравственны. Именно этого и боится власть. Власть – любая. Вольнодумство (то бишь нравственность) сегодня попирается, вытаптывается, газоманами и целесообразниками-прагматиками, а главное – поклонниками и служителями деньгиологии. Философия, история, филология сегодня власти не нужны. Вольнодумие, вольномыслие, добромыслие и великодушие (всё это – основы нравственности социальной) – не пахнут нефтью и деньгой. Любовь к нефти и газу – вот признак временщика. Стыдно смотреть социальную рекламу «Мы первые в мире по добыче газа и т. д.», – осознавая и зная, что сельская Россия (Россия – 6) не газифицирована до сих пор. В России нищей газа нет. В городах есть. Не во всех, конечно. А в посёлках, сёлах и деревнях – нет. И не будет. Никогда. Почему? Потому что деньги бюджетные тратятся на сверхвысокие зарплаты и пенсии госслужащих (пенсия от 40 тыс. руб.!). Мужик, отпахавший на заводе 45 лет, получает пенсию 8–10 тыс. А невольнодумец чиновник – 40 тыс. Ножницы. Инструмент, вообще-то, режущий и колющий. Почему богатей, проторчавший и пробизнесовавший недолгое время в министерствах или в депутатах, как пенсионер богаче в десятки раз профессора, водителя, инженера и рабочего?! Почему полуграмотный чиновник не чета инженеру, учёному, механику, слесарю и врачу? Кто так решил?
Художнику – легче. Он живёт в России и Культуре. Он создаёт Красоту. Труднодоступную. Редкую. Подлинную. Способную противостоять пошлости. Пошлости толпы. Толпы, которая пользуется готовой красотой, красотищей – глянцевой, гламурной. Толпы, насыщающейся готовой информацией – занимательной, аттрактивной, пустой. Художник – творец. Или – досотворитель мира. Нехудожник – креативен. Его петляющая креативность мутна и однообразна (гламур, кровь, секс, прикол, толпа). Он питается готовыми образцами асемантичной информации (сплетни, слухи, понты) и популярной, а значит пошлой красотишкой. Главное в человеке – разум, сердце и душа. А не желудок, гениталии и социальные амбиции, производящие на свет столь приятные и вкусные микроэмоции. Человек (подлинный, нерасчеловеченный) – онтологичен (он есть часть бытия – мыслящая и страдающая, т. е. духовная) и метаэмоционален: он проживает не то, что проживает его, а то, что живёт им – Жизнь, Смерть, Любовь, Бог и Вечность.
Художник – человек. И нечеловек. Одновременно. Если с нехудожником происходит смерть (жизнь «умирает» его), то с художником происходит божественное расчеловечивание, когда человек в художнике умирает – и остается то, что я называю Нечто. Это Нечто крупнее всего на свете. Крупнее нефти, страны, власти, денег и любого авторитета. Нечто – это то, что крупнее себя самого: Нечто крупнее Нечто. И стереоскопичность войны, её телескопичность (выдавливание войны из войны, из которой выжимается новая война) исчезает. Исчезает вместе с ней самой. Исчезает вместе с плотью и прахом.
Эзра Паунд создал великое стихотворение (даю его в переводе Ольги Седаковой). Оно как раз об этом.
PARACELSUS IN EXCELSIS
Уже не человек, зачем я буду
Прикидываться сей эфемеридой?
Людей я знал, и как! Никто из них
Еще не сделался свободной сутью,
Не стал простой стихией – так, как я.
Вот зеркало исходит паром: вижу.
Внимание! Мир формы отменён
И очевидный вихрь смыл предметы.
И мы уже вне формы восстаём —
Флюиды, силы, бывшие людьми,
Подобно изваяньям, в чьи подножья
Колотится безумная река,
И в нас одних стихия тишины.
Бродский похоронен недалеко от могилы Эзры Паунда. Рядом могила Стравинского. Рядом с Венецией на острове Сан-Микеле.
Острове мёртвых. Точнее – бессмертных.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































