Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
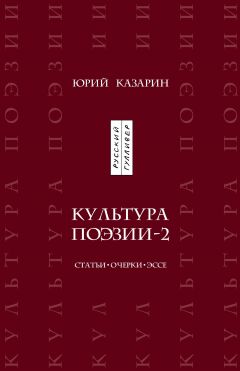
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сквозь себя
Я уходил в армию в ноябре. Тогда, в начале семидесятых, в армию ШЛИ. Сегодня – в армию забирают. Призывался я с Уралмаша. Уралмаша – во всех отношениях: Уралмаш – это и административный район Свердловска (в те годы), и огромный массив жилых домов (от «Машино-троителей» до Болота, где я проживал на улице Восстания; с улицей «Стакановской» – пили тогда почти все, поголовно: время было ясное, пустое и живое одновременно; Брежнев не лютовал, напротив, разрешил всем гулять, отдыхать, балдеть и строить мифический коммунизм; этот бровастый, бравый и равнодушный человек тираном не был – наоборот, он распорядился носить книгу и мирный атом в каждый дом); Уралмаш – это и завод-гигант, где я проработал полтора года фрезеровщиком, – и особая криминально-пролетарская зона уникальной свободы жить и бояться, жить и противиться шпане, занимаясь спортом, читая книги и сочиняя свою литературу, вибрировавшую между Лермонтовым и Джеком Лондоном, Тургеневым и Есениным, Пушкиным и Р. Л. Стивенсоном, Тютчевым и Багрицким (учился в школе я легко: учебники прочитывал летом, а в течение года, благодаря своему заиканию, отвечал на все предметы письменно, часто в стихах, плохих, но ловких и глупых, как вся социальная «поэзия»; в девятом классе я был изгнан навсегда [до выпускных экзаменов] с уроков словесности за ремарку на уроке литературы, когда учительница N втирала нам про «лишних людей» [по Белинскому] и когда я, страшно заикаясь, проворчал с задней парты, что, мол, Печорин, Онегин и Чацкий вовсе не лишние люди, – «А кто же тогда – лишние?! – возопила N. Мы, – ответил я, – Вы, я, они…»). Уходил я осенью. В тёмном раннем ноябре. Дядя Коля, мамин брат, подарил мне перочинный швейцарский нож – и заплакал (через полгода он повесится – по пьянке, но узнаю я об этом только после дембеля).
Я уходил (из нашего бывшего класса – десятого «А») последним: был самым младшим. Мы пили, пели, обнимались, пили, опять пели – и я ушёл…
Через год я, после вахты, курил за единственной рубкой на палубе танкера где-то в акватории Египта. Палуба – стальное в рубчик футбольное поле – была обстреляна (для острастки) противником (полуусловным и полуреальным) какими-то некрасивыми и нестремительными «спидфайерами». Палуба пела и стонала. И гремела, и грохотала. Я прижался спиной к рубке, но сигарету «Северных» не бросил – решил докурить назло империализму. И тут – естественно неожиданно, вдруг – кто-то врезал мне по правой стороне лица, сразу и по скуле, и по уху, и по щеке, и по челюсти. Вмазал со страшной силой, как Кассиус Клей (Мохаммед Али). И я крутнулся вокруг своей оси и завалился – вперёд, мордой в палубу – уткнулся лбом и глазами в руку. Не в мою. В чью-то руку. Оторванную по локоть. Срезанную то ли осколком, то ли разрывной пулей. На запястье руки были часы. «Победа». На чёрном лаковом ремешке…
После Главной войны лет 10–15 почти все носили часы «Победа». И мой отец. Потом он подарит мне свои часы, но я их выброшу – с балкона пятого этажа хрущовки, в которой мы жили. Потом пошли другие наручные часы: «Зенит», «Луч», «Ракета» и т. д., – почти все названия были связаны с полётом. Потом появились «Командирские», а в начале девяностых наш часопром был повержен сначала японскими, а затем китайскими штамповками. Имя времени, однако, не изменилось. Главное имя. Время, вне корпуса часов и стрелок, оставалось загадкой – сладкой и жестокой.
Через два месяца после затрещины мёртвой рукой, уже на Кольском, я передал часы «Победа» матери погибшего морпеха. Мы ничего не говорили. Просто плакали.
Память – это культура. Пролонгированная и зафиксированная в предметах искусства – память. Текст (и любой талантливый артефакт; талантливый – значит явившийся частью гармонии, гармонии общей) – сущность воспроизводимая. Текст есть память. Память есть время. Значит – время воспроизводимо: и кинетически, и ментально, и божественно.
Сижу на крыльце бани, смотрю на свой садик, на птиц, на небо, на горы, на лес, на коршуна, виражирующего над озером, – и чувствую, понимаю, как стыдно быть человеком перед лицом воды, земли, неба, растений, птиц и зверья. Всё и вся испоганили своими денежными и удобными для веселья и смерти городами. Город – сущность сложная, нужная, но выродившаяся в социально грязное и нечестное месиво плоти, характера, амбиций и хронотопического идиотизма. Человек живёт здесь в четверть силы и только ради денег. «Политическая культура» перекрыла, накрыла и задохнула культуру национальную. И качество воспроизводимости культуры погашается. И новые беспамятные порождают новое беспамятное. Скушно. Не страшно – но скушно.
Из Егоршино (распределительный пункт призывников) меня с другими бедолагами, отощавшими за неделю егоршинского бардака, повезли в теплушках в Мурманск. Я попал на Северный флот, но не знал, сколько придётся служить: 2 или 3 года. Лежал на верхней полке и считал: 2 года – это 730 дней; 3 года – 1095 дней. Знал бы я тогда, ЧТО мне придётся пережить, какой мурцовки испробовать etc. Да и срок вышел совсем другой – не первый и не второй, а промежуточный. У меня всё и всегда так – ни два, ни полтора, ни семь, ни восемь. Близнецы (по рождению). Все беды и счастья приваливают то в двойном, то в полуторном размере.
Сижу на банном крылечке и думаю: что это я про армию-то вспомнил? С чего это баня-то пала? Сорок лет прошло, как… Много там чего было: и спецшкола, и дисбат, и командировки, и госпитали, и добрая морская авиация, дембельнувшая меня мягко и уважительно. Почему вспомнил-то? Ведь стараюсь не лезть туда, в те годы, в те земли и в те хляби… И вдруг понимаю: Давид! Не тот, который Голиафа приласкал, а Давид Паташинский, русский американец. Поэт. Мы встретились в Москве, в квартире Вадима Месяца, где кроме нас жил ещё и Сергей Бирюков, классик поэтики и поэзии авангарда.
Давид младше меня на пять лет. С виду крепкий ещё мужик, почти парень, почти мальчик. Ребёнок. Поэт, он и есть ребёнок. Давид, увидев меня, большого и брутального, затеял вокруг меня ритуальные танцы знатока восточных боевых единоборств. И это, действительно, было красиво: журавль, тигр, цапля, обезьяна, кошка, орёл и человек с бритой головой, красивый, сильный и печальный. Я вежливо похваливал, не зная, как реагировать на такие физкультурные движения, па, повороты, извороты и выверты… А потом я прочёл подаренную Давидом книгу – и обомлел: поэт. Поэзия – вся – избыточна: в звуке, в смыслах, в свете, в тепле. Избыточна здесь, на Земле, – и одновременно нормальна и нормативна, если не недостаточна ТАМ, где-то вверху, за небесами. И поэт избыточен – во всём. Иногда невыносим. Но – прекрасен. Потому, что – ребёнок.
Колокольчик зол, зол, шмель жену себе нашел,
пальчиком водил, рыбку удил.
Патронташик пуль полн, нам бы ваших бурь, волн,
да прибрежного песка, да железного свистка.
Разгуляйся, гуляй, платье красное вверх бросай,
платье черное лови, соловьи, соловьи.
Звон стоит, молодой сон, над рекой звон,
под рекой мужики, там живут мужики.
Весна пришла, только очень холодно еще,
сделай так, чтобы горячо.
Колокольчик сам свят, на небе ал стяг,
небо синее, голубое, вот и мы с тобою.
Странные стихи. Сильные. И – русские. Если всё это сделать по-английски, то выйдет бред. Но бред – куда ближе к поэзии, чем не бред, небред. А колокольчик-то, действительно, зол. Ох, как зол! И шмель, молодец, без жены не смог и не мог: а с женой он весь свет выжужжал, выгудел, выпугал, высмотрел и вылюбил. Да. Стихи Давида Паташинского – это человеческое в божественном (как Вивальди). Такая вещь – и музыкально, и поэтически – это осознание себя одновременно человеком и Богом; человеком до рождения и после смерти его, между которыми – жизнь как стихотворение и скрипичный концерт. Поэзия и музыка непредсказуемы, как природа, как душа, как Дух.
Когда Давид уходил в спальню распутывать и развязывать часовые пояса, накопившиеся в нём после перелёта из Америки в Россию, я оставался один и листал книги, изданные в «Русском Гулливере», курил на балконе, почти упиравшемся в крышу Третьяковской (старой) Галереи, смотрел на Болотную Площадь, оглядывал храмы и башни Кремля и думал, что я здесь делаю: в Каменке у меня маются вновь посаженные липки, сосенки и ёлка. А кедрик?! Кедр молодой, почти младенец. – Их же поливать да поливать сейчас нужно!.. Но тут хлопала входная дверь, и в гостиную входил Сергей Бирюков, классик. Скромнейший человек, 15 лет живущий в Германии, – и вот – подаренный мне судьбой и случаем здесь, в Москве.
Странно встретить и увидеть и рассмотреть человека, чьи книги знаешь давно, – словно время сжимается, как вода, до твёрдого состояния (три года в Индии), в послебрачном, точнее – междубрачном, состоянии, и тебе, старшему преподавателю и заочному аспиранту, говорят: «А напиши-ка ты книжку о поэтической графике…» И ты читаешь «Зевгму» Бирюкова (а твоя книжка появится лет через 15, написанная вместе с твоим аспирантом). И вот – милейший и талантливейший Бирюков. Авангардист и авангардовед. И ничего в нём авангардного нет. Ничего, кроме глаз. Глаза у Сергея Бирюкова – ангельские и птичьи одновременно. Пронзительные и мягкие. Светящиеся.
ЗВЕРОЭТЮД
тигр одиночества
пасется на пастбище слов
ему неможется
он устал от снов
он рвет свою шкуру в клочья
он гасит свет
он влажно бормочет ночью
тигр-экстраверт
и когда вылезает в улицу
бредет среди ослов и людей
то ищет глазами умницу —
стража его идей
его передергивает отчаянием
он теряет над собой власть
он вскрикивает нечаянно
платком прикрывая пасть
Да, это вам не гладкомордое кино и говоритмы верлибра. Это – страсть. Настоящая страсть – признак одинокого человека. Поэта. Поэта, пишущего не быстрорастворимые стихи городского бездельника. Поэт ходит за стихами – сквозь себя – туда, где видно, как снегирь понимает, что он красив. Снегирь понимает, как он красив… Я хожу за стихами к костру и к озеру.
движеньем резким вывести из боли
того себя которым был когда-то
и на того которым стал сейчас
летающим летящим и летучим
Переживать трагедию (без видных признаков её), катастрофу (тоже безвидную), беду, горе и боль (подлинную и первородную) для того, чтобы с выросшей до непомерных размеров душой – летать. Летать летающим, летящим и летучим. Вот – поэт…
Потом она спросила:
– Ты знал его?
– Да… – (я не знал этого матроса).
Она сидела, опустив голову, и смотрела на часы «Победа» с чёрным лаковым, кое-где треснувшим, ремешком.
– Он… Ваня… прикрыл нас… – (Прикрыл собой Египет, обложенный четырьмя державами).
Она подняла голову, и я увидел её глаза сквозь себя и сквозь две толщи слёз – её и моих. Мы сидели в штабной комнатке одни – как под водой. Под морской мутноватой водой. Вода слёз. Воды слёзы. Хляби очей и душ наших… Вот и всё.
СОМ
Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.
А руку окунёшь – в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко
и стынет, словно ключ в густеющем замке.
Это раннее стихотворение Алексея Парщикова. Время, уходя Бог знает куда, всё сильнее, страшнее и крепче стесняет сознание и плоть, выжимая душу – наружу, туда, где все чёрные ходы наших мыслей и чувств соединяются в один – светлый.
Продлиться навсегда
Лет пятнадцать назад сижу, мучаюсь над началом статьи (не могу «въехать» – то есть нужно первое слово, из которого вырастает текст). Обращаюсь к четырёхлетнему сыну: – Миш, подскажи мне первую фразу… – Парнишка, не задумываясь, произносит: – Светит солнце. (Миша уточняет: – Может быть, односоставное? [он учится в школе «пушкинского резерва», или «призыва», как шутил я, где русский язык начинали изучать прямо с синтаксиса – с интонации и предикативной основы. Дети всё понимали, прекрасно говорили и читали, и пересказывали прочитанное, но… через десять лет всё позабыли: началась отроческая мученическая жизнь, и стартовал век электронно-компьютерного мышления и говорения. А тогда, сынок мой, вернувшись из Крыма, где отдыхал у моих друзей, на моё предложение поговорить по-украински ответил: – Ты шо, охренел?!]). Солнце светит. Да, светит. Светит всегда. Даже когда не светит. Сюда, к нам не светит. Его несвет ощущается особенно явно летом – всегда: и ночью, и в пасмурнягу.
Ощущение солнца – это ощущение детства. Детство представляет собой тройную (минимально) жизнь, тройное существование: первое – глубоко внутреннее, соматически новое, психически (ментально) эвристичное; второе – широко и глубоко, и высоко внешне, когнитивно новое (но с дежавю), физико-метафизическое (гносеологическое) познание себя в мире и мира в себе с интерфизическим счастьем, ужасом и разочарованием; третье – грубо и императивно социальное: испытание толпой, группой, классом, строем, звеном, etc. И здесь в моём сознании высвечивается семема «ЛАГЕРЬ». Концентрация детей в одном месте, руководимое броуновское движение персоналий и индивидуальностей, руководимое педагогами-пастухами, или педагогическими (психологическими) пастухами, но не пастырями, знающими такие слова, как «психология», «воспитание», «идеология» (любая, и финансово-рыночная в том числе) и т. д. и т. п. Лагерь. Концентрация. Концентрационный пионерский лагерь.
Лагерь, из которого меня – посезонно – изгоняли дважды. Первое выдворение оказалось скандальным. Очень. Даже слишком. Вообще-то, парень я был тихий, тихоня, заика, молчалив, с карими твёрдыми глазами (взглядом – так это видится мне на старых фотографиях). Два-три парнишки-хулигана-естествоиспытателя вдруг взяли меня в серьёзное дело: с лестницы заглянуть в банное не замазанное мелом окно; по средам в бане мылись воспитатели и остальные идеологи и надзиратели. Лестницу приставили, рама оконная лопнула – и мы ввались в мойку прямо с неба, из неба (дети – ангелы, и поэты – тож) в какое-то месиво, в гущу голых больших мужских и женских, недетских тел: вольное мытьё, или помыв, разгорячённых всем на свете наших наставников удивил нас, а наше удивление удивило тех, кто принимал межгендерное омовение. Нас выгнали из лагеря. Меня выгнали из лагеря. В течение месяца мать и бабушка прятали меня от изумлённого и скуповатого моего отца, дабы не побил: семь рублей за путёвку пропали даром, впустую. Второй раз меня изгнали из лагеря на следующий год, узнав во мне небесного лазутчика. Лазутчика по запретным баням… А день, какой был день тогда? – Ах, да: среда! С тех пор среда (как день недели) и лагеря (любые: сталинские, гитлеровские, пионерские и проч.) стали для меня символами тёмного, страшного и гибельно безысходного.
Перемещаюсь по городу я на общественном транспорте (метро, трамвай, реже автобус). Ходил бы пешком, да больная нога не даёт. Вот и стою на остановках – чаще один и в сторонке от всех. Избегаю хоровых ощущений. Хоровых эмоций. Коллективных прозрений. И толпяного познания. Стою себе один-одинёшенек, курю (отныне – в кулак: борьба у нас с курением; Россия мрёт от наркотиков и алкоголя, а власть вдруг заборолась с курением; ночные клубы набиты волшебными таблетками; амфитамины везде, где есть толпа молодых и резвых; и этот факт знают все. Все, кроме правоохранительных органов: в стране около 40 % алкоголиков и 18–20 % наркоманов, а борьбу ведут со мной – курящим, т. к. от меня вреда куда больше, чем от нарков и синяков [которыми забиты все пригороды, промзоны и посёлки]). Курю это я на остановке и думаю: политики – это такие клакеры (как в дореволюционных театрах побиватели собственных ладош за деньги по команде антрепренёра), которые возбуждают в общественном сознании шум аплодисментов (власти) и пощёчин (от власти). Рядом со мной стоят 3–4 супериндивидуальности: парни и девки сплошь в портачках (татуировки) и пирсинге; они тоже выделились из толпы, образовав новую толпу себе подобных. Пресловутые субкультуры стали шире и мощнее культуры, которая стоит где-то в сторонке от бизнеса, шоу-бизнеса, бюрократии и войны – и курит в рукав свою классическую преступную сигаретку.
Думаю: поиск истины прекращён. Толпе нужна то ли правда, то ли правота. Наука истины придумывает. Религия о существовании истины догадывается. Искусство стало рыночным и зарабатывает истинные деньги. Только поэзия и музыка (не попса!) остаются истинотворным занятием. Мир перенабит информацией, т. е. фактологическим, ложно-фактуальным и фантазийным мусором. Обилие такой «информации» убивает познание: у человека нет выбора, потому что он бесконечный; поиски не истины, но выбора – отвлекают от главного, ради чего мы явлены КЕМ-ТО или ЧЕМ-ТО этой планете, – знать. Познавать. Переузнавать. Вызнавать. Опознавать. Узнавать. Узнавать истину.
Хором, скопом, гурьбой, толпой и проч. только свадьбы справляют да хоронят. Хоронят – хором. Я в школе пел в хоре (заика, загнанный в себя мальчишка). Пел, не открывая рта. И мы сегодня поём, не размыкая уст. Под фонограмму власти, Интернета, TV, – под фанеру толпы. Национальности как бы исчезли. Есть аборигены и гастарбайтеры. Мой приятель таксист, киргиз Марат, очень умный, образованный и культурный человек, как-то в дороге (где-то между Первоуральском и Билимбаем) изрек: – Узбек – это не национальность, это – профессия. Американец тоже профессия. И – русский. И – еврей. И – украинец. И здесь опять я вспоминаю афоризм Марата: «Израилю с населением повезло, а Украине – нет». Узбек – профессия потому, что пытался оттяпать у киргиза кусок земли. Американец – профессия потому, что умеет и любит воевать со всем миром до последнего вьетнамца, украинца, иракца, сирийца, вообще араба, а особенно – бенладена etc. Еврей – профессия потому, что книга – книгой, а умерла – так умерла. Украинец – профессия потому, что он русский, но работает украинцем. Etc.
Хоровая идеология. Хоровая эмоция. Хоровая психология. Феномены конститутивные в любом общественном построении. Да: человеку нужен человек. Нужен онтологически прежде всего. Нужен – диалогически. Но там, где возникает полилог, – уже начинается тишина. Есть у Владимира Губайловского небольшое по объёму, но огромное по содержанию стихотворение.
Я всегда легко уходил от живых.
Я махнул рукой: «Что за дело до них?
Я все заново переиграю».
Но потом наставал непрошенный миг,
и они возвращались ко мне, умирая.
Мы придумываем себе людей: друзей, любимых и возлюбленных. И – ошибаемся, разочаровываемся в тех, кого выдумали, как Бог, я уверен, разочаровался в человеке, которого он создал для любви и познания и который, укрепясь невежеством и безлюбием своим, – убивает, крадёт, лжёт, воюет, предаёт и глумится над тем, что принято называть Природой. Владимир Губайловский в своём стихотворении сжимает сценарий фильма А. Тарковского «Солярис» (и фильм – тоже) до текста, состоящего из шести строк: мёртвые возвращаются к нам за любовью. За любовью, недолюбленной возлюбленной жизнью, наполненной любовью, любовью, любовью и – смертью. Стихи В. Губайловского – это не быстрорастворимые стишки, напичканные микроэмоциональными лопающимися пузырями. В его стихах манифестируется одна из крупнейших макроэмоций Жизнесмерти и Любви…
Своего трамвая я тогда так и не дождался. Пошёл к метро… Когда я писал слово «метро», дом мой задрожал: к воротам подъехал грузовик (самосвал) с дровами. Это была уже третья машина – зима была холодной, и я остался без дров. Почти. Стояла только полуполенница с ободранными дровами, грязными и тяжёлыми (берёзовые), с лохмотьями (кололи их машиной), со страшными продольными ссадинами (грузили их экскаватором) – поленья напоминали битые горной рекой (камни, быстрое течение) древесные трупы, которые в руки брать страшно: грязь, песок, занозы и запах – как с того света. Новые дрова были красивые, ровно колотые, – берёза и осина (тут в Facebook’е писали по поводу моих стихов с горящей в печи осиной, что, мол, осиной не топят, что она вязкая и рыхлая; нет, осиной нужно топить печь раз в месяц в течение трёх-пяти дней – она выжигает сажу из дымоходов и трубы; а сухая осина – звенит и щёлкает, когда горит в печи, – постреливает, как бы напоминая тебе: это я, осина, горю – и чищу твою печь;
я весело горю, особенно вечером, когда темно и по-зимнему пусто). Три машины дров – это 18 м3, тысячи поленьев. Каждое полено я брал, наклонившись, выпрямлялся и бросал под навес (расстояние полёта полена – от 3-х до 7–8 метров). Так я перетрогал все 18 м3. Затем эту огромную кучу дров я складываю в поленницы, тронув каждое полено. А потом, зимой, я буду брать в охапку дрова, трогая поленья в третий раз перед тем как внести их в дом. А в доме, вечерком (или утром), опять я возьму полено (каждое из 18 м3) и аккуратно положу его в топящуюся печь или в камин (в камин только берёзовые – они «не стреляют»). Итак, я четырежды трогал, брал, поднимал, бросал, нёс и опять клал (то в поленницу, то в печь, то в камин) каждое полено! Дрова мои антропоморфировались, стали мне родными! – Вот бы люди так же, а? Друг с другом, а? Но без печей и поленниц. Без печей и лагерей. Без маршировки и толп немереных. А – индивидуально. Без хоровых идей, эмоций и поползновений. Да. Такие дела.
В США появилась новая игра: НОКАУТ. Суть её в том, чтобы неожиданно сбить с ног незнакомца (или незнакомку: помните А. Блока?). А один / – а / – о наш / – а / – е шоубизнесмен / – ша, этакий максимально выраженный мужебаб, – публично заявил, что нынче встречают по одёжке – по одёжке и провожают. (Субстанция «УМ» в этой ситуации вообще не участвует. И ещё: бывший министр культуры, параллельно и ныне телеведущий некой культурной программы, констатировал: «Диктат идеологии сменился диктатом рынка. Но этот диктат – честнее!» – Бывший министр – молодец: он выступает здесь с позиции и в позиции, и в роли того, кто стоит за рыночным прилавком, или хлопает – тянет кошельки из карманов и сумочек незадачливых и беспомощных перед диктатом рынка старушек, тётенек и разновозрастных раззяв… – И засоглашалась толпа. Засопела от правды пахучей и сладкой: если раньше искусство производило на свет идеологически обусловленное и ангажированное дерьмо, то ныне оно производит рентабельный навоз, помёт, гуано и прочее говно… О роли заднеприводных особей как бы мужского пола, генераторов и двигателей современной безэтичной эстетики (шоу-бизнеса) – молчу. Да. Вот – молчу.
Божественное в человеческом иссякает. И человеку – хорошо. Лучше проживать чёрт знает чем, нежели быть Бог знает кем: жить и быть – разные, абсолютно дизъюнктивные категории, существующие на основе оксюморона «обыватель – бытие», или – «социальное – бытийное / онтологическое».
Прекрасный поэт Феликс Чечик в своих онтологически насыщенных восьмистишиях как раз работает с веществом не социального, не хорового, но онтологического времени.
как смола на сосне
нет намного быстрее
загустело во мне
бесконечное время
стало камнем старьём
забытьём океаном
и горит янтарём
на твоём безымянном
Да, время густеет в поэте, поэтому оно и бесконечно, ибо только дух (душа) способен соединить время и пространство в любой хронотоп. А хронотоп – это и есть память. Память человека. Память Времени. Память Вселенной.
Время переходит в свет. Тьма, темнота, мрак – в вечность. Поэзия способна не только сохранить в нас божественное и чудесное, но и досотворить, довоссоздать, дострадать, доплакать и допеть то, что вечности не принадлежит. То, что становится поэзией. Поэзия – воспроизводима и репродуктивна. Она сама время и вечность. Выдающееся стихотворение Владимира Казакова – как раз об этом.
ОСЕННЕЕ
деревья черные и воздух светло-белый,
ее шаги звучат все лиственно-нежней,
ни ночь, ни темнота сегодня не посмели
продлиться навсегда, чтобы остаться с ней.
и возле быть всегда, чтоб звездными углами
касаться юных лет и юного чела,
пока при свете спиц забывшееся пламя
в вязальной тишине не вздрогнет до бела;
чтоб временем ночным – сплошным и неподвижным —
окутать и не знать отторгнутых секунд…
но слишком луч суров, отточен и неслышен —
которым эту прядь златую рассекут
У кого хватит сил продлиться навсегда, оставаясь человеком?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































