Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
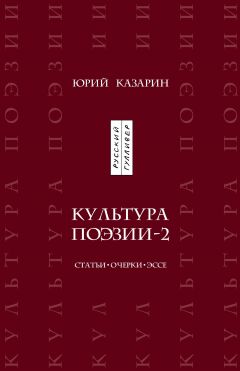
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Голое имя
Снежное поле. Метель. Входишь в сугроб – и проваливаешься по самое не могу: не идешь, а бороздишь, прешь, разрываешь многослойное вещество взрослеющего снега – все его слои и фракции, – лед, сыпучка, плиточник, нечто плотное – почти известняк, и опять сыпучее не как песок, а как горы граненого хрусталя, а сверху всех этих корочек, корост и текучестей – нечто скрипучее, крепкое, визгливое, стонущее, скрипичное и поющее. Так и плывешь в этом месиве, чувствуя, как валенки набухают, набиваются снегом в голяшки и как под стопой, особенно под пяткой, затвердевают и похрустывают теплые, жгучие, влажные ледяные пятаки. Борьба с полем, со снегом, с сугробом как-то сама собой переходит в привычку, и ты, пыхтя и посапывая, уже понимаешь, что – плывешь. Жизнь прожить – не поле переплыть. Плывешь, плывешь, плывешь – и начинаешь ощущать себя частью этого поля, этой стихии: поле в метель – само по себе пол, стены и потолок. Поле в метель – облако. Оно как хорошая книга: сначала цельное и непочатое, потом трудное и неподъемное, а затем… вдруг становится частью тебя, твоих мыслей, потому что плывешь ты всегда – думая. Оно часть неба – и к земле уже имеет весьма косвенное отношение: разве что ледком надземельным и подпяточным. Валенки – корабли. Плывуче-летучие. Так, бредя уже час-другой, осознаешь, что уже не плывешь в этом немереном снегу – а летишь. Потому что поле – уже небо. Часть неба. И ты часть неба. И, проплывая эту белую часть неба, ты читаешь ее и себя, особенно себя и ту бо́льшую, значительнейшую часть неба, которая остается вне твоего движения.
Плыть в снегу – значит читать. Читать поле, метель, время. Снежное поле еще и аудиокнига: оно говорит, поет и звучит ветром, метелью, снегом поющим, струнным, дыханием твоим и мыслями – уже не только твоими, но и – поля. Поле мыслит тобой. Как книга думает читателя и читателем, так и поле мыслит тебя и тобой: ты и плывешь по снежному полю, как мысль; мысль – не твоя. Мысль поля.
Снежное поле – книга. Она открывается зимой и снегом – небом. Она листается метелью, зверем и человеком. Она пишется сама собой – архетипическим даром. Даром жизни, погоды и неба. Книга поля в деревне – всюду. Лежит целехонька и нова. В городе она превращается в грязь – поди поплавай в ней! Её убирают и рапортуют: пять тысяч снегоуборочных агрегатов и т. д. В деревне снежное поле – кровельное, огородное, заборное, столбовое, наличниковое, крыльцовое – любое – написано птицами и зверьем. Исписано или прочитано? Сначала белизна и чистота, видимо, прочитывается, а затем сороки, синицы, вороны, сойки, снегири, свиристели, клесты, щуры и поздние дрозды, а также коты, зайцы, собаки, хомяки, волки, мыши и лисы (а в лесу кабаны, лоси и косули) пишут на снегу ответ. Что-то вроде: «Прочитанному, а также сей белизне и чистоте – верю». И никому в голову не может прийти мысль запретить эту книгу. Или – отредактировать. Или переписать. Или – снять ее к такой-то матери ножом бульдозера. Никому. В голову. Не придет.
Все, что создает человек, – архетипично. Или – почти все. Цивилизация и культура архетипичны: они следуют природе. Или не следуют. Цивилизация увлеклась сама собой: общество, политика, власть, деньги и прочие фантомы и фетиши – разрушают архетипическую, или природную, сущность деятельности человека. Деятельность природы, стихий, зверя – архетипична. Деятельность политика – антиприродна. Власть, известность, деньги с точки зрения дождя, снега и ветра – ничто. Человек с точки зрения природы – часть земли, неба и духа. Человек с точки зрения политики, социальности и финансов – people, потребитель, хаватель всего на свете, всего, что модно, вкусно и… ну и бесплатно, что ли…
– Мне бы это, водки дайте, а? – А вам какой? – Ну, мне этой, ну, той, которая побесплатнее… Пейзаж человечества. Пейзаж человека. Все – типизировано и подчинено технологиям. Один питерский митёк нарисовал картинку «Возвращение уха Ван Гогу». Да-а-а. Как бы вот – ну уже не обывателю – а хотя бы художнику совесть вернуть. Человек говорящий и слушающий (в широком смысле) превратился в человека смотрящего.
Смотрящего в монитор, в экран. Господибожетымой! – да посмотри ты в окно, а?..
Появился тут новый термин «кинолексика», ну, то бишь есть язык кино, и, естественно, в нем есть кинофонемы, киноморфемы, кинолексика и киносинтаксис. Только вот текста нет. Всё кино (за редким исключением) – это один типовой, хронотопически ограниченный, семантически плоский текст. Вернее – имитация текста. Стыдно смотреть такое кино – от Голливуда и арт-хауса до телевидения, сериалов и интернетных роликов («Я-а-а-зь! Я-а-азь!!!») и рукодельного видео. Все это – прикольно. И к душе никакого отношения не имеет. Вот сижу я и слушаю мелолексику (музыку), смотрю на настенные изолексемы (картины, гравюрки), переживая в себе биолексему, химиолексему и в целом физиолексему, находясь и проживая в деревянной архитектурной лексеме. Гляжу в окно-лексему и вижу снег. Есть такая лексема «снег». Предмет «снег» имеет понятие и денотат (образ предмета) – имеет его в головном мозгу языкового существа. Вот и все. Такие дела.
Панлингвистическое представление мира, основанное на семиотике и на семиотическом (знаковом) видении всего на свете, – примитивно. Почему? Потому что в природе и в мироздании есть знаки неноминируемые. Они суть абсолютные знаки без какой-либо индексирующей, иконической и символической нагрузки. Например, СВЕТ. БЕЗДНА. БОГ. ТЬМА. ДУХ. ВЕЧНОСТЬ. И т. д. Эти знаки, как и природные феномены стихийного происхождения и стихийной функциональности, – имеют только имя. Голое имя. Чистое имя. Имя из белизны. Как снежная книга и как белое нечитаное поле. Огонь, вода, воздух, небо, дерево, земля, камень, глина и др. – вот сущее через названное. Названное Никем. Повторяемое всеми. Божественная номинация (т. е. неизъяснимая [нет, этимология здесь, естественно, есть, но презентология и футурология здесь куда очевиднее], самовольная и самопроизвольная, чудесная, магическая; номинация неизъяснимого, но и неотторжимого от того, что мы называем Жизнью, Смертью, Любовью, Богом, Языком и Душой), Богом данная, дареная номинация. Одним словом, имя белизны.
Нет, всё не есть язык, и язык – не во всем. Есть сущности – больше и выше языка. И здесь не язык бессилен, а мир божественен, загадочен и неназываем… Сегодня позитивизм (экономический, политический и финансовый прежде всего) доминирует во всех сферах. И в искусстве. В кино, например. Только словесность, ее подлинно поэтическая часть, – вне прагматики, вне денег, вне безумного социального мира.
Мир перестал быть книгой. Когда это произошло? Думаю, в конце двадцатого века. Мир социальный «преобразился» в периодическое издание. Был книгой – стал журналом. Таблоидом. Гламурным. Глянцевым. Желтым. Гендерным. Etc… Произошла подмена: артефактуальный и социально адаптированный, актуальный мир (как предмет хотя бы наблюдения – не познания!) вытеснил натурфактуальную сферу жизни на периферию «визуального сознания», или фиксации, или – констатации. Духопроизводящие основы бытия свелись к системе микроэмоциональной деятельности, которая, в свою очередь, стала покадровой сменой различных эмоционально необязательных, но приятных состояний. Так метаэмоциональность души была опрощена до микроэмоциональных типовых состояний / ситуаций нервной системы горожанина (и не только его). Душа померкла, уснула, умерла. Чтобы – не страдать. Душа страдающая и болящая позволяет сознанию (и всему существу человека в целом) не столько опознавать, сколько познавать мир. Познание редуцировалось. Остановилось?.. – Не знаю. Уверен, что художественная и научная словесность все еще находится в процессе познания, а не оценки и выбора, чем сегодня по определению занята гламурно-технологическая цивилизация.
Когда я слышу авторское чтение стихов, я воспринимаю прежде всего просодию. Музыку. Языковые коды стихотворения входят в меня как некое фоновое, неосновное вещество. Как back-sound. (В поэзии смыслы – звучат.) Если в стихах есть музыка (интонация, грамматика, ритм, синтаксис, строфа как единица симфонического характера, голос и т. п.), я их потом нахожу – и читаю с листа. Это происходит примерно так, как с Высоцким: сначала слышишь, потом видишь, а затем синтезируешь в себе стереосемантику пропетого стихотворения. Из всего, что я слышу в последние годы (а это лет 20–25), подлинным поэтическим оказывается 1 % из всего произнесенного и продекламированного. Что же делать с остальными 99 %? – А ничего:
пусть будут. Пусть их пишут. Авторы. Лучше пусть пишут, чем бегают по ночам с топориком. Надсон и Раскольников. Нет, лучше Брюсов и Раскольников. Представим, Раскольников, загнанный в угол жизнью и судьбой (и собственной русской дурью и безбашенностью), – начал писать. Стихи. Мощные. Страшные. Прекрасные… Ан нет: не поэт. Родион Романыч – обыватель и одновременно представитель и потребитель черного, мрачного романтизма. Он, сволочь, позитивист. Вот и меняет мир. Рубит его под корень, и ствол дерева валится ему на башку. Раскольникова убил город. Современную цивилизацию сожрали города.
Город – стихия рукотворная. Эдакая буря ассимиляции, давления, несвободы. Современный город – это офис с пристроенными к нему квартирками. И действует здесь закон необязательной обязаловки. Социально-актуальное пространство города порождает несчастных: если у человека есть дар, талант, то они будут изуродованы и в конце концов уничтожены амбицией. Амбициями. Пиаром. Автопиаром. Эстетическим эксгибиционизмом. Эмоциональным нарциссизмом. Такие дела.
Город – не книга. А то, что не книга, то – бессмысленно. Поэтому город любит запрещать книги. Потому что город – это власть, политика, деньги и прочее фуфло.
Человечество, цивилизация – сущности в основе своей обывательские, потребительские, стадные, корпоративные и амбициозные. Человечество (как и цивилизация) не стало книгой. И уже не станет. Человечество отказалось от слова, отреклось от него: слишком сложное оно, это слово, полиформальное и стереосмысловое (вспомним политиков: «перезагрузка» [отношений двух государств] – «перегрузка», – оговорка по Гитлеру-Сталину;
а ведь все смеялись, и ни у кого морозец спину не деранул – а зря: сегодня РФ, США и Китай находятся на грани реальной войны – экономическая и проч. уже давно происходит). Человек предал слово, и оно закрылось для него. Слово сегодня почти ничего не номинирует – оно оценивает и «прикалывает». Безответственность нашего поведения есть последствие отказа от строгости, точности и силы (Божественной) слова. Человечество шло к этому безответственному, полунемому и бессловесному состоянию долго, запрещая книги и уничтожая писателей (да и сегодня: посмотрите, КОМУ вручается Нобелевская премия – в основном политически и социально-актуально обусловленным writer’ам). Бо́льшая часть лучших книг на планете Земля прошла, претерпела стадию запрещения. Библия. Коран. Новый Завет. Талмуд. «Демон» Лермонтова. «Житие протопопа Аввакума». «Оливер Твист». «Архипелаг ГУЛАГ». «Горе от ума». «Белая гвардия». «Мы». «Скотный двор». «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». «На западном фронте без перемен». «Хижина дяди Тома». «Крейцерова соната». «Лолита». И еще тысячи книг, написанных в разное время и в разных странах… Не значит ли это, что человечество боялось слова, книги – всегда? Да. Именно так. Человечеству милее имитация слова, а также «реализация» слова в иных формах и форматах: слово хореографическое, кинематографическое, вообще визуальное и т. д. Человек изобрел (и далее усовершенствует) визуальное слово. Не графическое, не письменное (тоже визуальность, но обусловленная идиоматикой формы и содержания лексики), но иное слово – слово в картинках. Такие дела.
Недавно знакомый издатель передал мне рукопись книги журналиста А. М., который собрал аудиоматериалы, касающиеся жизни Бориса Рыжего. Рукопись небольшая. Исполненная непрофессионально. Рукопись неструктурированная, нерубрицированная и т. п. Она включала в себя расшифровки бесед (и переписку) А. М. с теми, кто знал Бориса Рыжего. Это были исходники, нередактированные, сумбурные и нецельные – фрагментарные. Более того – они (исходники), все эти разговоры, диалоги и монологи, – были анонимными (естественно, я «угадывал» авторство высказываний, потому что знал их всех (или почти всех) лично, а также потому, что журнал «Урал» (2011, № 5) опубликовал часть той подборки опять же в урезанном (благопристойном) виде в канун десятой годовщины гибели Б. Р.). Рукопись уже знали (и, видимо, читали) в редакции, в университете, в горном, в городе. И почти все в один голос говорили: издавать нельзя: много грязи, дрязг, мишуры, желтизны и подлости. Да – подлости… Я читал рукопись всю ночь. Осторожно. Медленно. Равнодушно – что стоило мне огромных усилий. Итог: я был потрясен не столько безответственностью и глупостью, или непрофессиональностью, или неграмотностью, или неэтичностью etc. автора-собирателя книги, сколько опять же безответственностью и мягкой, доброй, улыбчивой подлостью воспоминателей. Не всех, конечно. Но – многих. Их в книге – большинство. Если эту книгу издать – то выйдет интереснейший, но неоригинальный памятник подлости, пошлости и онтологической безответственности. Б. Рыжий – поэт. О Б. Р. как поэте внятно и убедительно (и с болью) говорил только один человек – Олег Дозморов (о родственниках ничего не скажу: это святое). Остальные, и в том числе дамочки (писатель Арсен Титов таких называет «матроночки»), – все похохатывают да оглядываются. С опаской. Оглядываются – на смерть.
А за окном – метель. Она листает поле, прижимая к оконным стеклам снежные пласты, страницы, которые не мнутся и, отпрянув от окна, укладываются обратно на свое место – в поле. Сейчас я встану из-за стола, надену валенки и войду в поле, чтобы переплыть его, обить снег с пимов и зайти в магазин, где буханки хлеба стоят на полке, как книги.
Вкус глины
Машину занесло. Сначала потащило носом влево, а затем она скользила по шоссе боком. Потом вдруг, словно опомнившись и встряхнувшись, наша «Рено» (небольшая, компактная, «дамская») начала кружиться, причём множественные фуэте преобразовались в вальс, и я безотчётно, бессмысленно и непроизвольно начал считать: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три… Водительша моя выворачивала руль то по ходу вращения, то против него, а я пробормотал: «Тормоза – не трогай…» – Я был занят уже не автовальсированием, а непосредственно и только собой: во рту появился привкус глины, на грудь налип влажный и ледяной пласт глины, в ушах запричмокивала глина (дождь, каблуки), в глазах стояла глина – глиняный гололёд (–17 °C), глиняные снежинки, слетающиеся к заснеженным фарам, глиняные обочины, обозначенные невысоким глиняным сугробом. Глина. Глина. Глина. Могила. Да? – Да: сейчас нас разнесёт и размажет лесовоз. Их тут много. Прут брёвна по дороге через деревню Черемшу в Ревду и её окрестности (Хомутовка! – вспомнил я: моя любимая деревенька – хуторок к северо-западу от Ревды). Периферийным «морским» зрением я искал – ждал горящие мокрым грязным золотом фары, и слева, и справа. Их, Слава Богу, не было. Нам пока везло. Мы вальсировали на шипованной резине уже метров 150, горка иссякла, и на ровном участке дороги машину крутнуло ещё раз в заключительном – финальном фуэте, и мы припечатались к сугробу правым бортом, кормой вперёд. Марина молчала. Я молчал. Кто-то над нами, вокруг нас и в нас произнёс долгое «да-а-а-а»… Мы вышли из машины – как сошли на берег. Покачивало. На твёрдом и незыблемом всегда качает после долгого плаванья. Марину трясло. Это её первый полууправляемый занос. Я закурил. И понял, откуда мы вернулись… Отдышавшись, мы поехали дальше, уже по Шалинской дороге. Вернее, не мы. А другие мы. Иные мы. Обновлённые. И я в очередной раз осознал, что умирать не страшно. Страшно остаться где-то в иной и абсолютной пустоте без музыки и стихов.
Катастрофа. Человек в катастрофе. Разум в катастрофе. Душа в трагедии. Человек смертен, и уже потому небеспечен. Всё смертно. Только смерть бессмертна. И этот онтологический эсхатологический плеоназм не даёт разуму ни покоя, ни пресловутого абсолютного счастья («На свете счастья нет…»). Катастрофичность бытия очевидна, но жизнь, полная энергии разума, души и сердца, умеет превращать катастрофу, конец, гибель, смерть в нечто разовое, эпизодически неизбежное, но преходящее в силу математической иллюзии: смерть – феномен одноразовый. А живёшь-то многоразово: и биологически, и психически, и интеллектуально, и духовно, и вообще ментально и метафизически, а значит – онтологически, одним словом, все эти жизни происходят одновременно! И мощь этой витальной сущности – неизмерима.
Катастрофа – сущность (явление, процесс etc.) многовидовая и полиаспектная. От катастрофки личной, бытовой, межличностной и метеорологической до гибели цивилизации и Конца Света. Апокалипсис – категория гиперболическая, т. к. Конец Света обещает наступление Нового Божьего Понедельника. О. А. Седакова говорит, что мир кончался уже много раз и что пора подумать о том, что начинается. Действительно, сознание наше болеет катастрофизмом. (Другое дело – трагизм и трагичность мышления, особенно художественного и научного сознания). Сознание – больно́. Но и о-созновать – бóльно. Что осознавать? Где осознавать? Когда осознавать? Ради чего осознавать? Бытовое сознание – зооморфно. Бытийное, онтологическое сознание – спиритоморфно, то бишь духовно, если не божественно.
Катастрофа – движитель жизни, энергии душевной, надежды на… счастье. Катастрофы – и мизерные, и глобальные – обусловливают, организовывают, детерминируют, структурируют, систематизируют и, напротив, открывают настежь наше сознание. Любой уровень сознания ориентирован одновременно на центр, на онтологию, а с другой стороны, на Конец Света. Катастрофизм бытового сознания (ожидание Конца Света) повышает покупательский интерес к предметам питания (соль, сахар, крупа, сухари, консервы), медицины (лекарства, перевязочный материал и т. п.), освещения (свечи, фонари, спички, зажигалки, генераторы, аккумуляторы, батарейки и проч.), одежды (нижнее бельё, ватники, сапоги, валенки, постельное бельё) и т. д. и т. п. Катастрофизм социального сознания приводит к атомизации общества, населения, вообще обывательской массы. «Привычный полусон сознания» (О. А. Седакова) сменяется пробуждением прежде всего биологического начала (инстинкт самосохранения). Полусон, полуглухота, полуслепота сознания – обычное состояние человечества. Так есть. Ничего тут не поделаешь. Социальное и бытовое сознание дружат. Они любят друг друга до синтеза, до полного слияния в одно «островное» целое. Острова кланов, семей, корпораций, сообществ – дивный архипелаг. А корабль плывёт (вспомним Ф. Феллини). И командир, капитан, устанавливая основную цель и задачу плавания – похода, вынужден или силой, или подачкой уговаривать подчинённых делать то-то и то-то. Старпом даёт взятки штурману, боцману, командирам боевых частей (БЧ) или позволяет им обдирать морячков. Сколько стоит запуск двигателей, а? А кок? Сколько он берёт как за свою стряпню и толкотню на камбузе? (На Северном флоте шутили, спрашивая салаг: «Маманя, где у вас тут камбуз? – И, выходя из камбуза, у того же молодого матросика: А гальюн?»). Се наше государство. Метафора такая, да? Без взятки не поплывёшь, не выстрелишь, не поешь, не подлечишься, не отдохнёшь. Предлагаю внести в Конституцию РФ статью о необходимости коррупции, о пользе её, о жизненной важности её. Борьба с ней бесполезна: коррупционерам не победить коррупцию. Но! – Борьба борьбы с борьбой – обозначена. Даже антикоррупционные органы придуманы. Недавно президент в ежегодном официальном послании Федеральному собранию, чиновникам (2013) предложил длинный список реформ, новаций, методик, рекомендаций, инструкций и пожеланий. Все вставали (чиновники) и хлопали. Громко. И улыбались. И кивали. И радовались. И опять хлопали. Хорошо-то как, Господи! Ох, хорошо… Корабль-то не плывёт. Вот и хорошо. Застрял он в архипелаге чиновничьих интересов. Личных, конечно, и корпоративных.
Катастрофизм культурного сознания – это константа. Это – постоянное предощущение и знание Конца эпохи одной культуры и Начала другой. Культура – сердце цивилизации. Сосудисто-сердечная организация и система цивилизации. Словесноцентричная культура определяет лингвоцентрический характер цивилизации. И пока цивилизация здорова – она не думает о культуре, как здоровый человек не чувствует здорового сердца. Здоровье цивилизации – явление неоднородное: благополучие, комфорт её элитной среды всегда предполагает крайнее нездоровье и нищету её нонэлитарных сфер. С другой стороны, душевный комфорт, обеспечиваемый леностью ума, души, сытостью и роскошью, есть особое заболевание: полусон, полуглухота, полуслепота, полуэмотивность, полуразумность, полудушевность. Мы знаем, чем кончили Древние Египет, Греция, Рим и прочие…
Цивилизация и культура сегодня – разнонаправленные процессы. Сразу замечу: язык, словесность, поэзия, наука, культура в целом – сущности божественные, чудесные, вечные (в рамках планетарной вечности, как минимум). Визуализм культуры – явление объективное. «Субкультуры» – к культуре никакого отношения не имеют. Поэтому: пока культура существует – будет существовать и цивилизация. Очнувшаяся. Опомнившаяся. Голодная и холодная, больная и пыльная, но чистая душевно и душевно страдающая и страждущая красоты. Мысли о гибели нашей цивилизации (а все признаки и факторы такого конца – очевидны), мысли о Конце Света, мысли об Апокалипсисе – это мысли о культуре, о её, так сказать, «здоровье». А культура – здорова. Нездорово – общество. Общества. Государство. Государства. Т. н. архипелаги и корабли. Метафорические и вполне мифические.
Внутрикультурный катастрофизм – это аккумулятор этико-эстетической воли, замысла и божественно-художественного Промысла. С. С. Аверинцев заметил, что И. В. Гете не имел последователей, что гений – это всегда «мгновенная уникальность». О. А. Седакова почти то же самое говорит о Пушкине, отмечая наличие поэтологического сопротивления ему тех, кто «шёл» за Александром Сергеевичем. Также в одной из своих поэтологических работ О. А. Седакова говорит, что если Данте «шёл» от Вергилия (вообще от романской поэтики), то Рильке отталкивается от Орфея. (Замечу, сама О. А. Седакова как поэт [и как переводчик стихов] работает на самой верхней / высокой и одновременно на самой глубокой границе русского языка – в тех точках, где русский язык «переходит» грамматически, этимологически, стилистически, просодически и семантически – в другие языки; если В. Хлебников восстанавливал праславянский / общеславянский вариант языка, то О. Седакова создаёт некий будущий всеобщий язык). Думаю поэзия (и поэт) движется по такому пути, который является одновременно и горизонтальным, и вертикальным, многонаправленным, всенаправленным, т. е. шаровым. И генезис поэтики основывается на её шаровой генетике. Внутрикультурный катастрофизм выражается прежде всего в хронологической подвижности памяти. Памяти поэзии и памяти словесности вообще. Т. е. – памяти культуры. Когда поэтическое завтра, оказывается, было уже вчера. А поэтическое прошлое ещё не наступило – оно грядёт. Поэтому поэтическое сегодня / настоящее растворено в том, что проще назвать: Нечто. Хронотопическое и антрополингвистическое Нечто. Или – дар Божий. Талант. Словесный, поэтический талант.
Катастрофа чревата одновременно двумя исходами: Конец и Начало, когда и то, и другое бывает явлено нам в трагической оболочке. Не обязательно ждать после Конца – Новое: часто наступает старое или обновлённое старое. Катастрофа обновляет вещество сущего, содержательного, функционального. Катастрофа обнажает и освежает нравственное.
ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ»
Глава 41
Над широчайшей сферою творенья,
выйдя из сердца, вздох проходит мой:
это любовь, рыдая, разум иной
в него вложила в новом устремленье.
Воздух-паломник! Вот где тяготенье
разрешено: и перед Госпожой
в славе стяжанной, в милости живой,
в свете безмерном он теряет зренье.
И возвратившись, речью покровенной
слабо и смутно ведет повествованье,
скорбной душой неволимый моей.
Но по тому, как часто о блаженной
он поминал, я разгадал посланье:
донны мои! Так я узнал о ней.
(перевод О. Седаковой)
Внутрикультурный катастрофизм затевается гением: новое устремление вкладывается сердцем и душой в разум, изменяя гравитацию взгляда, взора, слуха, слова – вообще способа этико-эстетического познания.
Пушкин оставил после себя пустыню. Но любой (и Лермонтов, и Тютчев, и Ахматова, и Мандельштам, и Бродский, и Седакова, и Сергей Шестаков и др.) находит в ней свой оазис;
или – создаёт его. Прекрасные, безмерные, сверкающие кристаллами минералов и льда, испещрённые морщинами песчаных дюн и родинками родников, оазисов, голубыми и оранжевыми лентами рек и синими линзами озёр и окаймлённые океаном и морями – пустыни, – пустыни животворные и вселенские, – о, какие пустыни оставили нам фольклор, Гомер, римские лирики, Аристотель, Платон, арабские словесники, христианские гимнографы, Леонардо да Винчи, Данте, Шекспир, Гете, Толстой, Пушкин, Элиот, Рильке, Клодель, Мандельштам, Целан!..
Трудно, чудовищно трудно выйти к этим великим пустыням и – хотя бы пересечь их. Еще труднее рассмотреть и ощутить сердцем, разумом и душой вещество Новой жизни, Нового времени, Нового человека, продираясь сквозь оглушающий и ослепляющий гул, сверк, дрязг и дрожь государственного островитянства, национального атомизма и симфонизма и корпоративной коррупции.
Стареющее вещество цивилизации, жизни, культуры – результат исключения одного из компонентов триединого познавательного механизма-системы: сердца, разума или души. Новое вещество жизни творится только совместной работой этих трёх взаимоопределяющих субстанций. Союз разума и сердца, а чаще только разум, оголённый позитивизмом, прагматикой и аксиологией, – убивает онтологию и духовность и порождает социальные трагедии (что и происходит с Россией вот уже 100 лет!). Разум – насильник, без духовного наполнения он начинает фашиствовать.
Андрей Бауман
ЗЕМЛЯ РОССИИ
Под русским солнцем, полная зерна,
одна на всех – колымскою зимой ли,
поволжским летом, впалым дочерна, —
земля живых пойдет на мукомолье,
и с каждой жизнью отнятой старей
и горше будет делаться, из недр
ладонями своих монастырей
незрячее ощупывая небо,
глотающее лагерную пыль,
на огненных настоянную травах:
одна на всех – сестра и поводырь,
покоящая правых и неправых.
10–11 апреля 2011
И небо слепнет от ужаса. Новое вещество жизни порождается ужасом и болью, сочащейся из разрыва, из отрыва разума от сердца и души.
Тяготение старого и младогравитация нового – вот разрыв, вот сдавливание, – вот что́ мы испытываем сегодня. Сегодня и всегда.
Недавно смотрел по ТВ летний чемпионат мира, происходивший в Москве. Красиво! Сильно! И – смешно. Смешно, неловко и стыдновато было слышать гимны некоторых стран, которые исполнялись в честь победителей. Подавляющая часть государственных гимнов (восприятие мое – вне политики! – чисто этико-эстетическое) – это музыкальные маршево-одические произведения интертекстуального (т. е. заимствованного) и постмодернистского (т. е. новое – на основе известного, старого) характера. Гимн Уганды – почти «Интернационал», гимн Кении (самый красивый!) – это увертюра то ли к опере, то ли к симфоническому грандиозному сочинению, гимн США – палимпсест гимна Великобритании (Англии) «God Save The Queen». Гимн моей страны, России – это… это сталинский марш с застрявшей в мозгу (и в сердце) строкой «Союз нерушимых республик голодных…». Господибожетымой! Ну неужели нельзя создать что-то музыкальное, адекватное двуглавому орлу и флагу-триколору! Можно и старое сделать новым: «Боже, Народ Храни…» и т. д. Царские, имперские символы никак не синтезируются в систему с коммунистическим (по сути – диктаторским, сталинским) гимном. Ох-х-х…
Вот два стихотворения Сергея Шестакова, уходящие в онтологическое новое, одновременно врастая в родное, кровно необходимое прежнее, прошлое.
твоего не избегнуть прихода,
хохлома ты моя, кострома,
открывающая без пин-кода
ледяной пустоты закрома,
и, печалью пронзён троекратной,
всех земель и небес отставник
бредит музыкой синей и красной,
закипающей в венах твоих…
Здесь всё – объятие, покружное и крест-на-крест, старого и нового, т. е. недоизведанного, недопознанного, а может быть, и непознаваемого – с неведомым, незнаемым.
левая половинка лица от матери, правая от отца,
по линии, где они сходятся, разламываются сердца,
стою, держу своего осколки над головой
и думаю: ну и влип, японский городовой,
а ты берёшь их, склеиваешь, склоняешься надо мной
и шепчешь: вернётся светом, что было тьмой,
и вновь загремят на стыках скорые поезда,
и правая половинка станет твоей тогда…
Поэт сказал всё – бесстрашно, мощно, прекрасно (от «Прекрасное») и мужественно. Поэтическая стереосемантика порождает стереофабульность стихотворения. И здесь характер интерпретативности, точнее – полиинтерпретативности – параметрируется не хаосом («понимай, как хочешь»), а космосом («понимай ВСЁ»).
Человек нетерпелив. Он готов шагнуть от старого к новому – сейчас же и безоглядно. Мы плачем по старому и боимся конца. Конца всего на свете. Но мы и ждём этого конца. Жаждем его – эмоционально, эсхатологически, онтологически. И восклицаем: В КОНЦЕ-ТО КОНЦОВ, ИЗ КОНЦА В КОНЕЦ, – БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ ЭТИМ КОНЦАМ!.. – Так шутливо покрикивал, видя непорядок где-либо и в чём-либо, Винни-Пух. Нет, не тот сказочный медвежонок, а мой товарищ с таким шутливым прозвищем, морпех по имени Пётр, погибший в Юго-Восточной Азии в 1975 году.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































