Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
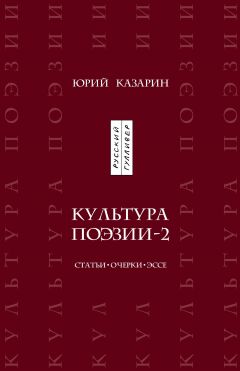
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда вода напьётся
Просыпаешься. Примеряешь на себя время и место. Всё как обычно. А душа не на месте. Не помещается в нише, оставленной телом, – в нише – твоей – в пространстве и во времени. Думаешь: время и место сии – пусты. Или – почти пусты. Тебя вроде как бы и нет. И ты – есть. Вот тело, руки, ноги, туловище, голова. И всё это явно наличествует и существует. Однако место твоё – сдвинулось. Место твоё не на месте. И время ускользает не от тебя – оно движется, но не в тебе и с тобой, а как-то рядом. Ты даже чувствуешь дуновение его. Ветерок. И – шорох места, обдуваемого временем… Заболел? Да нет, вроде всё в порядке. Что-то вчера натворил или недотворил? Да нет опять же – всё нормально… Может, умер? – живёшь в деревне один, в снегах, в морозах. Неделями никого не видишь, кроме птиц (синицы, сойки, снегири), редких котов, пересекающих заснеженный двор и оставляющих в сугробе глубокие следы, цепочки следов, ровные – как по струнке, по линейке, – да собаку, забегающую к тебе раз в день перекусить чем-нибудь, что холодильник послал. Если всё это Тот Свет, значит – ничё, жить Там (Здесь, уже Здесь) – можно.
Закуриваешь и думаешь: так что же нынче не на месте? Ты и душа твоя? Или – место и время твои? Уже – не твои… Глубокое беспокойство вдруг потесняется ощущением счастья, удачи, – предчувствием чего-то важного, что маячит где-то уже недалеко… Раздражаешься. Неожиданно для себя. Застрял между сном и явью. Душа твоя примеряет своё будущее состояние свободы от тебя. Посмертное состояние. Растираешь в пепельнице сигарету и вжимаешься лицом в подушку. Но проход в сон уже сузился – только ребёнок пролезет. Открываешь глаза – а время и место всё ещё в стороне, не с тобой, не в тебе. И ты – не в них…
Встаёшь. Кофе. Сигарета. Сигарета. Сигарета. Одеваешься – и в снег, в минус сорок, в голубоватую, сиреневатую стужу.
Солнце. И луна. Светло. Даже слишком. Между солнцем и луной натянута струнка, а вокруг неё – паутинки, с которых осыпается хрустальная перхоть пороши, посверкивающей в лучах солнца и луны. Мерцающей. Валенки поют – снег крепкий, как древесина, как италийские пинии, из которых делают скрипки. Валенки поют. Звук важный, стройный, внушительный. Звук явно значительный и значимый: два света сошлись в один – Тот и Этот, солнца и луны, снега и слезы, набегающей на мороз. Ох, тяжко! Ох, хорошо! Ох, что-то будет. Что-то случится… Вроде всё на месте. Дом, сад, лес, деревня, две реки и пруд. Планета на месте. А ты всё ещё где-то не здесь, в стороне. Сам по себе. Как обособленный член предложения. Как Узбекистан какой-нибудь после распада СССР.
А в голове ходит по кругу фраза. Нет, даже не фраза – а пара-тройка слов: «когда вода напьётся»… Тело и душа, пронизанные пением валенок и снега, томятся – не верят словам. – Когда вода напьётся?.. – они ждут чего-то другого, более важного, огромного, небывалого. Визуальное – зима, стужа, свет, кристаллические потоки воздуха и облака дыхания – оживает: оживает синицей, которая узнаёт тебя и радостно пищит, знает, что сейчас ты пополнишь птичью столовку салом, семечками, колбасой на верёвочках (сойки – две огромные – уже сидят на черёмухе, одна из них крутит своей мохнатой башкой, – жар-птицы!). Ты кормишь птиц и берёшь деревянную лопату – поправить дорожки к дровам, к бане, к сортиру, к воротам, к задней калитке, вообще к жизни, к простору зазаборному. Ты машешь лопатой – и появляется ритм. Сложный, тахикардический, спазматический и одновременно свободный, вольный, с долготами, отмашками и спорадическим учащением. Ты – сердце. Сердце этой промороженной пустыни в снегу. Сердце зимы.
И ты начинаешь обживать новое своё место, притягивая к нему своё – не своё время. Ощущение (предощущение) того, что что-то должно произойти, сменяется узнаванием (дежавю) этого чувства: ЧТО-ТО УЖЕ ПРОИСХОДИТ! – КОГДА ВОДА НАПЬЁТСЯ!.. Всё – ты уже в этом новом-старом-знакомом состоянии. Звук-звучание, слова и ритм уже есть. Теперь нужно ждать следующего, более глубокого ощущения / предощущения / переживания – иного, воспоминаемого, но незнаемого, узнаваемого, но абсолютно другого, нежели бывшее, пережитое… И ты живёшь в этом состоянии определённой неопределённости, мучительного счастья, которого всё ещё нет (и будет ли?), – в состоянии эвристической асфиксии, когда задыхание твоё – чудесно и страшновато. Ведь ты – сердце. Сердце уже не зимы, а чего-то большего. Ты живёшь (на автопилоте), занимаешься бытом, но сердце и разум твой уже в бытии, а душа – ещё дальше, выше и глубже: она пытается добыть иного вещества, или – вещества Иного, существование которого подтверждается наплывами озноба плечевого, морозцем нервным по спине, холодом под ложечкой и валидоловым сквозняком в гортани. Так и живёшь на три пространства (на три фронта): быт – бытие – Иное.
Состояние мучительной неопределенности может продолжаться (и развиваться) долго: день, неделю, месяц, год… Всю жизнь. Ты ждёшь ЭТО. Не потому, что оно тебе нужно, а потому, что оно неизбежно. Потому что так происходит с тобой и с НИМ (с ЭТИМ самым) всегда, всю жизнь, лет с трёх, с первых букв твоих, строчек, страниц и книг. Твоя растерянность есть рассеивание тебя по иным местам и временам – вот ты и выходишь из своего места и времени. Ты теперь всюду. Идёшь везде, как снег, как дождь, как свет, сумрак и не свет. До тех пор, пока ОНО не явится. ОНО – стихотворение. Рассказ. Статья. Книга. И когда ОНО начнёт появляться (проявляться, материализоваться) – твоё рассеивание соберётся в пучок, в щепоть. Ты – весь – будешь сам по себе в своей щепоти. Как карандаш, как ручка. Вот и пишешь собой.
Нет, не только собой. Пишешь ещё и чем-то ИНЫМ. Чем?.. И – что? Нащупываешь пустоты в том, что уже сказано, подумано, пропето, проплакано. Трепетная пустота неназванного (и – неназываемого) ждёт имени, чтобы наполниться смыслом, – и не только языковым, мыслительным, но и метасмысловым, метаэмоциональным, метамузыкальным и метачеловеческим. Всем тем, что приближает работу текстотворца к призрачному образцу, к метатексту, а от него – к архетексту.
«Когда вода напьётся», эта фраза по беззаконным законам метаассоциативности пробирается в язык, в языковую картину мира. Почему? Потому, что архетекст поддавливает. Гравитация Главного Текста чудовищно велика, мощна, если не всесильна.
И твой текст, которого ещё нет (его, может быть, и не будет), начинает вибрировать в уме, в сердце, в душе, в плоти. Эта Вибрация организовывает воздух, дыхание, задыхание – в мелодию, в шёпот, в бормотание, в напевание того, чего ещё нет. Да и будет ли ОН – текст?..
Если цивилизация анализирует, расщепляет, разламывает, отрезает мир от мира, то искусство – синтезирует мир в мире. Создаёт подлинное в реальном, чистое в грязном, прекрасное в безобразном, радужное в чёрно-белом (и – наоборот), живое в полуживом, бессмертное в вечном.
Текст, ненаписанный и ожидаемый, слетается к тебе – шелестеньем, шорохом, звуком вообще, первыми искрами и мерцанием смыслов, которых еще нет, обрывками грамматики / синтаксиса, налипающими на первые ростки интонации, тональностью, сгустками и пустотами языка – призраком ещё – языка, непреодолимым желанием – записать всё это, – и могучим сдерживанием себя – не сесть за стол! – неопределенностью и одновременно предчувствием результата и наслаждения записью и правкой текста, который уже есть… Однажды ты, работая грузчиком в студенчестве, нёс к подъезду дома от машины с перевезёнными вещами зеркало, 1 м×2м, и ветер нашёл твой зеркальный парус – и потащил тебя с ним, понёс прочь от дверей. Кто-то увидел это и крикнул: – Падай на спину! – Но ты упал вперёд лицом на зеркало, и оно разбилось – всё сразу, разлетелось, и всё, что было в нём отражено, рассеклось и рассыпалось. Так же и с текстом: сила, стихия поэзии несёт тебя с зеркалом 1 м×2м, в котором отразилось всё, что должно быть в тексте, – и ты должен или устоять, или упасть на спину, сохранив зеркало. Чаще падают животом на зеркало, а потом собирают осколки, как пазл – что получится?
Но – текст уже в тебе.
Райнер Мария Рильке
(Перевод К. А. Свасьяна)
Там дерево росло. О нарастанье!
Орфей поет! О дерево в ушах!
Всё замерло. Но даже в том молчанье
внимала шагу нового душа…
Сонет свой Рильке заканчивает строкой «в дремучем слухе храм ты им воздвиг»: так и есть – текст строится слухом. Комплексным и тотальным слухом – слухом слуха, зрения, разума, памяти, души, сердца, интуиции и гармонии. Орфей как материализованный (интерфизический) миф – есть СЛУХ. Слух – феномен поливалентный, субъектно-объектная широта его необозрима: слух Творца, слух Природы, слух Космоса, слух текстотворца, слух миропонимания, слух мироздания, слух культуры, слух памяти, слух словесности, слух языка, слух Архетекста / Текста, слух Духа, слух души, слух плоти, слух Музыки и слух исполнителя музыки, слух читателя, слух общества, слух литературы, слух звериный, животный, плотский, биологический, слух всех стихий (воды, огня, земли и воздуха), слух пятой стихии – Красоты / Поэзии и т. д.; и, наконец, – СЛУХ СЛУХА.
Слух гортани возрастает и крепнет. А текста ещё нет. Но! – в тебе появляются его очертания (параметры / формы) звуковые, графические, дискурсные и дискурсивные, фонетические и фоно-семантические (смыслы звуков), грамматические-словообразовательные, словесные, грамматические-синтаксические, фразовые, строфические и, наконец и слава Богу, – текстовые.
Когда читаешь, точнее – видишь, современный текст, стихотворение, – то замечаешь прежде всего отсутствие знаков препинания. И это не приём. Если стихотворение есть выдох или поток мысли, или поток речи, или ПОТОП языка – отсутствие знаков препинания оправданно. Но в 90 % всех современных текстов это пунктуационное зияние обусловлено просто свободой и крепостью новой графической традиции и моды. Словно вот уже 150 лет стихотворцы / крепостные приходят к крыльцу царя-батюшки за тем, чтобы услышать: – Крепостное право отменено! Можно знаков запинания не ставить! И так каждое утро, скажем, в 9:00 стоят понурые невольники точек и запятых и слышат: Свобода! – и ликуют, сердешные – и не ставят знаков этих проклятых. И вливаются в общую мировую традицию нон-пунктуации, забывая о том, что вольный русский синтаксис без знаков препинания безумеет, – и авторы освобождают себя от ответственности словоговорителя и смыслопорождателя: понимай как хочешь, и у меня не будет горя от ума. Перечитайте «Горе от ума».
Слух гармонии. Чувство гармонии. Мука гармонии. Гармония как некая сущность – явление (именно так: от глагола «являться / явиться») неописуемое, загадочное: мы видим только результат её появления и работу такого результата. Совокупность связей бытового, бытийного, инобытийного, биопсихологического, духовного, рационального и иррационального, эмоционального и метаэмоционального, смыслового и метасмыслового, голосового и эхолалического, визуального и звукого, музыкального и цезурического (пауза), интонационного и тонального, качественного и количественного (язык, дискурс, текст), человеческого и социального, человеческого и культурного, человеческого и божественного, материального и чудесного – вот аспектуальная радуга гармонии. (Смотрю в окно и вижу на черёмухе сойку – нахохленную и распушившуюся (–43 °C): рай-птица превратилась в серо-голубой пушистый шар – радуга, сжатая в пуховый кулак.) Гармония надвигается вся сразу и отовсюду. И текст в тебе вот-вот произойдёт. – Когда вода воды напьётся.
Человек живёт в четверть силы. Когда имеешь дело с гармонией – живёшь четырежды и враз.
Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте…
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает…
Ничтожество меня за гробом ожидает…
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно… И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.
1823А. С. Пушкин
Вот – гармония. Гармония текста, мира и целостного, но сложного, слоистого, многосферического бытия. Поэт простирает гармонию (и свою, и божественную) «В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, // Где мысль одна плывёт в небесной чистоте…». И – пугается этой абсолютной чистоты. И – удерживает зеркало текста, поймавшего и отразившего ветер ИНОГО.
И текст диктуется тебе – гармонией. Он вот-вот появится. Явится, когда вода напьётся и потемнеет тьма.
Господи, сфотографируй нас…
Третий день стоит в моей голове и не доходит до рта фраза «И хлынет смерть»… И хлынет смерть. И хлынет смерть. Смерть – это такая вода, в которую, точно, не войдёшь дважды… Но так ли это? Человек – не кошка, обладающая девятью жизнями и девятью смертями. Человек умирает не единожды: от обморока до клинической смерти, от непомерной тоски до отчаяния, от звериного – из живота самого – крика до немоты. Он живёт множественно. И множественная жизнь принимает множественную смерть.
Воздух уплотнился. Войной. Последние два-три года дышать становится всё труднее: весь Ближний Восток, Сирия, Корея, Украина и ещё десятка два мест, откуда исходит боль. Тоже множественная. Потому что, зная войну не понаслышке, понимаешь и представляешь, и видишь во сне, как много людей сегодня впустили в себя зверя, чтобы убивать и быть убитыми.
Множественная жизнь, однако, пока неуязвима. Нет, уязвима, конечно, но не тотально, хотя смерть оглаживает её со всех сторон. Со всех, да не со всех: есть ещё, слава Богу, светлая печаль и печальная красота, есть стихи и тёмное счастье переживания и познания нового – нового в музыке, в слове, в человеке. Чёрная эвристичность бытия сменяется светлой, лучезарной. Так и живёшь, уже не вздрагивая и не закрывая ладонями лицо, не мигая в чередовании вспышек темноты и света… И думаешь иногда: какая вспышка будет последней – чёрная или золотая?
Лучше бы – золотая… Я читаю стихи – себе – каждый день: утром (обязательно!) – чтобы очнуться, осмотреть себя изнутри, почувствовать присутствие души в себе, ощутить сердце (в его эмоциональном воплощении), ум (его горе и горе от него), – одним словом, чтобы вернуть себя; вечером – чтобы не сойти окончательно с ума, с души и с сердца от пошлости – социальной, персональной, толпяной и своей, – чтобы очиститься от пошлости, чтобы снять её налёт со всего в себе, что дышит и болит, говорит и радуется. Постоянное чтение стихов приводит, с одной стороны, к проявлению постоянной любви к Боратынскому, Тютчеву, Пушкину, Анненскому, Мандельштаму, Седаковой, Шестакову, Гандлевскому, Дозморову и др., с другой стороны, такое чтение выращивает новую любовь к новым стихам и возвращает забытые старые любови к Заболоцкому, Жуковскому, Баркову, Ломоносову, Кушнеру, Тарковскому и др. Новая поэтическая любовь – событие странное, происходящее – для меня – незаметно. Я долго влюбляюсь, медленно (так было со стихами Перченковой, Симоновой, Порвина, Дьячкова (Алексея), Баумана, Могутина, Шварц, Чейгина, Месяца, Чигрина, Каневского и др.). Одним словом, читатель я полигамный: к книгам Целана, Рильке, Фроста, Данте, Седаковой, Мандельштама, Новикова (Дениса) и Пушкина, которые составляют ядро моей поэтической полигамии, прибиваются, притягиваются (вот – поэтическая гравитация) десятки книг новых стихотворцев и поэтов. Самое свежее вторжение в книго-планетарную систему моего постоянного чтения – сборник стихов Анастасии Зеленовой «Тетрадь стихов жительницы». Поначалу я её полистал, выхватил глазами кое-что, подумал: «Интересно», – и отложил. Затем, однажды, в период очередной вспышки тьмы, – взял её с полки и – прочитал всю, проглотил, как в детстве-отрочестве-юности. А потом… А потом и сейчас читаю её постоянно вот уже месяца два – по одному-два стихотворения, загибаю страницы, отмечаю кое-что шариковой ручкой, – и так несколько раз в день.
солнышко – подзатыльник,
солнышко – кровь – из – носа,
Солнышко…
Что это? Откуда? Как? Почему? – вот вопросы, прорастающие в бессонницу, когда не совсем понимаешь происхождение и качество таланта, который в трёх словах (двух сложных и простом) назвал нечто выразимое в трёх томах и нечто невыразимое вовсе: от солнечного удара – до Солнечного Удара (Бунин), до солнечных протуберанцев, до взрыва Солнца, до Большого Взрыва – сквозь тепло и жизнь, сквозь сладкую соль Бытия и Природы etc.
Ты читаешь стихи Насти (именно так хочется называть поэта, обладающего детско-божественным зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом – и говорением), перечитываешь их, переповторяешь:
Иногда,
когда мы вдвоём,
так хорошо,
что хочется попросить:
– Господи,
сфотографируй нас, пожалуйста,
на память. —
возвращаешься к ним, испытывая постоянное изумление – познанию мира, себя, Бога, времени и любви. Ты идёшь на работу, читаешь лекции, пишешь словарные статьи в очередной толково-идеографический словарь, пишешь, а затем читаешь долгую лекцию (на 8–10 часов) студентам и слушателям, посетителям литературного клуба о верлибре и не-верлибре, уже любя (полюбив) верлибр и узнав, что он есть способ, не менее эффективный, нежели тоника, тонические стихи, – способ уловления абсолютной поэзии, чистой поэзии и красоты (просто тип гармонии в верлибре иной: как-нибудь в одном из следующих очерков попытаюсь кратко пересказать эту лекцию, где разбираю два стихотворения (по одному – А. Кушнера и А. Алёхина) и два десятка дифференциальных признаков верлибрического и тонического поэтического текста), ты споришь со слушателями и помнишь (помнишь так, что болит под ложечкой), что сейчас на Майдане в Киеве – бойня. Государственный переворот, подготовленный западными спецслужбами и осуществлённый силами неонацистов и наёмников (США, Польша, Прибалтика и др.). Запад (Европа и США) уверен в том, что русские хотят захватить Украину. Итальянский журналист и писатель Джульетто Пьеза (прекрасно знающий историю России, русскую культуру и русский язык) говорит о том, что западное мышление – обывательское. 90 % жителей Европы и США гневно вопрошают: а откуда, мол, вообще взялись эти чёртовы русские в Украине и в Крыму?! И почему это Крым уже захвачен русскими, которые ввели в Севастопольский порт свой Черноморский флот?! Я бывал за границей и жил там подолгу – и знаю, что средний тамошний обыватель обеспокоен – всегда – тремя вопросами: личный достаток, личная безопасность и, наконец, главное – откуда нагрянут пришельцы: из-под земли или из космоса…
Позитивизм победил. Победа – тотальная. Позитивистское мышление и поведение (мир и всё в нём – познаваемы!) доминирует ныне в политике (перестроим любой строй!), в экономике (обманем кого угодно!), в культуре (сымитируем всё, что хочешь!). Недавно таксист-узбек, провозя меня мимо синагоги, воскликнул: – О! Еврейская мечеть! – Оговорка по Абаме, Ярошу и Сашке Билому (Музычка). Правда, узбек засмущался, когда я его поправил, а вот названные господа, исторически невежественные, алчные, амбициозные и преступно меркантильные – устроили бы мне Майдан.
Поздно вечером – ночью, после телевизионных новостей с кровью и снайперами (утверждаю: чуваки с СВД и прочими волынами, ружбайками и АКМ – не снайперы, потому что снайпера не сфотографируешь, не снимешь на видеокамеру: они – как погода и пейзаж – всюду и нигде. Профессионалы), после комментариев и заявлений, чаще всего безответственных и безосновательных, – беру книжку Насти Зеленовой – и…
Хармс
В колпаке
налегке
на войну не пойду
вот – дую – ду
ай – дую – ду
хлеб
принесёшь
меня
не найдёшь
Да. Такие дела. Частная смерть Даниила Хармса (по одной из версий его гибели – он умер от голода в тюремной камере в самом начале войны, в 1941 году), смерть одного поэта, смерть поэзии позволит этому безумному миру познать вселенскую, неуправляемую, глобальную смерть войны. Потому что любая война – смерть. И – ХЛЫНЕТ СМЕРТЬ.
И незаметно зеркало во мне запотевает:
Он дышит…
И пишет, и рисует, и – стирает.
И снова дышит…
Стихи Анастасии Зеленовой коротки. Но – не короче человеческой жизни. Как всякий подлинный поэт, А. Зеленова говорит прежде всего о времени. О времени разном – и о Божественном в том числе. Поэт говорит о времени любом, и – о времени, когда времени ещё не было, и – о времени, которое есть и будет, но его уже как бы и нет: нет времени, чтобы замечать время и думать о нём. Мы слишком заняты не землёй, небом, водой и пламенем, а – войной. Гламурные и прагматичные позитивисты без войны не проживут – экономика загнётся, финансы гикнутся, частная собственность обобществится; а ведь сегодня вся планета Земля есть частная собственность политики, политиков и политиканов. Всё прибрали к рукам своим, а что не смогли – испоганили, изуродовали, измордовали.
Ювенильно-божественное мышление Анастасии Зеленовой изумляет.
у детства две доски через болота
я маленький мне страшно стой на месте
мне страшно, страшно, побежим скорее
у детства нет нестрашной ни дощечки
Ювенильное, детское, младенческое ощущение страшного и прекрасного (ужас усиливает красоту) в современной литературе и стихотворчестве почти не встречается. А. Зеленова пробует такое – детское – говорение. Мой стишок «Попробуй птичье говорение» – это от отчаяния, от невозможности воспринимать говорение взрослое, нет – сверхвзрослое (как у Бродского, который пугает, а самому ведь не страшно; страшно – в социальном отношении – видеть, как демократия пожирает себя саму). Поэзия – это доречевое, то бишь детское лингвистическое явление. Поэзия требует от поэта и языка восстановления праязыковых номинаций, из которых сохранились лишь названия стихий, души, Бога, красоты. Пусть ужасной, но – настоящей.
В книге Анастасии Зеленовой проявился, приживается и уже – точно – обитает необычный хронотоп, синтезирующий категории жизни, смерти и любви, если говорить о сфере реальности, – во вневременном пространстве и в беспространственном времени, которые, сходясь своими хронологическими пустотами, выжимают из языка прежде всего свет. Свет, не заливаемый хлынувшей смертью. Свет повсеместный и всевременной. Свет. Просто свет.
это не я грущу
это снег хрустит.
я у тебя гощу,
как сердце во мне гостит.
и можно сыграть вничью,
да знаю, кто победит.
а я не шучу.
не шучу, и даже вот тут – болит
Поэзия – часть времени. Времени как такового. И поэту бывает трудно, мучительно больно возвращаться из времени абсолютного, из времени истины и любви – в иное время. Во времена, когда смерть, нахлынув и перелившись через себя, может существовать и перемещаться сама собой, автономно, отдельно от жизни и любви.
Время вязкое, пачкает пальцы.
ничего не слеплю, ослепла.
перевести бы себя с языка на берег.
глина не знает холода
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































