Текст книги "Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе"
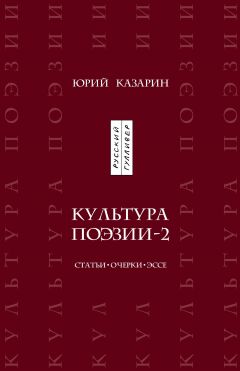
Автор книги: Юрий Казарин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Пчела ползёт по небу
Пчела ползёт по небу. Дикая пчела, залетевшая в деревенский дом, сразу набрасывается на окно, бьётся в стекло, а потом, словно замечая небо, начинает ползать по стеклу, которое плотно прилегает к небу. В дом время от времени залетают пчёлы и осы – поползать по небу. Раз в неделю обязательно. Слышишь: гудит осинопчелиная душа, стучит в стекло мохнатый лоб пчелы или чёрная лысина осы. А небо – вот оно: прямо перед тобой. Оно светоносно и притягательно. Из неисчислимого количества, из чудовищно огромного множества пчёл и ос только единицы ползают по небу. По стеклу, прилипающему к небу. Остальные работают на воле: гудят, поют и ноют в цветах, кустах и травах. Им небо ни к чему. Им повезло – не знать и не хотеть неба… А моя пчела уже выкрестила небесный квадрат, помещённый в окне, много раз. Устала. Остановилась. Сидит вертикально на кресте оконной рамы и о чём-то думает. Может быть, думает свои пчелиные стихи.
Я хожу за стихами к костру. Развожу огонёк в железном ящике на четырёх ножках под банным навесом. Сижу в старом бросовом кресле, плюшевом, мягком, удобном и некрасивом, курю сигаретки и смотрю в огонь, на дым, на воздух, волнующийся над костром: он волнист, как стекло. Как стекло, прилипшее к небу. Моё окно – садовое. Сад – окно. Но сознание моё, поползав, как пчела, по воздуху – стеклу – небу, – ширится, растёт и становится миром, – миром иным, невидимым. Миром, который больше Вселенной. Сознание – безмерно. А над водой, у огня и под звёздами – бесформатно, но вполне формализовано – языком, ритмом, музыкой, стыками просветлений и затемнений, ознобами древесными и плечевыми, тишиной и шелестом тишины, шёпотом и птичьим порхом, вскликом, взмывом вверх и втеснением в пихту, в яблоню, в куст жимолости, в густую одуванчиковую толпу, в черёмуху чёрную – огромную и в черёмуху красную – пирамидальную, в вишню жёсткую, как лавр, и в осинку трепетную, непоседливую, которая непрестанно топчется на месте, – в рябину большую и в рябинку малую, которая поворачивает ко мне свои листья – кисти – пятерни, когда я выхожу на крыльцо.
Сознание моё – воспроизводимо. Оно, пробиваясь сквозь память, впадает в дежавю, но не всё разом, а как-то ленточно, чересполосно, источая нечто чёрно-белое, длинное и беззвучно шелестящее, как ленточки на бескозырке. Сознание воспроизводится, когда работает механизм дежавю, репрезентируя тысячи вариантов Вселенной, Бытия, Бога, Духа, Быта, Ситуации жизни – смерти – любви и – И! – языка. Дежавю – это проявление этимологии, или внутренней формы ПРОТОХРОНОТОПА. И уж коли нам кажется, что пространство нам ведомо, нами изведано и знаемо, то мы воспринимаем ДЕЖАВЮ как коренной, корневой, базовый морф / компонент / институт ВРЕМЕНИ, ПАМЯТИ и генетической принадлежности одновременно БЫТИЮ и ИНОБЫТИЮ, а также всем вариантам, мыслимым и немыслимым, сущим и бывшим, предполагаемым и грядущим – вариантам существования и наличия, то бишь БЫТОВАНИЯ как такового.
Пчела ползёт по небу – вот моё дежавю, вот моя Вселенная в данный миг, вот моя судьба как человека пишущего. И я ползу по зеркалу моего сознания, зная, что я ползу по небу.
Я пытаюсь поймать пчелу. Осторожно прихватываю её тряпочкой и снимаю с креста оконного – с креста познания. Познания чего? Прежде всего пустоты толщиной в оконное стекло. Этот стеклянный зазор между пчелой и небом притягивает меня к себе. Я отпускаю пчелу – с крыльца. Она делает вираж и – свечку – с виолончельным губно-губным гудением. Пчела полетела к своим. Примут ли?
Я учусь думать, как думает дерево, птица, вода, забор, электропровода на столбах, огонь, постройки, воздух и земля. Я думаю их думу. И начинаю понимать, что моё пчелиное дежавю есть дежавю и растений, и света, и стихий. Такое «универсальное дежавю» обычно свойственно не всем: 99 % живых существ, наречённых homo sapiens, думают не думу, а деньги, дурь и хрень цивилизации в гламурно-вульгарном варианте. Я глажу ладонью стекло, и мне кажется, что оно всё ещё вибрирует от недавней, свежей походки пчелы. Я стучу указательным пальцем в оконное стекло – и оно гудит. Оно – это небо. Небо гудит. Гудит с под-звоном, нежным и долгим. Иные (99 %) это стекло протрут или занавесят, или разобьют по пьянке к чёртовой матери. Протрут небо? Занавесят небо? Разобьют на мелкие осколки небо? – Нет, они думают не о небе, а о деньгах etc…
Вещественный мир становится вещим, когда художник думает вещам навстречу, думает в них, думает сквозь них, – а вещи, в ответ, думают в художника, думают сквозь него, – вот ментально-этико-эстетическая ось подлинного сознания и подлинной возлюбленной и смертельной жизни.
Колеса скачут предопределенно по рельсам,
Подражая мне в неподсчитанном доверчивом ритме,
Но, наверное, пересказывая только вычитанное из вечерних газет.
Ничто никуда не ушло, пробыв без меня целый месяц.
Даже стадо коров по тем же лужайкам раскинуто осенними
листьями;
Коровьи хвосты явно торчат стебельками,
Увертливые поля сторонятся ползком,
Сверчки и кузнечики размножают на своих пишущих машинках
статьи из столичной газеты.
Сжатые поля уже отделаны под заячий мех в подборку с лисьим,
А горизонт укутан голубым песцом.
Как и во всем: чем дальше, тем изнеженнее и дороже.
Вагоны тянут за собою кривоугольные тени,
Будто увозят за собой на север чернозем.
А ветер, поигрывая сушеными бахромками кукурузы,
Выдергивает, пробежавшись, запонку из щелки моего воротничка.
Птицы издеваются над березами и дубами.
Добродушные березы позволяют делать с собой все,
что захочется озорникам;
Изредка понатужившись, пытаются стряхнуть с себя надоедливые
лапки воробьишек.
Сергей Нельдихен создаёт уникальное СУЩЕСТВО СТИХОТВОРЕНИЯ, в котором синтезированы три жизни: мира, человека и языка. Чудо это создано ОБЩИМ СОЗНАНИЕМ множественного субъекта-объекта поэзии. Чудотворительна здесь музыка (просодия) верлибра, восходящего к былинам, притчам и сказам: поезд, сердце поэта, общий ритм стука колёс и хода крови – вот движитель хода поезда, земли, человека, голоса, растений и птиц. Триединое дыхание текста усиливает дежавю Божественного Хронотопа до умопомрачительной стереоскопии звука – смысла – духа. Нежные, надоедливые лапки воробьишек – довершают лепку времени иного, нового, небывалого. Времени вечного. Голоса вечного. Движения вечного.
Природа – абсолютно толерантна и политкорректна: сороки разоряют гнёзда моих овсянок – природа молчит; коршун бьёт пожилого рыжего хомяка и уносит его в бор, в гнездо с одним птенцом – природа молчит; американский жук жрёт ботву картошки – природа молчит. Но! – Однажды два моих знакомых (один уже помер, а другой ищет вот уже семь лет счастье в городе Асбесте) срубили одну из облепих, которые, как известно, растут парами, т. к. являются разнополыми. Я посокрушался, обматерил мастеров-долдоедов, махнул рукой и ушёл на рыбалку – подальше от представителей мегаполиса Екатеринбурга и микрополиса Асбеста… Через месяц оставшееся дерево облепихи – раздвоилось: нижняя толстая ветвь стала самостоятельным стволом автономного растения, – семья облепих, так сказать, воссоединилась. А долдоеды мои были навсегда отстранены от садовых работ. Дерево оказалось умнее людей!.. Природа стерпела и перехитрила дураков. Но: природа умеет мстить. Вспомним катастрофические природные катаклизмы (ураганы, цунами, извержения подводных вулканов etc.), которые чаще всего происходят в Северной Америке и в одном из островных государств Дальнего Востока: Природа карает насильников своих – всех, кто прёт против Неё.
Что такое государство с точки зрения деревенского жителя, то есть моей? – Это толпа обывателей, объединённых общей геополитической, экономической и социальной мечтой. Государственному обывателю нужны: личная безопасность, материальная обеспеченность и точное знание, откуда нагрянут пришельцы – с неба или из-под земли. Если пришельцев нет, то гособыватель, в силу избирательности своей толерантности и политкорректности, находит их в соседях, в соседних государствах, а коли таковые на их вкус хороши и удобны, то – в России. Особенно это касается гособывателей-англосаксов, которые Россию ненавидят всегда, всюду и по любому поводу. Почему? – А потому, что у России много земли и того, что на ней и в ней. Толерантность евроамериканского менталитета (уважаемого всеми; хотя что уж там уважать: Америку сделали дороги и кинематограф, – сентенция известная; кино, как известно, забава для ленивых и для дураков; ну а дороги – это хорошо, этого в России нет и не будет: климат здесь хреновый;
к тому же плохие дороги обеспечивают высокую рождаемость дураков, воров и подлецов), – политкорректность евроамериканского менталитета, терпимость, так сказать, и доброжелательность – превращаются в Бог знает что при соприкосновении с евразийской сущностью России, с её (пока ещё) могучей самобытной культурой, с её способностью ложиться под трагедию и проходить любую катастрофу насквозь (Мамай-Орда, германцы, скандинавы, Кавказ, Наполеон, Турция, франкотуркоанглосаксы, Революции, Ленин, Сталин, Гитлер, Ельцин и проч.). Хочется напомнить стихотворение Пушкина «Клеветникам России», столь не любимое либералами и англосаксонскими нефтелюбцами.
КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Стихотворение – свежее, горячее, злое, весёлое и – сильное. Бедная Украина, переживающая очередной – четвёртый передел собственности (в России их, благодаря Ельцину, было тоже четыре); организованный США, – Бедная Украина, напуганная до смерти и измордованная националистической шпаной!..
И ещё: культура выдавливается из любого государства политикой, экономикой, войной, жратвой, Интернетом, TV, наркотиками, дорогами, кинематографом и дураками. Александр Кабанов, выдающийся поэт, живущий в Киеве, печалится о том же: о культуре, о её уходе прочь из сих загаженных цивилизацией пределов.
Потеряется время в базарной толпе,
с кошельком прошмыгнет поговорка.
Что отмеряет райская птица тебе,
чем накормит сорока-воровка?
Пересохла гортань от черствеющих крох,
и зовет меня в новые греки —
этот ямб долговой, где сидит Архилох,
дважды кинутый по ипотеке.
Тополей узкогорлые амфоры я
запечатаю песней сургучной:
«Отплывай Терпсихора в чужие края,
не печалься о Греции скучной…»
Здесь цезуру (как стринги) не видно меж строк,
и блестит миноносец у пирса —
будто это у моря проколот пупок,
будто это встречают де Бирса.
Отплывай Терпсихора в чужие края,
позабудь беспределы Эллады,
и кому-то достанется нежность твоя,
от которой не будет пощады.
Но! Время ещё не потерялось в жратве и толпе. Но! Гортань ещё не пересохла. Но! Беспределы т. н. государств (а) ещё сдерживаются красотой. И – нежностью. От которой не будет пощады.
Пчела ползла по оконному стеклу. Вверх. Стекло пропускало сквозь себя небо. И поэтому казалось, что пчела ползёт по небу. Небо было черно-белое. Собирался дождь. Первые капли, налетая с юга, били в стекло, разбивались, плющились и текли вниз. Небо текло вниз – навстречу пчеле… Я поймал в тряпочку небесную пчелу, вышел с ней на крыльцо и встряхнул тряпочкой над вереском, росшим под высоким крыльцом. Тряпочка выпала из руки. Пчела улетела, ловко обходя редкие капли дождя. Тряпочка накрыла верхушку вереска – он стоял теперь как бы в косыночке. От дождя… И тут вдруг – откуда-то с востока, где небо было ещё недождевым и синим, – я уловил давно забытые три строчки Басё. Ровно десять слов.
В день рождения Будды
Он родился на свет,
Маленький оленёнок.
Главный забор
Мне снится сон, где я в запое. Брожу по опустевшему городу. Сумерки. Я знаю, что это сон: он снится мне не впервые. Помню – во сне, – что скоро встречу Сашу, друга моего, умершего дюжину лет назад. Мы, встретившись, удивимся друг другу – особенно он: будто Город этот пустой и какой-то готический, острый к небесам, серый и мрачноватый, – этот Город – его, а не мой. Мы поздороваемся, и я, как всегда, стесняясь и заикаясь, попрошу у него денег, и он незамедлительно даст их мне, будто приготовленные заранее. Я смущусь ещё больше – до слёз. И – вспомню: Саша ведь умер! Где это мы, и что это мы, и как это мы?! Я кладу деньги в карман куртки, как всегда, в левый, внутренний, нагрудный – и услышу стук. Постукиванье. Молоточком по гвоздикам, когда гвозди входят в мягкое старое дерево досок. – Забор?! – Да, – вспоминаю я во сне: это сосед подправляет наш забор, который скорее соединяет, чем разгораживает нас, добрых, без сомнения, соседей… Саша смотрит в меня и говорит, но не голосом, а жестом: пошли, мол, отсюда, из костёла этого со сводами, открытыми небу. Между нами – колоннада, и Саша показывает, подсказывает: иди по своей стороне, а я – по своей; видишь – выходы: твой и мой… Ты и я выйдем отсюда – и встретимся там, на воле, снаружи… И опять я обманываюсь – спешу по своей стороне к выходу. Выхожу – а Саши нет. Обманул. То ли остался там, внутри, то ли выскочил оттуда раньше меня – и ушёл… А молоточек стучит. И я просыпаюсь. Выхожу во двор и иду к соседу Валентину вдоль забора, и он, увидев меня, идёт ко мне по своей земле, с той стороны. А я – со своей…
Идём вдоль забора среди трав и кустов под пасмурным, но настоящим небом. Улыбаемся. Идём к дыре, к проёму в заборе – поздороваться, каждый со своей стороны – в заборной пустоте пожать друг другу руки, поулыбаться, поговорить. Спросонья я накинул старую куртку, сую руку во внутренний левый карман чтобы вынуть пачку сигарет, а её там нет, а есть там что-то иное – бумажки. Достаю – деньги! Мелочь какая-то, сдача из сельпо. Господибожетымой! Смеюсь, смотрю на соседа, а глаза у нас у обоих серьёзные, молодые и чуть настороженные, если не напуганные. – Добрый вечер!..
Валентин – мой южный сосед, точнее – юго-юго-западный. А вот с западным соседом всё не так: между нами нет забора вообще. Сначала была натянута сетка-рабица (я тянул), потом я воздвиг по тыльной стороне дома два навеса – малый и большой, которые обозначили границы наших с западным соседом владений. Восточный забор мой – он дощатый, плотный и достаточно высокий: за ним мой восточный сосед слушает «Beatles» и на 1–9 мая вывешивает красный флаг СССР (я как-то осерчал и в честь Северного флота, где служил срочную, поднял на севере моего участка-двора Андреевский флаг). Северный мой сосед – отсутствует: не видал его уже лет 7–8, там всё к чёрту заросло, но забор – стоит. Его забор. Вот посыплется – буду ставить свой заборишко. Есть и ещё сосед – чисто южный. Редкий гость. Наша с ним граница – забор длиною метров 12–15 (лень померить). Итак, с живыми я граничу на земле по заборам. И переговариваемся через заборы (реже – заходим, но не в гости, а пожать руку). Южные соседи для меня абсолютно материальны, западный сосед – визуален, восточный – виртуален («Beatles» и красный стяг), а северный – умозрителен. Поскольку я живу в деревне постоянно, а остальные – дачники, то степень «живости», «жизненности», «жизни» вообще этих людей определяется их наличием (спорадическим; самый «живой» сосед – Валентин и его жена Люба) или отсутствием. Степень «живости» живых – категория относительная. Всё равно я их вижу наяву или знаю, что они где-то есть, живут, работают etc. Другое дело – с мёртвыми.
Другое дело – с умершими. Живые и мёртвые. С живыми живёшь и умираешь. С мёртвыми – просто живёшь. Живые знакомцы забываются, исчезают. Мёртвые – родные, близкие, дорогие – всегда с тобой. Они помнятся. Поминаются. Они напоминают о себе. Их лица проступают в лицах живых. (Как лик – в лице). Они встречаются тебе (или не они, но похожие на них) где угодно. И они, наконец, снятся. Мой посталкогольный сон с покойным Сашей (а не пью я полтора десятка лет) – дежавю. Дежавю жизни. Дежавю смерти. Мне часто снится моя покойная мать. Сон типовой: мама возвращается из сада, с рюкзаком на спине, в бордовом плаще и в золотой косынке, накрученной на голову банданой. Видок ещё тот. Я стою на балконе пятого этажа той квартиры, где мы жили ещё с отцом, до бегства от него. Мама останавливается под балконом (она стоит на тротуарчике, ведущем не к подъезду, но – мимо, мимо, мимо. Она машет мне рукой, я жестом зазываю её в дом, к себе, на пятый этаж этой милой, старенькой, родной и проклятой квартиры (отец!). Но мама качает головой и машет рукой: мол, всё – я пошла. Я кричу ей: – Подожди, я – с тобой!.. Но она улыбается, опять машет рукой – уже прощально, – и – уходит. Всё. Просыпаюсь… Иногда мне снятся Иван и Володя (Ванька с Вовкой), с которыми мы прошли вместе дисбат и пять командировок (Иван погиб три года назад, а Володя – в прошлом году). Они – живые. Мёртвые живые. Такие дела.
О встречах наяву с покойными Эрой Васильевной Кузнецовой, одним из моих учителей в науке, и с матерью моего товарища тётей Олей я уже писал… Живые мои покойные бабушка и дед ведут себя куда как проще, явленнее и знакомее. Дед и бабка (по матери) воспитали меня. Во всех смыслах. После смерти они почти не снятся мне. Но они – постоянно помогают мне. Словом. Так, дед будит меня, приводя меня в память и в полную превентивно-медицинскую готовность, – перед ночными сердечными приступами. С детства, ещё в жизни, дед будил меня по утрам (очень рано – то на покос, то на огородные работы, то на рыбалку), заходя в мою комнатку и зовя меня полушёпотом-полуголосом по имени. «Юрик!..», «Юрик!..» Всегда – дважды. Иногда я просыпаюсь ночью от его голоса: «Юрик!..», «Юрик!..» – и принимаю экстренные лекарства. Меня не удивляет такое «общение» с дедом: он всегда заботился о всех нас. И, может быть, так же предупреждал об опасности мою мать. Да. Наверняка.
Бабушка всегда помогает мне в мутные и тяжкие часы бессонницы. Однажды, так вышло, я не спал (или толком не спал) семь недель. Транквилизаторы не помогали. Алкоголь – тоже. И вот, как-то ночью (это была белая уральская ночь, точнее – серая), когда отчаянье моё достигло предела, когда, казалось, череп мой и мозг мой выросли до размеров комнаты, в которой я лежал на топчане, – и уже вспучили потолок и начали сдвигать, раздвигать стены, – я вдруг увидел на фоне светлой стены силуэт человека, скорее женщины, который голосом бабушки промолвил: – Юрик, повернись на правый бок – и спи… Я лёг на правый бок – и уснул. Вот и всё. Всё очень просто…
Мы идём с Валентином вдоль забора – каждый по своей земле, по своей жизни, – две жизни идут по общей жизни, разделенной забором. Сколько в этой жизни заборов? Видимых и незримых? Щелястых, с дырами и провалами, и непроницаемых? Видимо, есть в жизни и такой забор – Главный Забор, – через и сквозь который ходят только художники. Туда – сюда. И обратно. Такие дела.
«Жизнь после жизни». «За смертью». «Сквозь смерть». Тот и этот свет. – Всё это эзотерика. Невозможность познать ТО, ЧТО ПОЗНАЁТ ТЕБЯ. Смерть – это непознаваемая, но конститутивная часть жизни. Живые и мёртвые – едины. Они ходят вдоль одного и того же забора, но с разных сторон. Мы заглядываем туда, они – сюда. Вещество жизни – субстанция комплексная, неоднородная. Смерть заглядывает в жизнь через сознание, через душу. Сознание – это проём, щель, дыра в Главном Заборе.
…И дверь впотьмах привычную толкнул —
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? – и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился– и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.
А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: – Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. – И место указал.
– Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: – Не говори, чего не знаешь.
Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины и мед
и холодец из поросячьих ножек.
Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.
В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали все ясней,
как будто жить грозило ей – а ей
так не хотелось уходить обратно.
И я сказал: – Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду – и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
– Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, – узнаешь – содрогнешься.
И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел – но двери распахнулись,
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей – и слезы навернулись.
И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял – а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.
Олег Чухонцев1975
Великое стихотворение. Сон – несон, жизнь – нежизнь Олега Чухонцева. Главное в нём – наличие двух пространств: место жизни и топос смерти. Но! – Время – одно: время существования двух топосов – едино! И это отрицать невозможно. И живые, и мёртвые существуют в одном времени. И живые, и мёртвые пользуются одним временем – ОДНИМ ВРЕМЕНЕМ. Покойный отец говорит поэту: – Не говори, чего не можешь знать, – // услышал я, – узнаешь – содрогнёшься. – Интенционально эта фраза есть призыв к поэту: говори, говори, говори – и содрогнись!..
Юрий Кузнецов пишет – и содрогается.
Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий или бес.
– Пиши! – он так сказал и подмигнул хитро. —
Да осенит тебя орлиное перо.
Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой.
Но горний лёд мне сердце тяжелит.
Душа мятется, а рука парит.
1974
Высота – объективная, онтологическая – всегда переходит в Глубину. Координаты вертикали – вот положение топосов жизни и смерти. Единое время позволяет жизни и смерти соседствовать, быть рядом, быть вместе. Смерть познаёт тебя, сознающего жизнь. Когнитивная тавтология ускоряет процесс познания себя как единства жизни и смерти. Жизнь, пронизанная болью, вполне адекватна не-жизни. Но чему? – Отчаянье вводит поэта в состояние трансгрессии и позволяет ему делать загляд из жизни в смерть, из смерти – в жизнь. Вся художественная словесность – двувзглядна. Двойной (и – множественный) взгляд поэзии – очевиден. И объективен. И – онтологичен. Юрий Кузнецов как раз соединил эти два взгляда жизни и смерти – в один, – в стихотворении «Урод».
УРОД
Женщина, о чем мы говорили!
Заказали скверное вино.
И прижались в этом зимнем мире
Так, что место заняли одно.
Только шли минуты год за годом,
Каждый душу сохранить хотел.
И с одра морщинистым уродом
Встал, как лишний, след от наших тел.
Нацепил пальто и хлопнул дверью,
И открылся перед ним простор.
Род людской, наверно, будет верить,
Что его количество растет.
1968
Жизнь и Смерть обитают в разных местах. Но – повторю – Время у них – одно. Именно Время может являть Сознанию некое Жизнесмертие.
Две недели назад умер Петя Сульженко. Мы дружили с ним с 1977 года. 37 лет. 37 лет – жизнь Пушкина. Огромное количество времени, пространства, книг и словесности – устной, эпистолярной, телефонной, СМСной, а главное – мысленной, внутренней речи, диалогической и монологической. Мы оба писали: сочиняли стишки, рассказы, повести, пьесы, романы, зная, что нас никогда не опубликуют в СССР, а о книгах своих – и не мечтали. Он умер во сне. Остановилось сердце. Он умер наяву. Он умер в жизни оттого, что жизни было мало: её почти не было, потому что не было любви, дружбы и сочинительства. Он родился и мужал в Абхазии (мать – украинка, отец – эстонец, а сам Петя, без сомнения, русский), учился в Свердловске, после распада СССР жил с женой и сыновьями в Вятке (в Кирове); потом, уйдя из семьи, жил в Сочи, в новой семье. Не прижился. Мы часто говорили по телефону, и он постоянно спрашивал меня: – Помнишь, как там у Фолкнера, у Твена, у Хемингуэя, у Чапека?.. Я не был на его похоронах. И он мне пока не снится. Жду. Жду его рукописи, дневники, чтобы как-то разобраться с тем, что было им написано. Жду. Жду, когда его смерть и моя жизнь войдут друг в друга и явят время. Время иное, новое, неизведанное. Время, стремящееся к бесконечности.
ЖАЛОБА С ПРОЩАНИЕМ И ПОСЛЕСЛОВИЕМ
Э. В. и И. Б.
Вылечи, Господи. Вылей глаза, развали.
Жалости нет выхлопное железо раскрасить.
Люди ворчали, включали в семейные страсти.
Год понедельника голубя ловит в пыли.
Видишь ли, Господи, я посмотрел на себя
в щель воровскую, мне стало обиженно страшно.
Если не врёт теоретик – я жил понаслышке,
избранно нищим на дне поцелуйного дня.
Вылечи, Господи. Нежный огонь в небесах
я разумею, но дай мне остаться с Тобою
облаком бешеным, ниткой, пчелой, пристяжною.
Только не Словом – Смерть приходила в слезах.
(Стихотворение Петра Чейгина)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































