Текст книги "Тургенев"
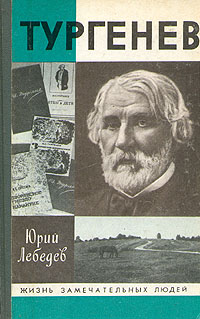
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
– Наша публика – мещанин во дворянстве. Для нее хорош Грановский, да не дурак и Шевырев… Лучшим она всегда считает того, кто читал последний…
Славянофилы праздновали победу. Друг А. С. Пушкина, поэт Н. М. Языков, восхваляя «жреца науки и воина правды» Шевырева, призвал его не смущаться врагов-западников:
Твои враги… они чужбине
Отцами проданы с пелен;
Русь неугодна их гордыне,
Им чужд и дик родной закон,
Родной язык им непонятен,
Им безответна и смешна
Своя земля, их ум развратен,
И совесть их прокажена.
«В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни „славяне“, ни мы не хотели больше встречаться, – рассказывал Герцен, – я как-то шел по улице, К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. „Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься“. Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры».
Анненков вспоминал, что «с Грановским дело было еще замечательнее. К. Аксаков приехал к нему ночью, разбудил его, бросился к нему на шею и, крепко сжимая в своих объятиях, объявил, что приехал к нему исполнить одну из самых горестных и тяжелых обязанностей своих – разорвать с ним связи и в последний раз проститься с ним, как с потерянным другом, несмотря на глубокое уважение и любовь, какие он питает к его характеру и личности».
Раскол западников и славянофилов, по законам диалектики, на пределе обострения противоречий породил тенденцию к грядущему снятию их: и внутри славянофильства, и внутри западничества возникает некоторое брожение и намечается поляризация.
После разрыва в 1845 году славянофилы – братья Аксаковы, Хомяков, братья Киреевские и Самарин – окончательно расходятся с идеологами «официальной народности» – Погодиным и Шевыревым, – делая тем самым существенную уступку западнической партии, доказывающей несостоятельность догматических воззрений Погодина и Шевырева на разлагающийся Запад и процветающую Россию. В «Обозрении современного состояния литературы» И. В. Киреевский показывает нелепость нигилистического взгляда Шевырева на европейское образование и даже подвергает сомнению исключительное преобладание в западноевропейской жизни принципа эгоизма. Отчуждение от Европы, к которому стремятся сторонники «официальной народности», он считает ничем не обоснованным и не сулящим России ничего, кроме бедствия: «любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей – обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно-христианскому просвещению».
Западники же обращают внимание на демократические стороны учения славянофилов. Летние месяцы 1845—46 гг. западники проводили время в беседах и пирах на подмосковной даче Герцена Соколово. Однажды, во время прогулки по окрестностям усадьбы, молодые господа остановились на кромке хлебного поля перед крестьянками, которые, не обращая на них внимания, жали рожь в открытых сарафанах. Кто-то пренебрежительно заметил, что только русская женщина ни перед кем не стыдится, а потому и перед ней не стыдится никто. Грановский вспыхнул и сказал: «Факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до этого и кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе, распространяющей презрительный взгляд на народность». Грановского горячо поддержал Герцен, который признавался, что он никак не может понять ненависти Белинского к славянофилам. Еще в дневнике от 17 мая 1844 года Герцен записал: «Странное положение мое»: перед славянофилами «я человек Запада, перед их врагами я человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся». Утверждая, что призвание интеллигенции быть адвокатом народа, Герцен подталкивал русскую литературу на тот путь, по которому она пошла тургеневскими «Записками охотника». Герцен одним из первых в среде западников правильно оценил значение поднимаемых славянофилами тем. Он же первым и обратился к их художественному освоению в конце 1845 года, создавая антикрепостническую повесть «Сорока-воровка». Эту повесть Герцен предложил в январе 1846 года Белинскому в задуманный им, но не изданный альманах «Левиафан». Так получилось, что сокровенные чаяния и заботы славянофилов литературное свое воплощение получили впервые в творчестве западников.
Вместе с тем внутри западнической партии обнаруживался назревший раскол на либеральное и революционно-демократическое течения. Разногласия возникли по социальному вопросу. Герцен связывал учение славянофилов о крестьянской общине с идеями западноевропейского социализма, полагая, что Россия может успешно миновать капиталистический фазис развития. Грановский спорил с Герценом, считая отрицательное отношение к буржуазии в русских условиях преждевременным. Белинский сильно колебался в этом вопросе между Герценом и Грановским. В Париже союзником и решительным сторонником Герцена оказался Михаил Бакунин. Что же касается Анненкова и Тургенева – они с большой осторожностью и недоверием отнеслись к социалистическим идеалам Герцена. Воинственный характер его учения, подхваченного Бакуниным и развитого до последних логических выводов, внушал Тургеневу большие опасения. Казалось, что революционная буря в российских условиях приведет к истребительному походу на цивилизацию.
Бакунин между тем стал деятельным участником польского освободительного движения. Его блестящие агитаторские способности повергали в изумление поляков. Он стоял в центре революционной работы, хотя его программа и расходилась с узконациональными стремлениями польских патриотов. Бакунин мечтал о сближении всех славянских революционных партий в общей борьбе против их правительств.
29 ноября 1847 года, в очередную годовщину польского восстания 1831 года, революционные польские эмигранты пригласили Бакунина выступить с речью на их традиционном собрании. Бакунин с готовностью ухватился за это предложение и произнес речь, направленную против общего врага русских и поляков – российского самовластия:
– Для меня не тайна, насколько Россия непопулярна в Европе, – заявил Бакунин. – Поляки смотрят на нее как на одну из главных причин всех своих несчастий. Независимые люди других стран в столь быстром развитии ее могущества видят непрерывно растущую опасность для свободы народов…
– В Европе обычно думают, – я это знаю, – что мы составляем с нашим правительством нераздельное целое; что мы чувствуем себя бесконечно счастливыми под властью Николая; что он и его система угнетения внутри и завоевания вовне являются истинным выражением нашего национального гения.
Ничего подобного на самом деле нет.
Нет, господа, русский народ не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Ибо, если бы он мог чувствовать себя счастливым в том унизительном положении, в какое он поставлен, то он был бы самым подлым народом в мире. Нами тоже правит иностранная рука, государь – немец по происхождению; он никогда не поймет ни нужд, ни характера русского народа; его правление, представляющее своеобразное сочетание монгольской жестокости с прусским педантизмом, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные всех политических прав, мы не пользуемся даже тою естественною, так сказать, патриархальною свободою, которою пользуются наименее цивилизованные народы и которая по крайней мере позволяет человеку отдохнуть сердцем в родной среде и целиком отдаться инстинктивным влечениям своей нации. У нас ничего этого нет: ни одного естественного жеста, ни одного свободного движения нам не разрешается.
Нация слабая, истощенная могла бы нуждаться во лжи для продления жалких остатков своей угасающей жизни, – продолжал Бакунин. – Но Россия, слава Богу, еще не дошла до такого состояния. Характер этого народа испорчен лишь поверхностно. Стоит только этому сильному, могучему и юному народу разрушить препоны, какими осмеливаются его окружать, чтобы проявить себя во всей девственной красоте, чтобы развернуть все свои неведомые сокровища, чтобы показать, наконец, миру, что не во имя грубой силы, как обыкновенно думают, а во имя всего, что есть самого благородного и самого святого в жизни нации, во имя человеколюбия, во имя свободы русский народ требует себе права на существование.
Господа, Россия не только несчастна, она и недовольна: терпение ее истощено…
Речь Бакунина неоднократно прерывалась взрывами аплодисментов и восторженными криками, когда он перешел к характеристике антинациональной сущности самодержавия.
– Эта система правления, кажущаяся столь величественной извне, внутри бессильна; ничего ей не удается; все предпринимаемые ею реформы оказываются мертворожденными. Имея своею основою две низменные страсти человеческого сердца – продажность и страх, чуждая в своих делах всем национальным стремлениям, всем жизненным интересам и живым силам страны, власть в России с каждым днем своими же собственными действиями в ужасающей степени ослабляет и дезорганизует себя. Она теряет самообладание, беспомощно топчется на месте, каждую минуту меняя проекты и идеи: начинает сразу кучу дел, ни одного не доводя до конца. Только способностью творить зло щедро одарена эта власть, и она широко ею пользуется, точно сама торопится приблизить момент своей гибели. Чуждая и враждебная стране, она обречена на близкое падение!
Бакунин называл в своем выступлении революционные силы России – крестьянство, недовольное крепостническими порядками, разночинную интеллигенцию, армию, лучшую часть дворянства.
– Господа, – заключил Бакунин, – от имени этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. Да придет же день, когда русские, объединенные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную польскую песнь, этот гимн славянской свободы: «Еще Польска не сгинела!»
Речь Бакунина завершилась овацией, а затем она была опубликована во французской и немецкой печати. 5 декабря 1847 года русский посол в Париже П. Д. Киселев по указанию министра иностранных дел К. Р. Нессельроде потребовал от правительства Гизо высылки Бакунина из Франции. Несмотря на протесты демократической общественности, Бакунин был выслан из Парижа и вместе с Тургеневым уехал в Брюссель.
Но связи с польскими эмигрантами продолжались и здесь. Гостями Бакунина и Тургенева в брюссельской гостинице были Лелевель и Тышкевич, а также Михаил Лемпицкий, вызывавший у Бакунина особую симпатию. С ним Бакунин говорил о роли крестьянской общины, призванной стать основой социалистического устройства славянского союза, о непохожести общинного начала на фаланстер Фурье и другие формы общежития, предложенные французскими социалистами.
В Брюсселе Бакунин навещал Маркса, но общего языка с ним не нашел, а его упреки в «мелкобуржуазных представлениях» счел «теоретическим высокомерием». 14 февраля 1848 года Бакунин присутствовал на собрании поляков в память пяти казненных декабристов и польского патриота С. Конарского, расстрелянного в 1839 году. В своей речи он говорил «о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир», пророчил близкую революцию, неминуемый распад Австрийской империи и образование свободной «славянщизны» – федерации славянских государств с общим центром в России.
26 февраля 1848 года в гостинице, где жили Тургенев и Бакунин, раздался поутру крик гарсона: «Франция стала республикой! В Париже революция!»
Срочно были уложены вещи, и в тот же день друзья мчались по железной дороге в Париж. На границе и перед Парижем были сняты рельсы. Приходилось пересаживаться в наемные повозки. Тургенев вспоминал, как на одной из станций с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался первый комиссар республики Антоний Туре. Люди с любопытством провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунувшегося из окна с высоко поднятою в знак приветствия рукою. Пассажиры вели возбужденные разговоры, но Тургенев заметил в углу седого старичка, беспрестанно повторявшего: «Все пропало! все пропало!»
Трехцветные знамена республики, мелькавшие всюду трехцветные кокарды, вооруженные блузники, разбиравшие камни баррикад… У Тургенева голова шла кругом от шума революционного Парижа, и весь первый день его пребывания там прошел как в чаду.
В эти тревожные и торжественные дни Тургенев еще ближе сошелся с Александром Ивановичем Герценом и всем его семейством, а также с немецким поэтом и революционером Георгом Гервегом.
Бакунин торжествовал: он с головою окунулся в революционную работу, стал жить в казармах с рабочими, охранявшими революционного префекта полиции Косидьера. Это был, по словам Бакунина, «месяц духовного пьянства. Не один я, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях, одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порывами упоительную революционную атмосферу». Тургенев объяснял секрет влияния Бакунина на массы тем, что он был «демократом по природе», доступным всем и каждому, и часто вспоминал при этом случай, как однажды рабочий остановил «гражданина Бакунина» на улице и стал излагать ему бредовый проект, согласно которому для спасения человечества нужно было уничтожить около 800 лучших зданий Парижа. Бакунин сел на придорожный камень и в течение четырех часов доказывал безумцу, что его проект нелеп.
Когда в апреле месяце донеслась весть о начавшемся брожении в Австрийской империи, Бакунин, добившись от Временного правительства Франции нужной ему минимальной суммы, отправился через Франкфурт, Кёльн, Берлин и Лейпциг в Бреславль. На первых порах к Бакунину отнеслись настороженно: сыграли роль распущенные недоброжелателями слухи о том, что он является агентом русского правительства, призванным внести раскол в ряды революционеров. Далее Бакунин прибыл в Прагу, центр национально-освободительного движения в Австрийской империи, где славяне собирались на съезд для выработки программы действий против общегерманского национального собрания, выдвинувшего во Франкфурте-на-Майне план включения всех владений Австрии в общегерманскую империю. В Праге Бакунин написал статью «Основа славянской политики», которая была опубликована в сентябре 1848 года в журнале «Славянские летописи». Показывая иллюзорность идеи объединения славян в рамках Австрийской, Германской или Российской империи, Бакунин излагал план создания свободной федерации славянских народов, управляемой общеславянским советом.
После неудачного восстания в Праге Бакунин вернулся в Бреславль, а потом в Берлин, Лейпциг. Он «бросился между славянами и немцами, между двумя великими, но, к сожалению, взаимно друг друга ненавидящими расами, бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести соединенные силы» против русской тирании для народного освобождения. Очень сильно подействовал на Бакунина «крик немцев против славян, поднявшийся после роспуска славянского конгресса со всех концов Германии… Это уже был не демократический крик, а крик немецкого национального эгоизма; немцы хотели свободы для себя, не для других… В сей ненависти против славян, в сих славянопожирающих криках участвовали решительно все немецкие партии; уж не одни только консерваторы и либералы, как против Италии и Польши, демократы кричали против славян громче других: в газетах, в брошюрах, в законодательных и в народных собраниях, в клубах, в пивных ларьках, на улице… Это был такой гул, такая неистовая буря, что если бы немецкий крик мог кого убить или кому повредить, то славяне уже давно бы все перемерли».
В этой ситуации Бакунин, по его словам, «ожидал и требовал от немцев», чтобы «они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость. Такая демонстрация мне казалась необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимо наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий».
Проповедь Бакунину удалась. В довольно короткое время «почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционное дело, обещая им союз и помощь против франкфуртских притязаний, равно как и против всех других немецких реакционных партий».
Из Лейпцига Бакунин отправился в Дрезден и там поднял восстание рабочих, которые вручили ему диктаторские полномочия. Вскоре из Дрездена пришла в Париж грустная весть. 9 мая прусские войска приступили к штурму дрезденских баррикад. Герцен выдавал за достоверный слух о том, что Бакунин убеждал руководителей восстания выставить на городские стены «Мадонну» Рафаэля и сообщить прусским офицерам, что, стреляя по городу, они могут уничтожить великое произведение искусства.
– Немцы получили слишком классическое образование, чтобы стрелять по Рафаэлю, – говорил революционер-идеалист.
Восстание жестоко подавили. Медовый месяц революции закончился трагически: Бакунина взяли в плен, приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. 16 февраля 1850 года Бакунин писал из крепости Кенигштейн Матильде Рейхель:
«…Итак Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, т. е. заменен пожизненною тюрьмою или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю „Вам в утешение“, потому что для меня это – не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положа руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь прясть шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен, и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней! Напротив, смерть – только один неприятный момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать. <…> Для меня смерть была бы истинным освобождением». Но до этого последнего освобождения Бакунину было еще далеко. Из Кенигштейна его отправили в Австрию, а Австрия выдала Бакунина России, где он сидел некоторое время в Шлиссельбургской крепости, а потом был сослан в Сибирь…
Крушение потерпел революционный план и другого приятеля Тургенева – Георга Гервега. В апреле 1848 года он собрал в Париже из числа революционных эмигрантов немецкий вооруженный отряд и с помощью баденских революционеров проник в город, но был разбит виртембергскими войсками. «Экспедиция» Гервега, которую Карл Маркс считал революционной авантюрой, закончилась напрасной гибелью многих участников-рабочих.
Гервег едва не попал в плен и спасся лишь благодаря находчивости и энергии его жены.
«Экспедиция моего друга Гервега, – писал Тургенев, – потерпела полное фиаско; эти несчастные немецкие рабочие подверглись ужасному избиению… Если он приедет сюда, я ему посоветую перечитать „Короля Лира“, особенно сцену между королем, Эдгаром и шутом в лесу. Бедняга! Ему следовало или не начинать дела, или дать убить себя…»
Однако Гервег вернулся в Париж, и Тургенев был свидетелем начала знаменитой семейной драмы Герцена: жена его, Наталия Александровна, увидела в Гервеге трагического героя, достойного сочувствия и любви.
Тургенев часто бывал в семьях Герценов и Тучковых, но с Наталией Александровной Герцен не находил общего языка. Интеллектуальная изощренность со времен премухинского романа вызывала у него раздражение. «Знакомы ли вы с такими домами, – спрашивал Тургенев Полину Виардо, – где невозможно разговаривать с распущенным умом, где разговор становится рядом задач, которые приходится решать в поте ума своего, где хозяева дома не подозревают того, что часто самое деликатное внимание с их стороны, это – не обращать внимания на своих гостей; где каждое слово как будто прилипает? Какая пытка!»
Верный себе, Тургенев часто разряжал интеллектуальное напряжение «странными комедиями». То он просил позволения крикнуть петухом и, получив его, влезал на подоконник и, кукарекая, устремлял на дам неподвижные глаза, то представлял сумасшествие, взлохмачивая волосы и дико бегая по комнате.
В «Отцах и детях» Тургенев писал: «Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними».
Тургенев очень сдружился в это время с Герценом: его привлекал в нём острый политический ум, аналитическая оценка совершающихся событий. Задолго до июньской катастрофы Герцен почувствовал измену буржуазии революционным идеалам. Столкновение между рабочими и буржуа было неизбежно, трагический финал его был предопределен. В отличие от Бакунина и Гервега, Герцен не участвовал в революционных событиях, оставаясь, подобно Тургеневу, зрителем совершавшейся кровавой драмы. Исход ее обернулся для Герцена глубоким разочарованием в западноевропейской цивилизации, а для Тургенева – сомнением в разумности революционных форм обновления жизни вообще.
В дни потрясений 1848 года в кафе Пале-Рояль Тургенев познакомился с человеком, не пожелавшим раскрыть своей фамилии. Впоследствии писатель посвятил ему очерк «Человек в серых очках». Герцен считал его шпионом, Тургенев в этом сомневался, но, вероятно, «человек в серых очках» был близок к кругам буржуа и банкиров, не выпускавших из-под своего контроля ход революционных событий. Революция в его глазах была бездарным, но трагическим фарсом, напоминающим театр марионеток, нити которого держали в своих руках люди, завладевшие богатствами целого мира.
– Национальные мастерские! Национальные мастерские! – восклицал он с горькой иронией. – Были вы там? Видели их? Видели, как рабочие в тачках землю с одного места на другое перевозят? Вот откуда все пойдет. Что будет крови! крови! Целое море крови! Какое положение! Все предвидеть – и ничего не мочь сделать!! Быть ничем! ничем!
Этот странный человек заранее предвидел исход выборов и победу Луи Наполеона – ставленника крупной буржуазии. Он называл точное число голосов, которые получит каждый депутат.
Тургенев в тот же вечер передал все эти имена и цифры Герцену и очень запомнил его изумление, когда на следующий день все предсказания мусье Франсуа опять сбылись от слова до слова.
– Откуда ты все это знаешь? – спрашивал его не раз Герцен. Тургенев называл источник.
И вот, как по сценарию составленной заранее драмы, наступили трагические июньские дни. Приказ о закрытии национальных мастерских переполнил чашу народного терпения.
– Началось! – сказала Тургеневу утром 23 июня прачка, принесшая белье. По ее словам, большая баррикада была воздвигнута поперек бульвара, недалеко от ворот Сен-Дени. Тургенев немедленно отправился туда. Сначала ничего особенного не было заметно. «Но вот впереди, криво пересекая бульвар во всю его ширину, вырезалась неровная линия баррикады». По самой ее середине небольшое красное знамя шевелило – направо, налево – свой острый, зловещий язычок. Один из блузников кричал: «Да здравствуют национальные мастерские! Да здравствует республика, демократическая и социальная!» Подле него стояла высокая черноволосая женщина в полосатом платье, подпоясанная портупеей с заткнутым пистолетом; она одна не смеялась и, как бы в раздумий, устремила прямо перед собою свои большие темные глаза».
Но уже слышалась дробь барабанов, и, волнуясь, вытягиваясь, как длинный червяк, шла навстречу инсургентам колонна гражданского войска. Грянул жесткий, короткий звук… Трагедия началась…
Тургенев видел улицы Парижа, залитые кровью рабочих. Тяжелое, однообразное буханье зависло над городом вместе с чадом и гарью зноя.
Однажды под вечер Тургенев услышал, как к этому буханью присоединились другие, резкие и как бы веерообразные звуки… Расстреливали инсургентов по мериям. Нарушив запрет выходить из квартиры, Тургенев сошел поутру вниз. Офицер национальной гвардии подскочил к нему с грозным вопросом:
– Почему вы не исполняете долг гражданина и не находитесь в рядах национальной гвардии?
– Я русский!
– А, вы русский агент; вы явились сюда, чтобы возбуждать распри, гражданскую войну! Почему на вас блуза? Это для того, чтобы стакнуться с мятежниками! В мерию!
Тургенева окружили четыре национальных гвардейца и, взяв под конвой, приказали идти в мерию, откуда через каждые 5—10 минут слышались короткие залпы. Его повели, но, к счастью, на пути знакомая дама, француженка, заступилась за него, и Тургенев избежал рокового исхода.
В разгар кровавой бойни в комнату Гервегов, у которых находился Тургенев, вошел гарсон с встревоженным лицом.
– Что такое?
– Вас, мсье Гервег, какая-то блуза спрашивает!
– Блуза? Какая блуза?
– Человек в блузе, работник.
– Примите.
«Гарсон удалился, – вспоминал Тургенев, – повторяя, как бы про себя: „Человек… в блузе!!“ Он ужасался; а давно ли, вскоре после февральских дней, блуза считалась самым модным, приличным и безопасным костюмом?.. Но другие времена – другие нравы; в эпоху июньской битвы блуза в Париже сделалась знаком отвержения, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы». Явился рабочий сообщить Гервегу о сыне:
– Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках у наших и сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших женщин – вот тут на бумажке адрес написан, – а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним; помещение хорошее и кормить их будут обоих.
Старик отказался от денег и согласился только на завтрак: он второй день ничего не ел.
– Мы в феврале, – рассуждал он, – обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда все та же; еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много – и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика!
Он ушел в город, наполненный правительственными войсками, и участь его осталась неизвестной. «Нельзя было не подивиться его поступку, – говорил Тургенев, – той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им „буржуа“ и позаботились о том, чтобы его успокоить».
Тургенев не разделял социалистических идеалов Герцена и восставших рабочих, ему казалось, что инсургенты дрались за исполнение несбыточной, донкихотской мечты, да и без надежды на успех, а с намерением только умереть, так как им нечем было жить. Но в то же время он глубоко сочувствовал восставшим:
– Они не были достойны такой жестокости: их били и резали и ссылали как разбойников, без суда, а между тем они занимали половину города и не разбили ни одного дома, они занимали Латинский квартал, в их руках были все колледжи, дети тех аристократов, которые с ними обошлись так жестоко, и они не только не тронули их, но даже окружили их охранною стражей.
Тургенев был свидетелем и последнего акта революционной драмы: избрания Луи Наполеона. Теперь разыгрывался предсказанный мсье Франсуа пошлый и дешевый фарс. Какой-то шарлатан бесплатно раздавал на улицах Парижа брошюрки о Луи Наполеоне: так новоявленный душитель свободы и республики еще в начале июньских дней «приобретал народность». Подкупленные им люди собирались у Вандомской колонны и громко толковали о гениальности Наполеона. Потом нанятые политиканом толпы бродили по парижским улицам и кричали: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует император!» Весь этот спектакль разыгрывался на средства известного банкира Ахилла Фульда, который после избрания Луи Наполеона занял место министра финансов.
Однажды Герцена с Тургеневым остановили на улице подгулявшие прихвостни Наполеона. Один из них сказал другому:
– Эти негодяи не будут кричать «да здравствует император», потому что они республиканцы, – и обращаясь к Герцену и Тургеневу, грубо потребовал здравицы в честь новоявленного императора.
– Я русский! – гордо отвечал Герцен. – Но даже если бы я был француз, то слова бы не обронил в защиту такого пошляка и подлеца, каким является Луи Наполеон!
Крикуны оторопели от неожиданной смелости, что и позволило друзьям спастись от пьяной ватаги, которая, опомнившись, бросилась за ними в погоню…
События 1848 года вели Тургенева к грустному итогу. Он убедился, что революцией управляла злая сила в лице богатых буржуа и финансистов, несчастный же народ служил игрушкой в политической борьбе. Возникли серьезные сомнения в том, что народ вообще является творцом истории. Казались вполне справедливыми суждения «человека в серых очках»:
– Народ, – говорил он, – то же, что земля. Хочу, пашу ее… и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то.
Трагический опыт революции 1848 года все более склонял Тургенева к мысли, что творческой силой истории является интеллигенция, тот верхний слой общества, который создает науку и культуру, который является проводником цивилизации в народную среду. И только тот может надеяться на успех, кто не спеша, упорно и последовательно занят этой культурнической работой. Пережитое во Франции уводило Тургенева в сторону от того писательского пути, который был намечен им в «Записках охотника». Внимание его все более и более привлекала историческая судьба русской интеллигенции.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































