Текст книги "Тургенев"
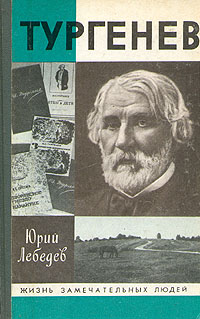
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Тургенев удивлялся начитанности Варвары Петровны. Она следила за новинками французской литературы и имела хоть и не безупречный, но достаточно здравый эстетический вкус. Как-то в письме она в ответ на латинские извлечения сына привела целый букет латинских пословиц с припискою: «Вот тебе латынь за латынь… Посмейся со своими товарищами, пусть они угадают, кто пишет тебе латинские поговорки. „Не угадать вам“, – скажи. – „Почему ж? Старый учитель, ученый муж!“ – „Да как бы не так! Старуха мамаша! Ха-ха-ха!.. По любви к сыну латынит!“
Не оправдались опасения Ивана Сергеевича: мать и не думала препятствовать очередному отъезду сына за границу: «Надо, чтобы ты знал, Иван: я не хочу никакого упущения по твоей карьере, никаких препон на пути к твоему будущему магистерству! Но будь экономен, помни о нашем разорении. Ты мне напомнил об отце очень кстати, потому что при его необыкновенных способностях денег не любил считать. Так, но! – на тебе бы взыскал, и так же, как я!., а, может быть, и более меня, – счету бы потребовал… он не любил баловать, да и мне заказывал. А мое искомое в том, чтобы ты мне сказал, как насчет музыки: „Маман, била бы ты меня и играть бы заставляла…“ „Долги – короста. Нужно сесть прыщу – всё тело покроет“, – говорит Васильевна».
Мать не только разрешила продолжать обучение в Берлинском университете, но и снабдила средствами на путешествие по Италии…
В Риме Тургенев встретился со Станкевичем и по-настоящему сблизился с ним. 19 марта 1840 года Станкевич писал Фроловым: «Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо – ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую плел у Вас. Право, он умен!»
Тургенев делился с другом своими впечатлениями, которые он вынес из России, рассказывал о пожаре спасского дома, о противоречивых чувствах, которые он испытывал к родовому гнезду. Станкевич понимающе кивал головой, но в ответ на одну резкую фразу Тургенева по поводу России и российской дворянской семьи мягко, но внушительно сказал слова, которые Тургенев запомнил надолго:
«Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути… От этого избави Вас Боже, Тургенев! Впрочем, Вы слишком знаете цену себе, чтоб допустить возможность такого существования».
Они ходили вместе по развалинам Колизея, темно-синее небо просвечивало во все его окна; ступени, на которых сидели прежде зрители, обрушились; кустарник рос на месте этих ступеней и придавал общей картине завершенный, гармонический вид. Они спускались в катакомбы – место жительства, службы и погребения первых христиан. Храм святого Петра превзошел их ожидания: громада, которая велика, как площадь, но настолько стройная и гармоничная, что взгляд не отвлекается на детали, а схватывает её всю сразу, целиком. Станкевич попутно развивал свои взгляды на сущность искусства, на тайны художественной завершенности совершенного в эстетическом отношении произведения. Его комментарии не мешали восприятию увиденного, а, напротив, раскрывали перед спутником внутренние красоты и смысл искусства в самой сокровенной его глубине.
Долго стояли они перед «Моисеем» Микеланджело. «Что за художник! – воскликнул Станкевич. – У него один идеал – сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукой! Обратите внимание, Тургенев, на лицо Моисея. Оно далеко от классического совершенства: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро. Какая свобода и в то же время отчетливость в исполнении. Но вот Гёте, посмотревший на творение Микеланджело, говорил, что не может таким сильным взглядом воспринимать природу. И правда, есть что-то уничижительное в этой гигантской силе. Микеланджело возвратился к Старому Завету, и его Моисей – служитель бога ревнивого, из божества в нем осталась сила».
По контрасту с «Моисеем» друзья рассматривали головку Гвидо Рени. «Тут одна душа без тела, музыка, – сказал Станкевич и смущенно прибавил, – но не забудьте, что я варвар в живописи».
В Ватикане Станкевич остановился перед статуей Аполлона Бельведерского. «Что после этого абстрактная сила Микеланджело? – говорил он. – Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах».
Станкевич относился к Тургеневу дружественно, однако не без покровительственного оттенка и временами «осаживал» его «довольно круто».
«Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились останки подземного богослужения христиан в первые века христианства», Тургенев воскликнул: «Это были слепые орудия провидения!» «Станкевич довольно сурово заметил, что „слепых орудий“ в истории нет – да и нигде их нет».
В другой раз перед статуей святой Цецилии Тургенев продекламировал стихи Жуковского:
И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя, —
Станкевич сказал, что плохо тому, кто по привычке любуется прелестью, да еще в такие молодые годы.
Во всем существе его поражала окружающих редкая правдивость. Временами казалось, что он видит собеседника насквозь, высвечивает своим лучистым взглядом его сущность и прекрасно чувствует, где в нем правда и где ложь. Перед такой цельной личностью Тургенев терялся, чувствуя свои слабости. Но в этом чувстве не было ничего унижающего человеческое достоинство, потому что в правдивости Станкевича отсутствовали малейшие признаки самовлюбленности, внутреннего сознания своей избранности. Таким сделала его природа, и он носил свой дар легко и свободно, не сознавая, каким сокровищем обладает.
Нравственное влияние Станкевича на художественно одаренную натуру Тургенева было велико и плодотворно. Склонный к разнообразию и непостоянству, увлекающийся и разбрасывающийся, в общении с другом он собирался, духовные силы укреплялись и внутренний мир приобретал гармоническую завершенность и полноту. Тогда жизнь становилась радостной и осмысленной, согретой внутренним светом истины, добра и красоты.
Спустя несколько месяцев Тургенев, уже из Берлина, писал в Москву Грановскому: «Со мною случилось тоже, что с бедным человеком, получившим огромное наследство… Целый мир, мне не знакомый, мир художества – хлынул мне в душу… Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был для меня только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи».
В Риме жило тогда русское семейство Ховриных, к которым Тургенев и Станкевич ходили беспрестанно. Муж, по характеристике Тургенева, «глупый отставной гусар», жена, Марья Дмитриевна, известная московская барыня, и две дочки, старшей из которых, Александре, едва минуло шестнадцать лет. Александра, которую все ласково называли Шушу, была мила и красива; в неё все были немножко влюблены, но она оставалась равнодушной и веселой щебетуньей, хотя временами казалось, что Шушу испытывает тайную симпатию к Станкевичу, отвечавшему ей «дружеским, почти отеческим чувством». У Ховриных бывал и друг Станкевича Александр Павлович Ефремов, с которым Тургенев близко сошелся в Риме. Ефремов изучал в Берлине географические науки, а потом преподавал в Московском университете. Посещал семейство Ховриных художник А. Т. Марков, впоследствии профессор живописи, поляк Брингинский, друг Листа, превосходный музыкант. По вечерам здесь не умолкали шутки и смех, звучала музыка, Тургенев упражнялся в художестве. Он брал в Риме уроки у немецкого художника Рунда и обнаруживал незаурядные способности рисовальщика. Станкевич особенно одобрял тургеневские шаржи и пришел в восторг от комического рисунка, изображающего свадьбу Шушу с Марковым. На рисунке Тургенев стоял за спиной своего соперника и держал над его головой свадебный венец.
Однако минуты беззаботного молодого веселья временами омрачались болезнью Станкевича. Злая чахотка подтачивала его силы, и он таял на глазах. Раз Тургенев шел с ним к Ховриным. Говорили о Пушкине, которого Станкевич очень любил. Поднимаясь на четвертый этаж, Станкевич увлеченно читал стихи «Снова тучи надо мною» негромким, но выразительным голосом и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам, – на платке показалась кровь… Тургенев невольно вздрогнул, а он улыбнулся в ответ грустной улыбкой и дочитал стихотворение до конца. Станкевич не любил говорить о своей болезни и старался всеми силами сделать так, чтобы для друзей и близких ее как бы не существовало.
Но предчувствие близкой смерти уже жило в нем. Тургенев вспоминал, как однажды вечером они возвращались в открытой коляске из Альбано. У высокой придорожной развалины, обвитой плющом, Тургеневу вдруг вздумалось закричать громким голосом: «Божественный Кай Юлий Цезарь!» – и в развалине эхо отозвалось на этот крик каким-то стоном. Станкевич, который до этого времени был очень разговорчив и весел, – вдруг побледнел, умолк и спустя некоторое время проговорил со странным выражением лица: «Зачем вы это сделали?»…
Во второй половине апреля 1840 года они расстались. Тургенев с Ефремовым отправились в Неаполь, Станкевич остался в Риме в ожидании сестры М. А. Бакунина Варвары Александровны Дьяковой, которую он тайно любил. Из Неаполя Тургенев писал Станкевичу, подробно рассказывал о своих впечатлениях: «Прямо перед нашим домом, на другой стороне залива, стоит Везувий; ни малейшей струи дыма не вьется над его двойной вершиной. По краям полукруглого залива теснятся ряды белых домиков непрерывной цепью до самого Неаполя; там город и гавань, и Кастель-дель-Ово… Но цвет и блеск моря, серебристого там, где отражается в нем солнце, пересеченного долгими лиловыми полосами немного далее, темно-голубого на небосклоне, его туманное сияние около островов Капри и Некия – это небо, это благовонье, эта нега…»
Здесь, под небом Италии, под светом южного солнца, в стране четких и ярких красок, поражающих зрение богатством своих оттенков, оттачивалась художественная восприимчивость Тургенева, рождался писатель-пейзажист, не имевший соперников ни в России, ни в Западной Европе.
Италия, страна классических древностей, пробуждала в чутком человеке совершенно особое чувство исторического времени. Дыхание тысячелетий ощущалось здесь на каждом шагу, напоминая путешественнику о стремительном беге времени. У подножия Везувия друзья спускались под землю посмотреть раскопанный театр Геркуланума. «Лава залила всё здание слоем вышиной в 75 футов и превратилась в твердый камень. Вырывая колодезь, напали на каменные скамьи театра. Отрыть всего было невозможно – довольствовались проложеньем узких коридоров, пересекающих театр во всех направлениях… Видел постаменты, на которых стояли статуи Бальбусов с надписями; комнаты актеров; в одном месте отпечаток в лаве бронзовой маски».
А на обратном пути в Неаполь рядом с Тургеневым села девушка, очень похожая на Шушу. Даже лучше её. Он молча любовался ею, и в душе роились сладостные мечты, овеянные элегической грустью, сознанием их недостижимости. В Неаполь приехали быстро, и «вот ее черная шляпка пропадает в толпе; вот она скрылась – и навек». Хватило того, что «она на несколько мгновений заняла мою душу, – писал Тургенев Станкевичу, – и воспоминание о ней будет мне отрадно. – Простите – до завтра; ветер ужасно свищет; двери и окна трясутся в доме; море шумит и плещет – плохо английским кораблям».
До высот тургеневской прозы еще далеко. Но она уже зреет, кристаллизуется в письмах, напоминающих лирические миниатюры, стихотворения в прозе. Италия укрепляет в Тургеневе его любовь к трепетным, ускользающим проблескам красоты в окружающем мире, тургеневское восприятие явлений, как бы сотканных из света и воздуха. С детских лет в нем жило чувство пришельца, временного гостя на этой земле.
Из Неаполя Тургенев отправился в Геную, «проехал все королевство Сардинское», катался на лодке по Лаго Маджоре, ехал через Люцерн, Базель, Мангейм, Майнц, Франкфурт-на-Майне и Лейпциг в Берлин. Во Франкфурте он посетил дом Гёте у Оленьего оврага, и строки «Римских элегий» по свежим итальянским впечатлениям звучали в его ушах. Мучило чувство тоски, одиночества, неприкаянности.
В случайной кондитерской, куда Тургенев попутно завернул, ему навстречу выбежала девушка необыкновенной красоты с просьбой помочь упавшему в обморок брату. А потом его с благодарностью усадили за семейный стол, предлагали остановиться во Франкфурте, осмотреть город. Тургенев не сводил глаз с очаровательной девушки, казалось, специально посланной ему Богом или судьбой. Но и билет на Лейпциг был куплен, и деньги на исходе. А главное, священный трепет перед сиянием недосягаемой красоты сковывал все его существо. И была какая-то томительная сладость в самом ощущении этой недосягаемости…
Впоследствии впечатления от неапольской и франкфуртской встреч сольются в единый образ очаровательной Джеммы из повести «Вешние воды» с элегическим и таким тургеневским эпиграфом:
Далекие годы, счастливые дни,
Как вешние воды, промчались они…
Вскоре по прибытии в Берлин Тургенев получил от Ефремова печальное известие: на севере Италии, в городе Нови, по пути к озеру Комо, в ночь на 25 июня 1840 года умер Николай Владимирович Станкевич…
«Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой…
Отчего не умереть другому, тысяче других, мне, например? Когда же придет то время, что более развитый дух будет непременным условием высшего развития тела… зачем на земле может гибнуть и страдать прекрасное? …Или возмущается зависть бога, как прежде зависть греческих богов? Или нам верить, что все прекрасное, святое, любовь и мысль – холодная ирония Иеговы? Что же тогда наша жизнь? Но нет – мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь – дадим друг другу руки, станем теснее: один из наших упал – быть может – лучший. Но возникают, возникают другие… и, рано ли, поздно – свет победит тьму», – так писал Тургенев Грановскому 4 июля 1840 года, глубоко потрясенный случившимся несчастьем. «Станкевич! – восклицал Тургенев в письмах к друзьям. – Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку – и указал мне цель… и если, может быть, до конца твоей жизни, ты сомневался во мне, пренебрегал меня, быть может – что я заслужил моими бывшими мелочами и надутыми порывами – ты теперь меня всего знаешь и видишь истинность и бескорыстность моих стремлений. Благодарность к нему – одно из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду».
В период духовного пробуждения, навеянного путешествием по Италии, жизнь вновь преподнесла Тургеневу трагический урок, заставила усомниться в её смысле и высоком назначении. Как верить человеку в разумность и мудрость абсолютного духа, если лучшие из лучших обречены слепой природой на раннюю смерть? И хотя письмо к Грановскому заканчивается бодрым утверждением, что рано или поздно «свет победит тьму», – этот оптимистический финал выглядит искусственным и никак не отменяет глубины и серьезности поставленных вопросов, возникающих сомнений. В отличие от философствующих друзей Тургенев-художник наделен от природы острой, непосредственной реакцией на живую жизнь в её конкретных, индивидуально неповторимых проявлениях. И это чувство жизненной конкретности упорно сопротивляется в нем философскому отвлечению. «Выработать философское убеждение, – думает он, – значит создать величайшее творение искусства, и философы – величайшие в мире художники». Но гармонически-завершенный мир гегелевской философской системы сталкивается в его сознании с такими фактами жизни, которые в эту систему не укладываются, ей противоречат. Смерть Станкевича так глубоко потрясает Тургенева, что вновь ставит под сомнение разумность мироздания. Зацепившаяся за это трагическое событие мысль никак не может вырваться в безмятежную сферу чистого философского умозрения. Готовые «разумные» ответы не справляются с бунтом противоречивых чувств, поднимающихся в художественно-чувствительной и незащищенной тургеневской душе.
В таком смятенном состоянии и застает Тургенева в Берлине старый друг Станкевича, участник его московского философского кружка Михаил Александрович Бакунин, приехавший сюда для завершения своего философского образования. Встреча с ним производит на Тургенева неизгладимое впечатление. Перед ним не новичок в философии, а блистательный диалектик и страстный пропагандист гегелевского учения. За спиной у него большой опыт московских философских споров, настоящих идейных битв, из которых он всегда умел выходить победителем. «Рожденный проповедовать», Бакунин «с каким-то ожесточением бросается на каждое новое лицо и сейчас же посвящает в философские тайны». Потерянный и выбитый из колеи Тургенев оказывается самым подходящим объектом для его философской проповеди.
Все мысли Бакунина «были обращены в будущее; это придавало им что-то стремительное и молодое». В ответ на сомнения Тургенева, навеянные смертью Станкевича, Бакунин диалектически развернул мысль о вечном значении временной жизни человека. «Пойми, Тургенев, точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но всё великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти он найдет свою жизнь, своё гнездо».
В письме к родным 28 июля 1840 года Бакунин так развивает ту же самую мысль: «…Станкевич, этот святой, возвышенный человек, нас оставил. Я не знаю как, но его смерть не подавляет меня, напротив, в ней есть нечто возвышающее, внушающее веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами, он передал нам священное назначение и безмерно глубокую загадку своей жизни как единственную цель, к которой мы все должны стремиться и осуществление которой будет неисчерпаемым источником блаженной любви и наслаждения. Он теперь к нам ближе, чем когда-либо прежде, он нас не оставил. Такая смерть, как его, есть преодоление смерти, высокое откровение бессмертия и бесконечной мощи живого и поистине вечного духа… Он наш, ему не чуждо высшее и глубочайшее слово нашей общей жизни и стремления. Да, друзья, я надеюсь, я совершенно уверен в том, что его смерть и вас не придавит, и что вы, как и мы, понимаете её глубокое и освободительное значение и живо и глубоко прочувствуете её в себе и найдете в ней новый неисчерпаемый источник духовной, высокой и блаженной жизни. Друзья, мы все много выстрадали, мы понесли большие потери, но мы должны и можем встречать это радостно. В основе всей нашей жизни лежит бесконечная истина, единственно делающая нас человечными и блаженными; и это святое основание нашего общего духовного бытия составляет также его единую цель, цель, которая не является недостижимой и которой мы достигнем».
Так, в русле гегелевской философии, воскрешая дух Станкевича в бесконечной истине, Бакунин, через свою причастность к ней, логически убеждает себя и родных в бессмертии общего друга. Тургенева покорила неотразимая и строгая логика бакунинских рассуждений, соединенная с талантом убеждать, подчинять своей мысли слушателя-собеседника. Его новый друг умел извлекать из явлений жизни «всё общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые, правильные нити мысли, открывал духовные перспективы».
На мягкую, созерцательную натуру Тургенева порывистая и энергичная личность Бакунина действовала исцеляюще и ободряюще. Он поддавался обаянию его беспокойных и пытливых голубых глаз из-под темных спадающих на лоб волос, прозванных современниками «львиной гривой».
Из Мариенбада, куда Тургенев временно уезжал на лечение, он писал Мишелю добрые письма: «Нас соединил Станкевич – и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан – я едва ли могу сказать – и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь – быть может, мне необходим; из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, прекрасное – знакомое – и незнакомое явление: ему отрадно и легко, и он верит в достижение цели. <…> У меня на заглавном листе моей „Энциклопедии“ написано: «Станкевич скончался 21-го[3]3
Так у Тургенева (авт.)
[Закрыть] июня 1840 г.», а ниже: «Я познакомился с Бакуниным 2-го июля 1840 г.».
В Берлине друзья поселились вместе, на одной квартире. Днем они слушали университетские лекции, занимались самообразованием, а вечером отправлялись к сестре Бакунина Варваре Александровне, на руках у которой умер в Италии Станкевич. С семейством Бакуниных у него были сложные отношения. В свое время Станкевич полюбил сестру Мишеля Любашу. Эта юная девушка, исполненная, по словам П. В. Анненкова, «кроткой прелести», прожила недолгую жизнь. Ее любовь к Станкевичу, завершившаяся обручением, не принесла ей счастья. Вскоре жених почувствовал, что по-настоящему он свою невесту не любит. Разочарование в ней совпало с болезнью, и в 1837 году Станкевич уехал за границу. Любаша не пережила потрясения и вскоре умерла от скоротечной чахотки. Она не знала, что ее избранник тайно влюбился в сестру, Варвару Александровну, жизнь которой сложилась неудачно. Она вышла замуж за добродушного, но весьма ограниченного человека, имела сына, однако в 1840 году она решилась на разрыв с мужем и отправилась в Италию к Н. В. Станкевичу, дни которого были уже сочтены…
Теперь Варвара Александровна поселилась в Берлине. Женщина умная, обаятельная и одаренная, она прекрасно играла на фортепиано. Тургенев мог часами слушать в её исполнении бетховенские сонаты и восторгаться ими. «Какая у него чистая, светлая, нежная душа! – восхищалась Варенька, обращаясь к Мишелю. – В России Тургенев обязательно должен посетить Премухино».
Бакунинская родовая усадьба Премухино была в конце 1830-х годов своеобразной Меккой философского идеализма. «Искушение» Премухиным пережил не только Станкевич, но и Белинский, Боткин, Панаев. Особую прелесть премухинскому дому придавали сестры Любовь, Варвара, Татьяна и Александра. Все они оказались первыми жертвами бакунинской пропаганды. Когда в 1837 году Мишель изучил Гегеля и обрел себя полностью в «абсолютном бытии», он начал активно обращать сестер в новую веру. Обладая великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, доступной каждому, Бакунин добился желаемого довольно легко и скоро. Сестры усвоили азы немецкого идеализма, возвышенно-философский взгляд на любовь и призвание человека. Культ классической философии Шеллинга, Канта и Гегеля, немецких романтиков царил в интеллектуально-перенасыщенной атмосфере премухинского гнезда. «В чем заключаются основные идеи жизни? – В любви к людям, к человечеству и в стремлении к совершенствованию, – проповедовал Мишель. – Что такое человечество? – Бог, заключенный в материи. Его жизнь – стремление к свободе, к соединению с целым. Выражение Его жизни – любовь, этот основной элемент вечного».
Всякое живое чувство в этом доме моментально возводилось на пьедестал, подвергалось интеллектуальному анализу и определению. В любимом человеке искался отблеск божества, в человеческом чувстве любви – явление божественной силы внеземного порядка, дыхание Абсолюта. «Это замечательное семейство, – говорил о премухинском доме Панаев, – принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит».
Тургеневу одному из последних в плеяде философских идеалистов 1830—1840-х годов предстояло пройти «испытание» Премухиным. Общение с Мишелем и Варенькой явилось своеобразной прелюдией к этому событию.
В доме у Варвары Александровны собирались знакомые Тургеневу лица: Вердер со своей приятельницей мадемуазель Форман, Фарнгаген фон Энзе, Н. Г. Фролов. Слушали музыку, читали гётевского «Фауста». «Знание Гёте, особенно второй части „Фауста“ (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее её), было столько же обязательно, как иметь платье, – говорил А. И. Герцен. – Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена…» Как только от непосредственного эстетического переживания переходили к его анализу, первенствовал Мишель. Он мгновенно овладевал разговором, переводил его в возвышенно-философский план – и тут перед ним пасовал не только Тургенев: сам Вердер с упоением слушал блестящего, искрометного говоруна, который умел потрясти собеседника, сдвинуть его с места, перевернуть до основания и зажечь силой своего убеждения.
Однако что-то уже тогда смущало Тургенева в его новом друге. Невольно на ум приходило сравнение со Станкевичем. Тот действовал на окружающих не только и не столько силой отточенной философской мысли, сколько нравственным обаянием всей своей личности. Необычайно чуткий к собеседнику, Станкевич никогда не стремился ошеломить и подавить его своим авторитетом.
Мишель был другим; во всем его поведении сквозило стремление первенствовать над окружающими, подчинять их своему влиянию и посвящать в свою веру. Он часто не считался ни с уровнем развития человека, ни с его субъективными, личными симпатиями и антипатиями. Что Мишель любил идею, в этом Тургенев не сомневался, – но вот любил ли он людей?.. Временами казалось, что он проповедует из жажды властвовать над ними, а не из стремления их любить. В разговоре он не мог терпеть возражений и предпочитал или не слушать, или не замечать того, что говорили ему другие. Часто у Тургенева возникало подозрение, что страстные речи Бакунина не согреваются сердечным теплом, что в душе он остается холодноватым человеком.
Весной немецкий революционер Герман Мюллер-Стрюбинг пригласил Тургенева и Бакунина отдохнуть на берегу живописного озера. Здесь Тургенев и Мюллер предавались «трогательной лени», а Бакунин ежедневно покидал их на два-три часа для специальных занятий гегелевской логикой. Он не мог позволить себе расслабления, и это железное трудолюбие вызывало у друзей восхищение. Но как-то случайно Мюллер зашел в соседнюю с бакунинской комнату и вдруг «через закрытую дверь услышал ужасающий храп и соп, показавшийся ему в высшей степени подозрительным». Спустя два часа Бакунин уверял, «будто эти звуки производились сильным движением его духа в дидеротовской борьбе с объектом». В этом с виду комическом и безобидном эпизоде Тургенев не мог не заметить в очередной раз характерного для Мишеля стремления покрасоваться, тщеславного желания во всем выставить себя вперед и вознестись над окружающими.
Но недостатки – у кого их нет! – сполна искупались бесспорными достоинствами незаурядной личности Бакунина, с которым свела Тургенева судьба. Мишель к 1841 году вступал на путь переоценки философии Гегеля, преодолевая консервативные политические выводы, которые логически следовали из его философской системы. Если мировой дух действительно завершил свое развитие и успокоился, заявив устами Гегеля, что «все действительное разумно», то значит, разумна и прусская монархия, подавляющая революционное движение в Европе? Но может ли честный человек смиренно склонять голову перед прусским или русским монархизмом?
Бакунин часто вступал в споры с Вердером. «Не всё то, что существует вокруг нас, является действительным! – горячился Мишель. – В окружающей нас жизни есть явления призрачные, с которыми должны бороться все уважающие себя и идею люди!» Внутри гегельянства намечался раскол на правое и левое крыло, и русский последователь Станкевича являлся его провозвестником. Политические выводы Бакунина были во многом близки Тургеневу, с детства он пережил драму крепостнического произвола, развращающее влияние на личность «призрачной действительности». Когда в мае 1840 года Тургенев прочел книгу Л. Фейербаха «Сущность христианства», ему показалось, будто из душного помещения его вывели на свежий воздух. «О славный человек, ей-богу, этот Фейербах!» – восклицал Тургенев в письме к Грановскому.
В 1840 году в Берлин приехал Александр Иванович Тургенев, бывший приятель отца, получивший образование в Геттингенском университете. До 1825 года он занимал высокие посты на государственной службе, участвовал в работе комиссии по составлению законов, был помощником статс-секретаря Государственного совета. После подавления декабрьского восстания он вынужден был уйти в отставку и находился под тайным надзором полиции. В свое время, будучи приближенным Александра I, он часто ходатайствовал за близких к нему людей и принимал участие в судьбе Карамзина, Жуковского, Батюшкова и Козлова. Именно благодаря его покровительству был принят в Лицей 12-летний Пушкин, а через 26 лет на его долю выпало сопровождать прах русского поэта в Святогорский монастырь. Человек европейски образованный, он был решительным сторонником освобождения крестьян.
Сразу же по приезде в Берлин А. И. Тургенев познакомился с профессором Вердером и стал посещать его лекции. В дневнике своем он сделал заметку, что в их беседе немецкий профессор хвалил Тургенева. Встречи Ивана Сергеевича с приятелем своего отца и, как считалось, дальним родственником укрепляли антикрепостнические взгляды будущего автора «Записок охотника». Эти встречи были частыми. Продолжались они и в 1842 году, когда И. С. Тургенев приезжал в Германию на лечение. Александр Иванович любил напоминать молодому, человеку об исторической славе дворянского рода Тургеневых, в гербе которых есть девиз «И без страха обличаху!» – слова Авраамия Палицына, адресованные Петру Никитичу Тургеневу, обличавшему самозванца. «Пусть квасные патриоты попробуют отыскать такие слова в своей биографии!» – говорил Александр Иванович, поддерживая критическое отношение молодого Тургенева к царящим в России общественным порядкам. Он напоминал с гордостью о судьбе своего брата Николая Ивановича, известного декабриста. Еще в 1818 году Николай Иванович издал книгу «Опыт теории налогов», которая стала настольной для всех декабристов. Он доказывал в ней, что крепостное право препятствует успехам России, что его уничтожение равно выгодно и господам и мужикам. А деньги, которые Николай Иванович выручил от продажи своей книги, он пожертвовал в пользу крестьян, за которыми числилась недоимка. Мужиков в своих имениях он уже в начале XIX века перевел с барщины на оброк; его примеру последовали другие декабристы и передовые дворяне. При этом Александр Иванович напоминал Тургеневу о пушкинском романе «Евгений Онегин»:









































