Текст книги "Тургенев"
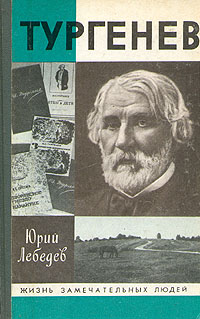
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)
Вместе с Толстым он совершал небольшую поездку в Дижон. Стояли холода, в промерзлой гостинице они сидели у камина. Толстой работал над повестью «Альберт», исписывая одну за другой чистые страницы, а Тургенев радовался, глядя на его вдохновенное лицо.
И вновь они спорили. Вновь Тургенев предостерегал Толстого от крайностей суждений и оценок:
– Больше всех вам не по нутру Чернышевский, но тут вы немного преувеличиваете. Положим, вам его «фетишизм» противен и вы негодуете на него за выкапывание старины, которую, по-вашему, не следовало бы трогать; но вспомните, дело идет об имени человека, который всю жизнь был тружеником, вспомните, что бедный Белинский всю жизнь свою не знал не только счастья или покоя – но даже самых обыкновенных удовлетворений и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые теперь стали общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами… Чтобы понять мои чувства насчет этих статей – я назначаю вам свидание через десять лет; – посмотрю я тогда, весело ли вам будет, если вам запретят сказать слово любви о друге нашей молодости, о человеке, который и радовался, и страдал, и жил в силу своих убеждений… Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым и находитесь под его влиянием. Дело хорошее – только смотрите, не объешьтесь и его!
Приветствуя статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода в развитии русской литературы», которые резко не принимали и осуждали тургеневские друзья – Дружинин, Анненков и Боткин, – Тургенев тем не менее проявлял интерес и к «Библиотеке для чтения», редактором которой стал А. В. Дружинин. В поддержку этого издания он послал свою повесть «Поездка в Полесье», подыскивал Дружинину талантливых сотрудников. Такая широта симпатий не могла не казаться Толстому, да и многим тургеневским современникам, беспринципностью.
Сотрудник «Современника» и друг Тургенева Елисей Яковлевич Колбасин писал ему в Париж письменные сообщения в виде рефератов обо всем, что делается в русской литературе. При этом Тургенев упрямо настаивал на вознаграждении за труд. И хотя Колбасин отнекивался, он принужден был согласиться и получал по настоятельному требованию Тургенева 10 рублей за информацию. В «панорамических» описаниях Колбасин сообщал обо всем, что появилось в русских журналах и привлекло внимание публики, рассказывал о самочувствии друзей-писателей.
«Представьте себе, какая у него уловка, – писал Колбасин о несчастном пороке А. Ф. Писемского: – в присутствии своей жены он боится пить и обыкновенно говорит: „Выйди, душенька, я хочу сказать неприличное слово“. Жена выйдет, и он поспешно выпьет рюмку водки».
И вот Тургенев «из прекрасного далека» пытается помочь другу. Он просит А. Н. Островского: «Слышу я, что Писемский в Москве хандрит. Отчего он хандрит? Вы, кажется, имеете на него влияние – встряхните его. Что его роман? Поклонитесь ему от меня – и попросите его от моего имени написать мне письмо».
С тревогой он пишет об этом же Фету: «Сообщенные подробности о Писемском и Островском – не слишком отрадны. Но что прикажете делать? У всякого человека своя манера блох ловить. Боюсь я, что при таком поведенце Писемский себя ухлопает; Островский – тот здоров. Эти два весьма замечательных и чрезвычайно талантливых русских человека не брали себя в руки, не ломали себя; а русскому человеку это совершенно необходимо. Талант их от этого, может быть, уцелел – да ведь он с другой стороны затрещать может». И Дружинина Тургенев тоже просит поддержать Писемского, дать ему работу в своем журнале. В хлопотах о друзьях Тургенев забывает о себе – и так лечит свою неизбывную боль.
В апреле 1857 года, уезжая из Парижа, Толстой зашел к Тургеневу проститься и записал в своем дневнике: «Заехал к Тургеневу… Прощаясь с ним я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он делает из меня другого человека». «Несчастная его связь с госпожой Виардо и его дочь задерживают его в Париже. Климат здешний ему вреден, и он жалок ужасно. Никогда не думал, что он способен так сильно любить», – сообщает Толстой своим родственникам.
В январе 1857 года Герцен выслал Тургеневу продолжение мемуаров «Былое и думы», которые печатались в «Полярной звезде». Тургенев оценил талант Герцена еще по первым книжкам и всячески поощрял его к работе над продолжением воспоминаний. «Кончил я твои мемуары во второй части „Полярной звезды“. Это прелесть – и только остается сожалеть о неверностях в языке. Но ты непременно продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная и безыскусственная правда – и сквозь печальные их звуки прорывается, как бы нехотя, веселость и свежесть… Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь – тебя. И это не так противуположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары – правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах – и с двух разных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна – она и широка – и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу».
Сложнее складываются на этот раз у Тургенева отношения с французской литературой. Правда, молодой француз Делаво берется за новый перевод «Записок охотника», и Тургенев, пользуясь случаем, побуждает его написать статью о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова для французской публики. Неожиданно Тургенев знакомится в Париже с Бичер-Стоу, оказавшейся, но его словам, доброй, простой, застенчивой американкой с двумя дочками, рыжими, в красных бурнусах и со свирепыми кринолинами. Общение с Мериме приводит Тургенева к выводу, что этот писатель очень похож на свои сочинения: «холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма».
Однако литературная и театральная жизнь Франции не вызывает у Тургенева восторга. «Здесь, на чужой земле, мне всё русское еще более близко стало и дорого, – пишет он А. Н. Островскому, – а ни в одном из наших писателей русский дух не веет с такой силой, не играет так, как в вас. Подарите нас всех и меня в особенности „Мининым“; – а мы вам поклонимся в пояс. …Хочется мне посмотреть поближе на здешнюю жизнь и на здешнюю литературу. Оно, пожалуй, и не весело, да поучительно. Всё здесь измельчало и изломалось. Простоты и ясности и не ищи; всё здесь хитро и столь же бедно, нищенски бедно, сколь хитро».
Фет вспоминал, как в театре «Водевиль» они смотрели с Тургеневым «Даму с камелиями». «Последнюю ломала перед нами старая и чахоточная актриса, имени которой не упомню, Тургенев сообщил мне шепотом, что покрывающие её бриллианты – русские. При её лживых завываниях Тургенев восклицал: „Боже! Что сказал бы Шекспир, глядя на все эти штуки!“ А когда она бесконечно завыла перед смертью, я услыхал русский шепот: „Да ну, издыхай скорей!“ Между тем дамы в ложах зажимали платками глаза. При таком несообразном зрелище я не выдержал и, припав головою к рампе, затрясся неудержимым смехом. Это не мешало Тургеневу давать мне шепотом знать, что многие недовольные взоры обращены на меня и что, если я буду продолжать смеяться, грозное „вон!“ не заставит ждать себя».
«Французская фраза, – пишет Тургенев Толстому, – мне так же противна, как вам – и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским. Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновения – и он мне тогда больше нравился». Писатель действительно чувствовал резкий контраст между революционным Парижем 1848 года и современным его состоянием, когда собственник стал героем, а революционную окрыленность сменил пошлый буржуазно-мещанский комфорт. С нескрываемой иронией рассказывал Тургенев русским друзьям об увлечении французской публики спиритическими сеансами Юма:
– Был я в одном доме, где известный колдун Юм, о котором вы, вероятно, слышали – должен был произвести свои чудеса; но ничего не вышло; только раз по моему требованию что-то у меня три раза простучало под подошвой правой ноги. Хорошенько я не понимаю, как это было сделано. Но Париж только и толкует, что о нем; в теченье одной недели он три раза был в Тюльерийском дворце – и там, говорят, происходили удивительные вещи: и стол поднимался на воздух, и какие-то руки виднелись, и гармоники играли сами, и колокольчики не падали, а волнообразно опускались на пол… Мы, грешные, ничего этого не видали.
В декабре 1856 года Тургенев в письме к С. Т. Аксакову дал нелестную характеристику и современному состоянию французской литературы: «Я должен сознаться, что всё это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно. Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бессилия, крайнее непонимание всего не французского; отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже художнического убеждения – вот что встречается вам, куда ни оглянитесь. Лучшие из них это чувствуют сами – и только охают и кряхтят. Критики нет: – дрянное потаканье всему и всем; каждый сидит на своем коньке, на своей манере и кадит другому, чтобы и ему кадили – вот и всё. Один стихотворец вообразит, что нужно „проводить“ реализм – и с усилием, с натянутой простотой воспевает „Пар“ и „Машины“, – другой кричит, что должно возвратиться к Зевсу, Эросу и Палла-де – воспевает их, с удовольствием помещая греческие имена в свои французские стишки; и в обоих капли нет поэзии. Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Жорж Санд; Бальзак воздвигается идолом, и новая школа реалистов ползает в прахе перед ним, рабски благоговея перед Случайностью, которую величают Действительностью и Правдой; а общий уровень нравственности понижается с каждым днем – и жажда золота томит всех и каждого – вот вам Франция!»
Приятным исключением явилась кратковременная поездка в Англию, где Тургенев сделал «множество приятных знакомств» – с Карлейлем, Теккереем, Диккенсом, Маколеем. «Действительно великий народ!» – выразил он восхищение этими встречами.
Но на чужбине, и особенно в этот раз, с ностальгической остротой чувствовалось, как дорого ему всё русское: «Пребывание во Франции произвело на меня обычное свое действие, – писал Тургенев Аксакову, – всё, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе прижимает меня к России, всё родное становится мне вдвойне дорого – и если бы не особенные, от меня уж точно не зависящие обстоятельства, я бы теперь же вернулся домой».
И вот когда пришла пора собираться в Россию, Тургенев вдруг сделал неожиданный, обескураживший его петербургских друзей ход.
«Любезные и добрые мои петербургские друзья!
Письмо мое вас удивит, я это знаю – но делать нечего. Знайте же: вместо того чтобы возвратиться в Россию – я с Боткиным еду в Рим, где провожу зиму – и только на весну вернусь на родину. Причины, побудившие меня к такой внезапной перемене моих намерений, следующие: соблазнительная мысль провести зиму в Италии, а именно в Риме, прежде чем стукнуло мне 40 лет, и я превратился в гриб. Надежда, почти несомненная, хорошенько поработать. В Риме нельзя не работать – и часто работа бывает удачна. Боязнь возвратиться в Петербург прямо к зиме. Наконец, представившийся случай сделать это путешествие вдвоём с Боткиным. А потому не сердитесь на меня…
Ты, милый Некрасов, тоже не сердись. Если, как я надеюсь, я буду работать в Риме, то это для «Современника» будет полезнее моего присутствия – и я оттуда буду высылать тебе всё, что сделано…
Припадаю к стопам Писемского, Гончарова и всех дорогих друзей, которых я так желал бы видеть и которых не увижу зимой. Пусть они простят меня великодушно!»
После пережитых душевных волнений и мук, фактически кончившихся для Тургенева разрывом с Полиной Виардо, его соблазнила возможность тихой, исполненной спокойной работы зимы в Риме среди величественной и умиротворяющей обстановки. Вдруг Италия поможет ему еще раз возродиться духом? «Рим именно такой город, где легче всего быть одному; а захочешь оглянуться – не пустые рассеяния ожидают тебя – а великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности, – а, напротив, поднимают тебя и дают твоей душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое».
В Риме Тургенев постепенно оттаивал душою. Каждый день совершался какой-то праздник на небе и на земле; каждое утро, как только он просыпался, голубое сияние улыбалось ему в окна. Особенно успокаивал вид римских развалин. «Через несколько лет всё рухнет – иные стены едва держатся – но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха „Печаль моя светла“. Одинокий, звучно журчащий фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний – и чище, и нежнее звучат в ней художественные струны».
«Что за удивительный город! Вчера я более часа бродил по развалинам Дворца Цезарей – и проникся весь каким-то эпическим чувством; эта бессмертная красота кругом, и ничтожность всего земного, и в самой ничтожности величие – что-то глубоко грустное, и примиряющее, и поднимающее душу… Этого словами передать нельзя, но, раз ощутив, забыть, смешать с другим чувством нельзя. Впечатления эти музыкальны и лучше могли бы передаться музыкой».
Надо было смириться с положением одинокого, оставленного человека. В жизни совершался крутой возрастной перелом. С треском рушилось хрупкое здание прошлого и ничего обнадеживающего, нового еще не появлялось. «В человеческой жизни, – писал он из Рима Е. Е. Ламберт, – есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать, – и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызывать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла – и пора мне сделаться если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором – но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет».
«Теперь каждому надобно быть на своем гнезде. В мае месяце я надеюсь прибыть в деревню – и не выеду оттуда, пока не устрою моих отношений к крестьянам. Будущей зимой, если Бог даст, я буду землевладельцем, но уже не помещиком и не барином». Созревали надежды сесть на землю и «пахать ее», как можно лучше пахать, те надежды, которыми живет тургеневский Лаврецкий, герой «Дворянского гнезда». Размышления Тургенева перекликаются с раздумьями о смысле существования, о родине, о деревенской России, которым предается Лаврецкий: «Я знал перед моей поездкой за границу, которая так была для меня несчастлива – что мне было бы лучше оставаться дома… и я все-таки поехал. Дело в том, что судьба нас всегда наказывает и так, и немножко не так, как мы ожидали, и это „немножко“ нам служит настоящим уроком. Отдохнув в Риме, я вернусь в Россию сильно потрясенный и побитый, но надеюсь, по крайней мере, что на этот раз урок не пропадет даром».
Тургенев мечтает о конце скитальческой жизни, о твердой определенности взглядов, чувств и поступков, решает отказаться от погони за призраками ускользающего счастья, думает о самоотречении, об укреплении своей личности на твердом якоре долга. Погружаясь в тихую жизнь, он вынашивает в душе замысел самого «тихого» и гармоничного романа, главным лицом которого будет девушка, существо религиозное. Тургенев понимает трудность поставленной задачи, но надеется к концу 1858 года справиться с нею.
Возможно, что формированию этого замысла способствовало знакомство с Александром Ивановым и его картиной «Явление Христа народу». «По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная, – писал Тургенев Анненкову. – Не даром он положил в неё 25 лет своей жизни. Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок, нет единства, нет воздуха на первом плане (пейзаж в отдалении удивительный), всё как-то пестро и желто. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление (будут фанатики, хотя немногие), и главное: должно надеяться, что она подаст знак противодействия Брюлловскому марлинизму».
Творчество Брюллова Тургенев считал худшим проявлением романтизма в русской живописной школе, чем-то аналогичным русскому Марлинскому или французскому Гюго в литературе. Влияние Брюллова казалось ему губительным для самобытного развития отечественной живописи. «Художеству еще худо на Руси, – писал он Анненкову из Рима. – Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „все“ дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую российскую замашку. Невежество их всех губит…» «Представьте, все они (почти без исключения – я, разумеется, не говорю об Иванове) как за язык подвешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками… Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский… Брюллов – этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор – стал идолом, знаменем наших живописцев!»
И в Риме Тургенева ни на секунду не покидали мысли о России, о развитии национального искусства, о готовящихся в стране общественных преобразованиях. Ему было известно, что давно началась работа секретного комитета по подготовке крестьянской реформы, но правительство медлило с обнародованием результатов, и это промедление вызывало тревогу. «Я здесь в Риме всё это время много и часто думаю о России. Что в ней делается теперь; двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) – и войдёт ли в волны или застрянет на полпути? До сих пор слухи приходят все довольно благоприятные; но затруднений бездна, – а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек – и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда – великое слово! – поднимет и этого человека из берлоги».
Тургенев опасается, что Александр II встречает сильное противодействие в своих начинаниях со стороны реакционной партии, и просит Герцена не бранить царя на страницах «Колокола», «а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки – за что же его эдак с двух сторон тузить – эдак он, пожалуй, и дух потеряет».
Находившийся летом 1857 года за границей Александр II еще более укрепился в своей решимости освободить крестьян под влиянием прусского короля Вильгельма и барона Гакстгаузена, автора известной книги о русской сельской общине, в которой он заимствовал у Константина Аксакова славянофильские взгляды на русский сельский быт и мирское самоуправление. Вернувшись в Россию, Александр II высказал недовольство, что за восемь месяцев секретный комитет ничего не сделал, кроме длинных и велеречивых отписок. Он сказал графу Павлу Дмитриевичу Киселеву, старому поборнику освобождения: «Крестьянский вопрос меня постоянно занимает. Надо довести его до конца. Я более, чем когда-либо, решился и никого не имею, кто бы помог мне в этом важном деле». Вот почему Тургенев урезонивал Герцена и с нетерпением ожидал вестей из России.
Одновременно в воображении Тургенева всё более четко проступал замысел романа о судьбе российского дворянства. Он постепенно оттачивался в ходе внутренней полемики писателя с мыслями на этот счет своих друзей-либералов. Летом 1857 года Тургенев получил из Лондона третий выпуск нового издания Герцена под названием «Голоса из России». В нём помещались статьи либералов-западников, часть из которых была знакома Тургеневу ранее, в рукописном виде. Это были статьи, созданные по намеченной Кавелиным программе, проект которой утверждался на юбилее Московского университета в 1855 году. Опубликовать их в России не было возможности, и тогда Кавелин в марте 1856 года направил их к Герцену в Лондон с Н. А. Мельгуновым, а Герцен решил начать их публикацию в особых сборниках малого формата.
Тургенева задела в этом выпуске статья Б. Н. Чичерина «Об аристократии, в особенности русской». Иван Сергеевич прекрасно знал, что придворная знать, претендующая на первенство в государстве, настроена очень консервативно. Председатель Государственного совета граф А. Ф. Орлов, министр государственных имуществ граф М. Н. Муравьев, шеф жандармов князь В. А. Долгоруков, члены Государственного совета князь П. П. Гагарин и граф В. Ф. Адлерберг являлись убежденными противниками реформ и имели на царя большое влияние.
Однако, читая статью Чичерина, Тургенев испытывал двойственное чувство. По мнению автора, русское боярство, образовавшееся из членов княжеской дружины, было искони чуждо коренным основам народной жизни. Князья «ходили с дружиною по всей земле русской, а иногда предпринимали и дальние походы, воевали между собою, сбирали дани и пошлины, и раздавали товарищам, с которыми проводили время в войне, пирах и веселии… Не раз общины восставали на княжеских тиунов и платили им смертью за все их грабежи и притеснения. Но какое дело было боярину до народа? Он не имел постоянного отечества и местопребывания, не имел постоянных обязанностей, а хотел только нажиться да погулять, переезжая с места на место и останавливаясь там, где ему было любо…».
Не слишком ли облегченно и пренебрежительно смотрел Чичерин на историческую суть княжеской дружины, на судьбы дворянского сословия? Правомерно ли отказывал он своим предкам в какой бы то ни было связи с историей отечества? Конечно, были и междоусобицы, были измены общему делу во имя личных, своекорыстных интересов. Но можно ли на этом основании всех русских князей и бояр уравнять с грабителями и разбойниками?! И если в родословной книге дворянства только 36 родов русских и 551 выехавших из разных стран, то значит ли это, что «бояре не знали отечества», «не имели никакой связи с народом», что они «съехались в Россию для личных целей, чтобы нажиться, где можно, и этот характер они передали потомкам»? По Чичерину выходило, что не только предкам Тургенева, но и ему было отказано в праве называться русским человеком!
Что и говорить, немало горькой правды чувствовалось в обличениях русской дворянской аристократии: «Насильно сблизившись с народами Западной Европы, она прельстилась одним внешним блеском и великолепием, переняла у них платье, моды, роскошь, язык, но не переняла истинного просвещения, государственного смысла, любви к науке и искусству. Она забыла родной свой язык, стала презирать своё отечество и свой народ, и совершенно отделившись от него, образовала особенный мир, где нет ни национальности, ни образованности космополитической, ни понятия об общественной пользе, а есть только поверхностный лоск и стремление к личным целям и выгодам».
И всё же… Разве европеизация России, начатая Петром I, не отозвалась спустя сто лет на русской почве явлением пушкинского гения? Разве можно свести всю историю русского дворянства к раболепству перед верховной властью? И неужели за многовековой период существования в нем не проявилось «и тени государственных начал»? Наконец, с какой целью Чичерин подвергал всесокрушающей критике дворянское сословие? Оказывается, ему важно было доказать, что «наисамодержавнейший государь в миллион раз лучше корыстной и надменной олигархии, ищущей только собственной выгоды».
Чичерин смотрел на русское дворянство глазами иной, чиновничьей олигархии, ниспровергающей историю своего народа с высоты бюрократического самосознания. Герцен заметил, что гражданской религией Чичерина является апологетика государства – идола с царем наверху и палачом внизу. Тургенев убедился в правоте суждений Герцена о Чичерине, когда уже здесь, в Риме, в четвертой книжке «Голосов из России» познакомился с другой статьей либерального профессора – «Современные задачи русской жизни».
Провозглашая общелиберальные лозунги свободы совести, гласности, освобождения от крепостного состояния, Чичерин заканчивал презрением к историческому прошлому России, к народу: «Нет в Европе народа, у которого бы общественный дух был так мало развит, как у русских; каждый живет себе особняком, и никому дела нет до общих потребностей и интересов… Русский человек обладает характером более пассивным, нежели деятельным. Но это самое делает его с другой стороны чрезвычайно способным перенять чужое, ж когда его раз заставят выйти из обычной колеи, он может так же легко и в такой же крайности подчиняться новизне, как он прежде упорно держался старины. Не мудрено, что при таких условиях он не развил из себя разнообразного исторического содержания, не выработал человеческих начал – науки, искусства, промышленности, изящества нравов. Этому способствовало и удаление его от римского мира, передавшего Западным народам вековые стяжания древней истории».
Этот снисходительно-презрительный взгляд на Россию таил в себе опасность очередного деспотического перекраивания ее на казенный салтык вне тысячелетних традиций, вне ее культуры, без всякой веры в идеал. Русский народ обвинялся в «неспособности к созданию новых форм гражданственности», в «пассивности», в невозможности объединиться в союз, основанный на собственных силах и на собственной деятельности. Тем самым Чичерин доказывал, «что правительство всегда стояло у нас во главе развития и движения. При пассивном своем характере русский народ не в состоянии был собственными силами, без принуждения выработать из себя многообразные формы жизни. Правительство вело его за руку – и он слепо повиновался своему путеводителю. Потому нет в Европе народа, у которого бы правительство было сильнее, нежели у нас».
Мог ли согласиться с такой оценкой русского народа автор «Записок охотника»? Мог ли будущий автор «Дворянского гнезда» признать разумным следующий взгляд на дворянское сословие: «Едва лепеча на родном языке, они не знают ни русского духа, ни русского народа, ни русской истории, и в старании своем казаться истинно русскими они похожи на тех обезьян, которые хотя и подражают всем человеческим действиям, но все же сохраняют свои обезьянские ухватки»?!
Тургенев верил, что дворянство как большая культурно-историческая сила еще способно к общественному творчеству, к труду на родной земле. В незаконченной статье «Несколько мыслей о современном значении русского дворянства» он высказал уверенность в возможности коренного его перерождения. Крепостное право отнюдь не являлось, по Тургеневу, определяющей сущностью дворянского сословия: «Дворянство русское существовало и до окончательного закрепощения», как служилое сословие, приносившее пользу «земле» и государству. А потому и после освобождения крестьян дворянство должно сохраниться: его призвание – участвовать в медленном и постепенном перевороте, «учиться пахать землю, и как можно глубже её пахать».
Не мог согласиться Тургенев и с бездумным, насильственным навязыванием России таких общественных учреждений, которые не согласуются с её культурой, с нажитым ею историческим опытом. Его раздражало предложение Чичерина «вводить учреждения несвоевременные и противные народному духу» в целях «практической потребности установить порядок и стройность в государственном организме». И когда Е. Корш утверждал вслед за Чичериным, что общественные преобразования должны быть не столько следствием «внутреннего воздействия жизни народа», сколько результатом «внешних побуждений государства», являющегося «орудием образованности», – Тургенев возмущался и протестовал.
Такое отделение государства от «земли», такое расширение прав государственной власти вплоть до поощрения полного административного произвола представлялось Тургеневу крайним заблуждением. Он тоже считал, что творческой силой в России является небольшая часть культурного дворянства, умственная прослойка общества. Но Тургенев никогда не отождествлял с нею государственную власть. Наконец, Тургенев не отрицал в народной жизни глубоких традиций, преданий, авторитетов, общественных институтов и сознавал, что их разрушение было бы посягновением на органическую сущность национального бытия. Вслед за Карамзиным и славянофилами Тургенев видел силу государства в исконном союзе «земли» и власти. Он утверждал, что государственность в России складывалась иначе, чем в Западной Европе. Если там она возникла в результате завоевания, «в силу покоряющего меча», то у нас она формировалась на мирной основе.
В Италии Тургенев не случайно близко сошелся с князем В. А. Черкасским, который, в отличие от «государственников», рассматривал исторические факты борьбы Российского государства с дворянской фрондой не в пользу централизации, а в пользу восстановления «здоровых нравственных норм» средневековой жизни, когда произвол самодержавия ограничивался боярской думой и земским собором. Черкасский называл себя «другом просвещенного дворянства» и ратовал за расширение его прав в местном самоуправлении. Правда, Тургеневу казалось, что Черкасский несколько идеализирует современное состояние русского дворянства, недооценивая опасность реакционной партии «плантаторов». Тургенев разделял тревоги Николая Ивановича Тургенева, который относился к дворянству критически и видел исторические корни дворянских слабостей в отрыве значительной части высшего сословия от народа. Именно этот отрыв и являлся, по Тургеневу, главным затруднением России на путях цивилизации и прогресса. Пришла пора повернуться лицом к лицу к насущным потребностям народа и, опираясь на современную науку и европейскую культуру, сосредоточить все усилия на дальнейшем развитии своего отечества. Это желание росло в Тургеневе с каждым днем. Он вспоминал о том, что наиболее чуткие в нравственном отношении девушки из дворянского общества давно ощущали противоестественность принятого в их кругу образа жизни. Так, дальняя родственница, молодая поэтесса Елизавета Никитична Шахова в возрасте 28 лет оставила свет и постриглась в монахини Тверского Рождественского монастыря. Какой душевной силой надо было обладать, чтобы отречься от всех благ дворянского сословия и целиком отдаться служению тем нравственным идеалам, которые понятны народу, ценимы им. Да и мало ли примеров подобного самоотвержения видел Тургенев вокруг. Та же великая княгиня Елена Павловна, с которой он тесно сошелся в Италии, подтверждала всей жизнью своею заветные мысли Тургенева периода работы над «Дворянским гнездом». Дочь вюртенбергского принца Павла, она принадлежала к самой высокой европейской аристократии. Избранная в невесты великому князю Михаилу Павловичу, она прибыла в Россию в 1823 году, и уже в первый день Карамзин услышал, что она читала его «Историю государства Российского» в подлиннике, а с Шишковым она говорила о славянском языке, обнаруживая живой интерес к русской культуре и основательное знакомство с нею. В 1854 году, во время Крымской войны, она основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и обнародовала воззвание о помощи больным и раненым ко всем русским женщинам. Она превратила свой дворец в склад вещей и медикаментов, по ее инициативе был отправлен в Севастополь отряд врачей во главе с Пироговым. И теперь она оказалась одной из первых в аристократическом кругу сторонниц отмены крепостного права. Елена Павловна использовала все связи и все личное влияние для того, чтобы склонить Александра II к этому историческому шагу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































