Текст книги "Тургенев"
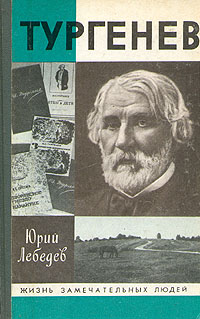
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Гумбольдту в это время было уже 70 лет, но он старательно ходил на лекции по философии вместе с Тургеневым и другими молодыми студентами. В своем колоссальном труде этот «Аристотель XIX века» стремился представить природу как единое живое существо, движимое и одушевляемое внутренними духовными силами. Разнообразные проявления природной жизни он рассматривал в их совокупной общей связи, и занятия философией Гегеля помогали ему проследить эту диалектическую взаимосвязь.
Гумбольдт был частым гостем в семье Фроловых и принимал участие в общих беседам, душою которых была жена Н. Г. Фролова Елизавета Павловна, по характеристике Тургенева, «женщина очень замечательная, почти гениальная», привлекавшая к себе тонким женским умом и грацией. Она обладала способностью вызывать у людей ощущение непринужденности. Сама Елизавета Павловна говорила немного, но каждое слово ее отличалось такой меткостью и точностью, что долго не забывалось.
На вечерах у Фроловых любил бывать и молодой профессор Карл Вердер, талантливый пропагандист гегелевской философии, с которым Тургенев имел возможность общаться не только в студенческой аудитории. Добродетельный, аккуратный и детски чистый человек, Вердер умел делать отвлеченные истины гегелевского учения яркими, образными и доступными, он умело иллюстрировал их цитатами из второй части «Фауста» Гёте. Философии в его устах как бы возвращалась жизнь и поэзия, философские формулы обретали глубокий нравственный смысл, Вердер связывал с ними достоинство человека и нравственное его воспитание.
«Редкий молодой человек, – говорил Станкевич о Вердере, – наивный, как ребенок. Кажется, на целый мир он смотрит, как на свое поместье, в котором добрые люди постоянно готовят ему сюрпризы. Его беседы имеют спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, и становится самому лучше, и сам становишься лучше». Когда впоследствии Тургенев писал о «музыке красноречия» Дмитрия Рудина, о его способности зажигать словом сердца людей, он вспоминал о Вердере:
«Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Не самодовольной изысканностью опытного говоруна – вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди».
Тургенев вместе с другими студентами был так захвачен лекциями молодого профессора, что принимал участие в знаменитых серенадах. Нанимались специальные музыканты, студенты приходили вместе с ними под окна к дому учителя и после увертюры пели песни в честь науки. Вердер, и смущенный и сияющий, выходил к студентам и благодарил за оказанную ему честь.
Когда Вердер приходил в дом Фроловых, он моментально овладевал вниманием слушателей и пускался в блестящие философские импровизации. Поддерживать обыденный житейский разговор он не умел, а если случалось, то говорил коряво, с запинками, мучительно долго подбирая простые слова. Не умел он также и слушать собеседника, плохо разбирался в людях. Но как только представлялся повод поговорить на отвлеченную тему, речи его лились рекой.
Раз после ухода Вердера Тургенев не удержался и воскликнул: «В первый раз слышу человека!» На что проницательная и меткая на определения Фролова заметила: «Да. Жаль только, что он с одним собой знаком».
Совершенно иным был душевный склад у Станкевича. Он о себе не думал, но всерьез интересовался собеседником, проникал в его душу и, «как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала». Однажды Тургенев заявил Станкевичу, что в отрицании заключается подлинная благодать: им жизнь движется вперед, – а в доказательство привел образ Мефистофеля из «Фауста» Гёте. Станкевич внимательно посмотрел ему в глаза и вкрадчиво, но убедительно заговорил:
– Отрицайте всё, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стойте выше того, что отрицаете. А часто это неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна, а во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже: ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет и сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания; жизнь – сущность жизни – ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить. Порицать, бранить имеет право только тот, кто любит.
Впоследствии, в романе «Рудин», Тургенев отдал дань благодарной памяти этого светлого человека, образ которого явился прототипом Покорского: «Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой». Тургенев думал о вечерах у Фроловых, когда устами Лежнева «вспоминал наши сходки», в которых было «много хорошего, даже трогательного».
«Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы все на наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии <…>.
А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные и трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе… Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее… Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, – не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом».
На вечерах у Фроловых Тургенев познакомился с Беттиной Арним, бывшей поклонницей Гёте, которая незадолго до приезда Тургенева в Берлин опубликовала свою переписку с поэтом. Это была молодящаяся экзальтированная дама в возрасте 53 лет, романтически настроенная, любившая рассуждать «о природе, как о чем-то одушевленном и живом», возбуждавшая интерес Тургенева своими размышлениями о связи человеческого духа с природой. В своих воспоминаниях о знакомстве с Гёте она часто подменяла реальные факты игрой воображения. И тогда знаменитый немецкий критик-биограф Фарнгаген фон Энзе, досконально знавший биографию великого поэта Германии, «выводил ее на чистую воду».
К этому человеку, завсегдатаю вечеров у Фроловых, Тургенев испытывал искреннюю симпатию. Он рассказывал немецкому биографу о русской литературе, о национальном гении России – Александре Сергеевиче Пушкине, читал наизусть его стихи и делал с них переводы.
Фарнгаген фон Энзе проникся интересом к русскому гению и опубликовал в «Ежегоднике наук и искусств» критическую статью о нем, которая произвела сенсацию в берлинских кругах, а в России получила восторженный отзыв Каткова в журнале «Отечественные записки». Приятель Тургенева Я. М. Неверов в письме к В. Ф. Одоевскому от 13 ноября 1838 года сообщал об этой статье: «Она возбудила здесь живой интерес как содержанием своим, так в особенности именем Варнгагена, и русская литература наряду с современными политическими вопросами составляла на несколько недель предмет общего разговора. Забавно, что профессор Ганс, одна из остроумнейших голов между тяжеловесными немецкими учеными, высказал подозрение, что это написано не Варнгагеном, а русскими, и именно мною, – он знает, что я хорошо знаком с Варнгагеном, так что мне надобно было оправдаться. Главное дело в том, что Ганс на своих лекциях, на которые каждодневно собирается более 400 человек всех званий, возрастов и наций, жарко нападает на славянские народы и старается доказать, что они способны только воспринимать пассивно, ничего не производя, а потому все его последователи никак не хотели верить, чтобы русские могли иметь поэта с европейским значением…»
Этого красноречивого Ганса, юриста гегелевской школы, слушал и Тургенев. Больно ударяли по национальному самолюбию русского человека кичливые профессорские рассуждения, которые опирались к тому же на авторитет Гегеля. Последний отказывал славянским народам во всемирно-историческом призвании, утверждая, что мировой дух в своем развитии славянство обошел, осенив своим величием немецкую нацию, гениальным сыном которой Гегель открыто считал себя, полагая, что в его философии великий творец вселенной завершил акт своего самопознания.
Уклон в национализм всегда впоследствии вызывал у Тургенева отрицательную реакцию, с какой бы стороны он ни исходил – немецкой, русской, английской или французской. Вероятнее всего, эту болезненную реакцию на малейшие признаки национальной кичливости писатель вынес из университетских лекций, а известно, что воспринятое в юности прочно укореняется в человеке и сохраняется, как правило, на всю жизнь.
Вопрос о судьбах славянства обсуждался в кружке Станкевича. Весною 1838 года Грановский три недели провел в Праге, где познакомился с идеологами чешского и словацкого национально-освободительного движения П. Шафариком и Ф. Палацким. По их рекомендации он прочел трактат известного поэта славянского возрождения Яна Коллара «О литературной взаимности между различными племенами и наречиями славянского народа». Ян Коллар мечтал о создании единой, всеславянской литературы, и Грановский увидел в трактате «много истинного и важного для нас», хотя автор его «уж слишком славянствует».
Рассказывая в семье Фроловых о встречах с Шафариком, Грановский замечал: «Это преувеличение так понятно, так необходимо в людях, которые служат избранному делу. К концу нашего разговора Шафарик сказал, что ему грустно смотреть на теперешнюю Европу, полную бесплодных волнений, полуразорванную внутренними раздорами… Но при всем моем уважении к его огромным сведениям я не могу согласиться, что славяне не менее немцев участвовали во всемирной истории. Мне кажется, что нам принадлежит будущее, а от прошедшего мы должны отказаться в пользу других. Мы не в убытке при этом разделе. Как ни говори, а все-таки история германцев теперь важнее славянской, в связи со всеобщею. Через два-три столетия – другое дело». Формирующийся «западник», Грановский даже хотел написать об этом специальную статью.
Западничество тем не менее не мешало русским студентам быть патриотами. Я. Неверов вспоминал, как однажды в гостинице Ягора, где часто сходились Грановский, Станкевич, Неверов и Тургенев, друзья встретились с компанией поляков. Кто-то из поляков с явным намерением уязвить русских прочел вслух французский памфлет против России и кончил чтение «возмутительным тостом для русских». Первым вскипел Тургенев, но Грановский тотчас остановил его, прося предоставить ему уладить дело. Потом Грановский произнес примирительную речь, которую закончил так: «Вместо слова ненависти за проклятие, направленное против нас, обратим к ним слова любви. Во главе славянского развития стала Россия, а не Польша; но нам нечего гордиться: надо братски соединить все усилия в стремлении к высокой цели, единению славян и первенствующему их развитию на историческом поприще». Поляки и русские обнялись.
Политические вопросы оказывались ближе сердцу Тургенева. По складу своей душевной организации он все-таки оставался не философом, а художником, склонным воспринимать мир всей полнотою натуры, всем богатством человеческих чувств. Он мог рассуждать уверенно только тогда, когда идея вставала перед ним в форме художественного образа, и с трудом пускался в абстракции. Позднее, в разговоре с американским писателем X. Бойесеном, Тургенев объяснял эту особенность своего ума так: «Европа, например, часто представляется мне в форме большого слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак. Америка представляется моему уму в форме обширной плодоносной прерии, на первый взгляд кажущейся слегка пустынной, но на горизонте которой разгорается блистательная заря».
Односторонность своих друзей, целиком уходящих в толкования отдельных параграфов и пунктов гегелевского учения, и восхищала Тургенева, вызывая в нем тайную зависть, и одновременно отталкивала его. Временами, среди ученейшего разговора на какую-нибудь философскую тему о «становлении», «бытии», «сущности», Тургенев сознательно произносил глупость, первую пришедшую ему на язык, что вызывало со стороны умных и серьезных друзей упреки в легкомыслии, не лишенные известных оснований.
Вот почему Тургенев тянулся к Грановскому и Станкевичу и одновременно отводил душу с любезным его сердцу Януарием Неверовым. Неверов был старше Тургенева на восемь лет и обладал богатым жизненным опытом. Почти разночинец, выходец из бедной дворянской семьи, Неверов по окончании Арзамасского училища служил канцеляристом в уездном суде. Минуя гимназию, благодаря упорству и энергии, он подготовился к экзаменам и поступил в 1828 году в Московский университет. Окончив курс кандидатом, Неверов служил в канцелярии «Журнала министерства народного просвещения», а в мае 4837 года приехал в Берлин. Он жил в одном доме с Тургеневым и, на правах старого друга Станкевича, способствовал их сближению. Однако, в отличие от Станкевича, Грановского и Тургенева, Неверов не доверял философии Гегеля и относился с нескрываемой иронией ко всякого рода отвлеченностям и неопределенным порывам. Вероятно, свойственный Януарию здравый смысл и скептицизм вызывали у Тургенева скрытую симпатию.
Вслед за Януарием Тургенев увлекался лекциями профессора Риттера, создателя географической науки. Шеллингианец Риттер «видел в земной поверхности нечто живое, в отдельных континентах – как бы особые организмы с присущими каждому характерными признаками и качествами, выражающимися в особенностях очертаний берегов, рельефа, климата, характера растительности и животной жизни, а равно и культурного развития связанных с этими естественными условиями пород человечества». Для будущего автора «Записок охотника» не прошли бесследно лекции этого профессора, учившего чувствовать глубокую внутреннюю связь между природой той или иной страны и особенностями ее национальной культуры.
От «умных» лекций и философских разговоров Тургенев отводил душу с Порфирием Кудряшовым. Вспоминали, что часто барин со слугой играли на квартире в оловянных солдатиков и очень увлекались ловлей крыс. Порфирий в Берлине зря времени не терял, посещая занятия на медицинском факультете, так что он вернулся в Россию довольно толковым и знающим врачом. За границей он влюбился в немецкую девушку, и Тургенев, как литературно одаренный человек, порой, по его просьбе, сочинял любовные письма. Когда пришла пора возвращаться в Россию, Тургенев советовал Порфирию остаться в Германии, напоминая о том, какой кошмар ждет его на родине в доме матери. Но верный слуга так соскучился по родной стороне, что отговорить его от возвращения было невозможно.
По беззаботности, свойственной молодости, Тургенев не баловал Варвару Петровну ответными письмами, хотя она писала ему регулярно о жизни в Спасском, и письма ее нередко превращались в живые, красочные образные отчеты о прожитом дне. В этих письмах проявлялся не только крутой ее нрав, но и преданная любовь к родному сыну Ваничке: «Моя жизнь от тебя зависит… Как нитка в иголке; куда иголка, туда и нитка»; «ради бога, Иван, не скучай на чужбине. Вообрази, что это твоя служба… Ваничка, когда тебе взгрустнется по России, то ты думай, как я: да ведь мои покойны, здоровы и пекут себе попутники, пирожки ко мне на дорогу. Дай срок; все дни впереди – не нынче – завтра… Еще денек… еще день… Вечная песня бедных бурлаков на барке, – тянут веревку и припевают: еще разик, еще раз… О!.. Ох!..» «Что мне твой подарок дорогой? Дорого внимание. Цветочные семена в первой семенной лавке – листочки и семечки все твои берегутся. Но! – тебе и это стало в тягость, и два письма я не получаю этого условленного гостинца. Что такое за важность – берлинское изделие, узорчик по канве, ленточка, колечко, – которое бы 1000 раз целовала.
Но!.. Ты на это ни в отца, ни в мать, ни в брата. Отец не едал сладко, чтобы лишнюю ленточку и чепчик прислать или привезти».
В ответ на молчаливое невнимание сына в письмах нарастают упреки: «Ты эгоист из всех эгоистов… Ты умеешь ценить внимательность, но! – не подумаешь, как она приятна матери… А ты будешь со временем муж, отец. О! Нет! – пророчу тебе, – ты не будешь любим женою. Ты не умеешь любить, т. е. ты будешь горячо любить не жену, т. е. не женщину, – а свое удовольствие».
Упреки переходят в прямые угрозы, за которыми опять-таки скрывается заботливая любовь к сыну: «Не затейся знакомства свести с актрисами в Берлине. Помни, что имение твоего отца не дает тебе на уплату в казну доходу. А я при первом твоем долге публикую, даю тебе мое честное слово, публикую в газетах, что имение у вас не отцово и что я за вас долгов платить не буду. Это не сделает тебе чести, конечно. Но! – по крайней мере, с меня за твои долги взыскивать не будут».
Материнские тревоги были небезосновательными: девятнадцатилетний студент и в денежных делах не проявлял большой аккуратности. Рассудительный брат Николай писал Тургеневу 25 сентября 1838 года: «Мы с тобою были всегда так дружны, что я уверен, Jean, что ты не будешь сердиться на меня, если я сделаю тебе некоторые замечания насчет твоего образа жизни… Ты сам был в деревне, видал и знаешь, как тяжело достается копейка, а со всем тем ты тратишь и не оглядываешься. Прекрасная есть у нас на Руси пословица: по одежке протягивай ножки… Придет время, ты остепенишься да как взглянешь на прошлые шалости да мотовство бесполезное, так будешь жалеть. Если ты молодым студентом с посохом в руках тратишь так много, что же будет, если ты останешься там служить, надо будет, по крайней мере, вдвое». Юный бурш ответил на это письмо брата следующим посланием в стихах:
Напрасно, добрый милый брат,
Ты распекаешь брата Ваньку:
Я тот же толстый кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А все выходит наизнанку.
Поверь, умею я ценить
Всю пользу дружеских нападок.
Но дух беспечен – плоть слаба,
Увы! к грехам я слишком падок!
Наступает момент, когда молчание сына выводит Варвару Петровну из всякого терпения. И тогда она чеканит сыну свой «господский деспотический приказ»:
«Три недели я не получала от тебя писем, mon cher Jean, – пишет матушка. – Слава Богу, что не получала оттого, что ты не писал! Теперь буду покойна. Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, – но! – ты должен сказать Порфирию – я нынешнюю почту не пишу к мамаше. Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно, – Иван С., де, здоров, – боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! – ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку: жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик… Что делать, бедный мальчик будет терпеть… Смотри же, не доведи меня до такой несправедливости».
Вряд ли задумывалась Варвара Петровна о том, в какую нравственную дрожь повергают ее любимого сына такие замашки. Для нее-то они были нормой жизни, одним из способов повседневного барского существования. Расчет делался тем не менее верный – на сердобольный и мягкий характер Ивана. Приходилось писать регулярно, так как знал, что матушка слов на ветер не бросает, и что ею сказано, то и будет сделано, – станет плакать и кричать на конюшне от боли и обиды ни в чем не повинный «министр почт», крепостной мальчик Николашка.
В мае, незадолго до окончания первого года учебы в университете, Тургенев получил из Спасского письмо, которое глубоко его потрясло и выбило из колеи.
«Дорогой Иван, – писала матушка. – Когда я, слабая, больная женщина, без всяких приготовлений, сидя на пате в гостиной в 10 часов вечера увидела сыплющиеся на сад искры и вдруг озарившее зарево до самого Петровского, увидела, не слыхав прежде, что пожар на дворне, – то тебя, мужчину, не имею, кажется, нужды долго приготовлять и могу прямо сказать: «Сон твой исполнился, виденный, ежели ты помнишь, два года тому назад, – что после многих бед я, наконец, вошла в церковь, гром грянул, и все исчезло. Да! Я вошла в церковь… дом Спасский сгорел и обрушился. Да… да!.. Да! Спасское сгорело, начиная от церкви справа, и окружило все по самый дядин флигель. – Уф, написала, кончила. – Теперь начинаю описание.
Это было 1 мая. Я была больна. У меня гости были из Мценска. – Так было все хорошо, изобильно, пили шампанское. Я радовалась… все желаемое мною приведено было в порядок: имение разделено на участки, деньги завелись, – кассир был назначен. Все это накануне: я говорю тебе – я была счастлива. Гости уехали. Я три дня лежала в постели. Тут встала, легла на пате, – и дети кругом меня, – и начала с Лизеттой о чем-то спор. – Вдруг блеснула искра в моих глазах (брата и дяди не было, они были уже на пожаре. Горела дворня. Алексея кучера жена ходила в закуту с лучиною. Брат думая и дядя, что затушат, и потому мне не сказали). Так, пролетела искра, а там горящий отломок в четверть. – «Боже мой, мы горим», – сказала я, – и в одну минуту зарево осветило весь сад и дом!
Остальное буду рассказывать лично. Все занялись пожаром, меня забыли; я ушла в церковь, и сон твой свершился. В одну лошадь, – Капитошка кучером, – мы трое, т. е. – я и двое детей, уехали в Петровское, в коляске. Лошадь загрязла, делать было нечего. С образом, с мощами, с крестом на шее, приехала я на Петровское. Буря была ураган; все ревело, рвало. В 12 часов ночи Спасское уже не существовало. «Что спасли?» – спросишь ты. – Деньги, вещи – и только. Вынесли все, но! – все перебили, остальное разокрали; нас грабили просто. Мы бедны движимым, как самые беднейшие люди, и без пристанища. Дядин дом вдребезги, окна перебиты, и полы, и мебель. Куда было деться? Отвезли меня в Мценск. У меня там для приезду был нанят домик в 5 комнат. Вот жилище твоей роскошной и богатой матери… «А что дядя?» – спросишь ты. – Род помешанного. А брат желт, как пупавка. А ты де?..
Ах! Ваничка, Ваничка, вот и еще день пятницы, а от тебя писем нет, вот уже две недели.
Завтра суббота, тяжелая почта. Посылаю тебе на дорогу две тысячи ассигнаций. Кажется, тебе нечего в Берлине мешкать. Я и прежде об этом писала, а нынче я требую, чтобы ты приехал, не мешкав. Мне нужно ваше с братом присутствие. Я бы не желала приказывать, но! – мне нечего делать. Я не в силах тебя более содержать за границей. О! Нет! Нет! Не то, не то… Как же не в силах! Боже мой, неужели я отниму от тебя твою карьеру… О! Нет!.. Мне нужно, мне необходимо видеть тебя как можно, как можно скорее. Я упала духом и имею нужду подкрепиться. О! Господи… Господи… Какие кресты ты на меня кладешь.
Но! – только будьте здоровы, будьте здоровы, умны, добры, любите меня, мои деточки, – и все с рук сойдет мне благополучно. …Итак – на пепелище, до сих пор еще дымящемся… ружье твое цело. А собака твоя очумела. <…>
А ты, злодей, ленив писать. Ох! – при моем горе и нет ни одной от тебя грамотки. Более писать к тебе не буду. Буду ждать, чтобы лично благословить тебя, и увидишь, что я твой верный друг».
Когда Тургенев опомнился от душевного столбняка, который нашел на него, им овладели противоречивые чувства. Непростые отношения складывались у него с родовым гнездом, с домом, где прошло детство. Никак не укладывалось в мысли, что этого дома больше не существует. Память восстанавливала в подробностях и деталях облик спасских комнат. Вот классная, где они с братьями проводили долгие часы за домашними уроками; стол, кромки которого подрезаны перочинным ножом во многих местах… А библиотека! Цела ли спасская библиотека? Неужели сгорели те старые шкафы, открывая которые он, бывало, с удовольствием вдыхал кисловатый запах старых книг и с каким-то священным трепетом раскрывал очередной попавшийся ему под руку том, аккуратно перелистывая слежавшиеся, прилипшие друг к другу страницы. Вспомнился и Херасков, и книга эмблем и символов, и новиковские издания XVIII века, и тома сочинений французских энциклопедистов… Трудно было представить, что ничего этого больше не существует: ни пенья двери в спальной комнате (как испугало оно его тогда, в памятную ночь не осуществленного побега), ни «птичьей» комнаты с зеленой клеткой, ни потаенных уголков, где можно было спрятаться от докучливых гувернеров и часами отсиживаться в темноте, прислушиваясь к стуку в висках и к таинственным звукам, наполнявшим гулкое пространство огромного, как мир, спасского дома.
Вспомнился немец-учитель, который до вступления в новую должность был седельником. Он приехал в Спасское с прирученной вороной, сидевшей у него на плече, и Тургенев вместе с многочисленной дворней с любопытством рассматривал чудака гостя. «Ах ты, фуфлыга!» – флегматически заметил кто-то из стариков-дворовых. Немец прислушался, а за обедом неожиданно спросил отца:
– Позвольте у вас узнать, что значит слово «фуфлыга»? Меня вчера назвал ваш человек этим словом.
Отец взглянул на прислугу, догадался, в чем дело, улыбнулся и сказал:
– Это значит «живой и любезный господин».
Видимо, немец не очень поверил этому объяснению.
– А если б вам сказали, – обратился он к отцу: – «Ах, какой вы фуфлыга!» Вы бы не обиделись?
– Напротив, я принял бы это за комплимент.
Тургенев вспоминал, как этот чувствительный немец не мог читать без слез любимого им Шиллера и как обнаружилось в этом добродушном человеке полное отсутствие какой бы то ни было учительской подготовки. До сих пор осталась в памяти его съеженная фигура с вороной на плече, удаляющаяся от спасского дома навсегда…
Нет больше этого дома! Сгорела и та гостиная, в которой раз за обедом зашел разговор о том, как зовут дьявола – Вельзевулом, Сатаною или иначе?
– Я знаю, как зовут.
– Ну, если знаешь, говори, – отозвалась мать.
– Его зовут Мем.
– Как! повтори, повтори!
– Мем!
– Это кто тебе сказал? Откуда ты это выдумал?!
– Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни.
– Как так у обедни?
– А во время обедни выходит дьякон и говорит: «Вон, Мем!» (Он полагал, что дьякон выгоняет из церкви дьявола, в то время как тот произносил старославянское «вонмем» – «внимаем»). Удивительно, что матушка тогда его за это не высекла. Даже напротив, неожиданное толкование славянского слова вызвало у взрослых добродушный и веселый хохот.
Где теперь все это? Как быстро летит время и как непрочно перед лицом его стремительного движения человеческое существование, как бренно все, что с таким старанием строят и сооружают люди. Им кажется, что они слуги вечности, но является нежданно-негаданно слепая разрушительная стихия, – и все ими созданное на века в одну минуту разрушается, рассыпается, как карточный домик. И чем острее воспринимается мир в преходящих явлениях, тем тревожнее и трагичнее становится любовь Тургенева к жизни, к ее мимолетной красоте.
Немедленно собираться и ехать в Спасское! Таков был первый душевный порыв. Но вскоре возникло сомнение: а вдруг матушка, поддавшись капризам своего самовластного характера, захочет навсегда удержать его при себе? И тогда – прости, Берлин, прощайте, лекции вдохновенного Вердера и излучающая духовный свет личность Станкевича, прощайте, милые, добрые друзья, прощай, юность и молодость. Настанет полоса мучительного прозябания под неусыпным, ревнивым контролем взбалмошной самодурки-помещицы…
В середине августа по дороге к Спасскому он с внутренним содроганием пытался представить себе картину, которая ожидает его на месте старого родового гнезда. «Тарантас его быстро катился по проселоч-ной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью»…
Вот и спасская церковь мелькнула наконец на повороте дороги, и перед его глазами открылся вид грандиозного пепелища. Черным гигантским полукругом охватывало оно то пространство, где некогда располагался левый флигель с мезонином и галерея. А на месте большого спасского дома зиял странный провал, на фоне которого торчали обгорелые деревья, их черные остовы скорбно напоминали о бушевавшей здесь три месяца назад жадной огненной стихии.
Уцелел только правый флигель с остатками галереи… На веранде, поддерживаемая услужливыми приживалками, в окружении многочисленной дворни, стояла постаревшая, исхудавшая и ссутулившаяся мать. В ее черных глазах не было привычного недоброго блеска, а светилась материнская ласка, трогательная беззащитность и мольба-Тургенев прожил тогда в Спасском до середины сентября. Дружба с Афанасием Алифановым, осенняя охота на вальдшнепов в орловских лесах. Были встречи и знакомства с крестьянами, которые делились с охотниками своими радостями и печалями. Были ночевки под открытым небом у костра, невдалеке от мельничной плотины. В охотничьих странствиях копились жизненные впечатления, созревали сюжеты будущих очерков, хотя до «Записок охотника» было еще далеко…
Пережитое потрясение смягчило на время характер Варвары Петровны. Она окружила сына заботой и лаской, слушала рассказы о его поездках по Германии, вспоминала свою молодость, отца, первое семейное путешествие в Европу. К счастью, библиотека осталась цела, и мать принесла путеводитель Рейхарта, которым они когда-то пользовались с отцом. «То карандашом черточка, то ногтем, то уголок загнут, – все это, как стрелы в сердце». А вот его записочки и высохший цветок гераниума, заложенный отцом между страницами. «Он до сих пор издает слабый запах, а рука, его вложившая, давно уже тлеет в могиле». «Живу прошедшим, живу воспоминаниями, – говорила мать, – только на Смоленском кладбище бываю я счастливой».
Тургенев с удивлением замечал в характере матери черты, на которые раньше не обращал внимания. Круг её интересов был довольно широк и не вполне обычен для типичной провинциальной помещицы. Однажды Варвара Петровна так жаловалась ему на свою свекровь: «С утра до вечера больше ничего, как карты. Нет! Моя старуха матушка была несравненно занимательней: она любила читать, могла судить о политике, о романах, даже русских. Матушка же Елизавета совсем не такова; вздыхает, ноет, охает, чай пьет, завтракает, обедает, опять ноет, чай пьет – и в карточки, а без того у неё материи нет занимательной. Это очень скучно для такой женщины, как я, читающей и понимающей».









































