Текст книги "Тургенев"
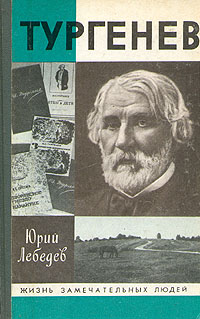
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 46 страниц)
Роман «Рудин»
1855 год внезапно обрушил на Тургенева такой противоречивый поток жизненных впечатлений, столкнул его с такими конфликтами, что волей-неволей приходилось задумываться и о себе, и о людях своего поколения. Время ставило перед ними решительные и прямые вопросы, требуя от них столь же решительного и последовательного действия. Разговоры и споры в тесном кругу единомышленников, некогда определявшие смысл существования культурной части русского дворянства, теперь никого не могли удовлетворить. Время «слова» уходило в прошлое, сменялось новой эпохой, звавшей мыслящего человека на дело, на практическое участие в политической жизни страны. В обществе назревали крутые перемены, касавшиеся в первую очередь судьбы двух сословий России – дворянства и крестьянства.
В такой исторической атмосфере, летом 1855 года, Тургенев приступил к работе над романом «Рудин», произведением во многом автобиографическим. Главный герой его – человек тургеневского поколения, сформировавшийся в конце 30-х – начале 40-х годов, один из лучших представителей культурного дворянства. Рудин получил блестящее образование сначала в кружке Покорского (прототип Н. В. Станкевич), а потом в Берлинском университете. В облике Рудина современники узнавали друга Тургенева М. А. Бакунина, хотя в процессе работы над романом Тургенев и пытался затушевать черты сходства с ним.
Тургенева волновал вопрос, что может сделать дворянский герой в условиях, когда перед обществом встали конкретные практические задачи. Сначала роман назывался «Гениальная натура». Под «гениальностью» Тургенев понимал способность к просвещению, разносторонний ум и широкую образованность, а под «натурой» – твердость воли, острое чувство насущных потребностей общественного развития, умение претворять слово в дело.
По мере работы над романом это заглавие перестало удовлетворять Тургенева. Оказалось, что применительно к Рудину определение «гениальная натура» звучит иронически: в нем есть «гениальность», но нет «натуры», есть талант пробуждать умы и сердца людей, но нет сил и способностей вести их за собой.
«Рудин» открывается контрастным изображением нищей деревни и дворянской усадьбы. Одна утопает в море цветущей ржи, другая омывается волнами русской реки. В одной – разорение и нищета, в другой – праздность и призрачность жизненных интересов. Причем невзгоды и беды «забытой деревни» прямо связаны с образом жизни хозяев дворянских гнезд. Умирающая в курной избе крестьянка просит не оставить без присмотра свою девочку-сиротку: «Наши-то господа далеко…»
Здесь же читатель встречается с Лежневым и Пандалевским. Первый – сгорбленный и запыленный, погруженный в бесконечные хозяйственные заботы, напоминает «большой мучной мешок». Второй – воплощение легкости и беспочвенности: «молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке». Один спешит в поле, где сеют гречиху, другой – за фортепиано, разучивать новый этюд Тальберга.
Пандалевский – человек-призрак без социальных, национальных и семейных корней. Даже речь его – парадокс. Он «отчетливо» говорит по-русски, но с иностранным акцентом, причем невозможно определить, с каким именно. У него восточные черты лица, но польская фамилия. Он считает своей родиной Одессу, но воспитывался в Белоруссии. Столь же неопределенно и социальное положение героя: при Дарье Михайловне Ласунской он не то приемыш, не то любовник, но скорее всего – нахлебник и приживала.
Черты «беспочвенности» в Пандалевском абсурдны, но по-своему символичны. Своим присутствием в романе он оттеняет призрачность существования некоторой части состоятельного дворянства. Тургенев искусно подмечает во всех героях, причастных к кружку Дарьи Михайловны, нечто «пандалевское». Хотя Россия народная – на периферии романа, все герои, все события в нем оцениваются с демократических позиций. Русская тема «Записок охотника», ушедшая в подтекст, по-прежнему определяет нравственную атмосферу романа. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись», – говорит Лежнев.
Есть скрытая ирония в том, что ожидаемого в салоне Дарьи Михайловны барона Муффеля «подменяет» Дмитрий Рудин. Впечатление диссонанса рождает и внешний облик этого героя: «высокий рост», но «некоторая сутуловатость», «тонкий голос», не соответствующий его «широкой груди», – и почти символическая деталь – «жидкий блеск его глаз».
С первых страниц романа Рудин покоряет общество в салоне Ласунской блеском своего ума и красноречием. Это талантливый оратор; в своих импровизациях о смысле жизни, о высоком назначении человека он неотразим. Ловкий и остроумный спорщик, он наголову разбивает провинциального скептика Пигасова. Молодой учитель, разночинец Басистов и юная дочь Ласунской Наталья поражены музыкой рудинского слова, его мыслями о «вечном значении временной жизни человека».
Но и в красноречии героя есть некоторый изъян. Он говорит увлекательно, но «не совсем ясно», не вполне «определительно и точно». Он плохо чувствует реакцию окружающих, увлекаясь «потоком собственных ощущений» и «не глядя ни на кого в особенности». Он не замечает, например, Басистова, и огорченному юноше неспроста приходит в голову мысль: «Видно он на словах только искал чистых и преданных душ».
Крайне узким оказывается и тематический круг рудинского красноречия. Герой превосходно владеет отвлеченным философским языком: его глаза горят, а речи льются рекой. Но когда Дарья Михайловна просит его рассказать что-нибудь о студенческой жизни, талантливый оратор сникает, «в его описаниях недоставало красок. Он не умел смешить». Не умел Рудин и смеяться: «Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ежились, нос морщился». Лишенный юмора, он не чувствует комичности той роли, которую заставляет его играть Дарья Михайловна, ради барской прихоти «стравливающая» Рудина с Пигасовым. Человеческая глуховатость героя проявляется и в его нечуткости к простой русской речи: «Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротою речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо».
Постепенно из множества противоречивых штрихов и деталей возникает целостное представление о сложном характере героя, которого Тургенев подводит, наконец, к главному испытанию – любовью.
Полные энтузиазма речи Рудина юная и неопытная Наталья принимает за его дела: «Она всё думала – не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове, им сказанном…» В её глазах Рудин – человек подвига, герой дела, за которым она готова идти безоглядно на любые жертвы. Молодому, светлому чувству Натальи отвечает в романе природа: «По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня». Этот пейзаж – развернутая метафора известных пушкинских стихов из «Евгения Онегина», поэтизирующих молодую, жизнерадостную любовь:
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям…
Но жизнь избранника Натальи достигла зенита и клонится к закату. Годы отвлеченной философской работы иссушили в Рудине живые источники сердца и души. Перевес головы над сердцем особенно ощутим в сцене любовного признания. Еще не отзвучали удаляющиеся шаги Натальи, а Рудин предается размышлениям: «Я счастлив, – произнес он вполголоса. – Да, я счастлив, – повторил он, как бы желая убедить самого себя». В любви Рудину явно недостает «натуры».
Но вместе с тем роман Рудина и Натальи не ограничивается обличением социальной ущербности «лишнего человека»: есть глубокий художественный смысл в скрытой параллели, которая существует в романе между «утром» жизни Натальи и рудинским безотрадным утром у пересохшего Авдюхина пруда. «Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая». Вновь в романе реализуется «формула», данная Пушкиным поздней любви:
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
В литературе о романе встречается мнение, что в сцене у Авдюхина пруда проявилась трусость Рудина, что возникшее на его пути препятствие – нежелание Дарьи Михайловны выдать дочь за бедного человека – обусловило его отказ, его совет Наталье: «Надо покориться». Напротив, здесь скорее всего сказалось благородство героя, осознавшего, наконец, что Наталья приняла его не за того человека, каков он на самом деле. Рудин прекрасно чувствует свои собственные слабости, свою способность быстро увлекаться, вспыхивать и гаснуть, удовлетворяясь прекрасными мгновениями первой влюбленности – черта, характерная для всех идеалистов эпохи 30—40-х годов, и для Тургенева в том числе.
В последующих главах автор от суда над героем переходит к его оправданию. После любовной катастрофы Рудин пытается найти достойное применение для своих жизненных сил. Конечно, не довольствуясь малым, романтик-энтузиаст замахивается на заведомо неисполнимые дела: перестроить в одиночку всю систему гимназического преподавания, сделать судоходной реку, не считаясь с интересами владельцев маленьких мельниц на ней. Но трагедия Рудина-практика еще и в другом: он не способен быть Штольцем, он не умеет и не хочет приспосабливаться и изворачиваться.
У Рудина в романе есть антипод – Лежнев, пораженный той же болезнью времени, но только в ином варианте: если Рудин парит в облаках, то Лежнев стелется по земле. Тургенев сочувствует этому герою, признает законность его практических интересов, но не скрывает их ограниченности. Желаемой цельности Лежнев, как и Рудин, лишен. Кстати, и сам герой отдает в конце романа дань уважения и любви к Дмитрию Рудину. «В нем есть энтузиазм, а это… самое драгоценное качество в наше время». Так слабость оборачивается силой, а сила слабостью.
К концу романа социальная тема переводится в иной, национально-философский план. Сбываются пророческие слова Рудина, которые вначале могли показаться фразой: «Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции, в тряской телеге». Спустя несколько лет мы встречаем Рудина в тряской телеге, странствующим неизвестно откуда и неведомо куда. Тургенев умышленно не конкретизирует здесь место действия, придавая повествованию обобщенно-поэтический смысл: «…в одной из отдаленных губерний России» «тащилась, в самый зной, по большой дороге, плохонькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал… седой мужичок в дырявом армяке…» Вновь реализуется в романе пушкинская метафора, возникает перекличка с «Телегой жизни»:
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
А «высокий рост», «запыленный плащ» и «серебряные нити» в волосах Рудина заставляют вспомнить о вечном страннике-правдоискателе, бессмертном Дон Кихоте. Мотивы «дороги», «странствия», «скитальчества» приобретают в конце романа национальный колорит. Правдоискательство Рудина сродни той душевной неуспокоенности, которая заставляет русских касьянов бродить по Руси, забывая о доме, об уютном гнезде: «Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь и полегчит, право».
В эпилоге романа изменяется не только внешний вид, но и речь Рудина. В стиле рудинской фразы появляются народные интонации, утонченный диалектик говорит теперь языком Кольцова: «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что уж шагу ступить некуда». Несчастной судьбе героя вторит скорбный русский пейзаж: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок… И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!»
В Рудине отражается драматическая судьба тургеневского поколения русских скитальцев в поисках истины. Финал романа героичен и трагичен одновременно. Рудин гибнет на парижских баррикадах в революцию 1848 года. Верный себе, он появляется здесь тогда, когда восстание национальных мастерских уже подавлено. Русский Дон Кихот поднимается на баррикаду с красным знаменем в одной руке и с кривой и тупой саблей в другой. Сраженный пулей, он падает замертво, и отступающие инсургенты принимают его за поляка.
И все же жизнь Рудина не бесплодна. Восторженные речи его жадно ловит юноша-разночинец Басистов, в котором угадывается молодое поколение «новых людей», Чернышевских и Добролюбовых. Проповедь Рудина принесет свои плоды в новом поколении «сознательно-героических натур», знающих русскую жизнь, вышедших из её глубин. «Сеет он все-таки доброе семя!» Да и гибелью своей, несмотря на её трагическую бесплодность, Рудин отстаивает высокую ценность вечного поиска истины, неистребимость героических порывов. Рудин не может быть героем нового времени, но он сделал всё возможное в его положении, чтобы такие герои появились. Таков окончательный итог социально-исторической оценки сильных и слабых сторон «липшего человека».
Вместе с тем в «Рудине» отчетливо звучит мысль о трагичности человеческого существования, о мимолетности молодых лет, о роковой несовместимости людей разных поколений, разных психологических возрастов. Тургенев и в этом романе смотрит на человеческую жизнь не только с исторической, а и с философской точки зрения. Жизнь человека, считает он, определяется не только общественными отношениями данного исторического момента, не только всей совокупностью национального опыта. Она находится еще и во власти неумолимых законов природы, повинуясь которым дитя становится отроком, отрок – юношей, юноша – зрелым мужем и, наконец, стариком. Слепые законы природы отпускают человеку время жить, и время это до боли мгновенно по сравнению даже с жизнью дерева, не говоря о вечности. Кратковременность человеческой жизни – источник не только личных, но и исторических драм. Поколения людей, вынашивающих малые или грандиозные исторические замыслы, равно сходят в могилу, не сделав и сотой доли задуманного ими. В процессе работы над «Рудиным» Тургенев особенно остро ощутил стремительность бега исторического времени, сделавшего крутой поворот. Столько было изжито и пройдено, что уже начинала одолевать душевная усталость, давил плечи груз прожитых лет, таяли надежды на семейное счастье, на обретение душевного пристанища, своего «гнезда».
«Рудин» при всей благосклонности критических оценок вызвал у современников упреки в неслаженности, «главной своей постройки». А. В. Дружинин считал, что истинное художественное произведение должно строиться на кульминационном событии, к которому стягиваются нити повествования. В романе Тургенева это кульминационное событие – любовный сюжет – не объясняет вполне загадку личности героя. «Сам автор видит это и, подобно мифологическому Сизифу, снова принимается за труд, только что конченный, стараясь с помощью заметок Лежнева и его последнего, превосходного разговора с Рудиным дополнить то, что необходимо». Критик предъявлял к роману требования классической эстетики, от которых Тургенев решительно уходил. На привычный сюжет с любовной историей в кульминации автор романа наслаивал несколько «внесюжетных» новелл – рассказ о кружке Покорского, вторая развязка романа – встреча Лежнева с Рудиным в провинциальной гостинице, второй эпилог – гибель Рудина на баррикадах. Связи между этими новеллами возникали не столько на событийной, сколько на ассоциативной основе. К цельному представлению о Рудине читатель приближался в процессе взаимоотражения противоречивых его характеристик, придающих изображению объемность и полноту, но все-таки не исчерпывающих до конца всей глубины рудинского типа. Эта стереоскопичность изображения усиливалась тем, что Тургенев окружил Рудина «двойниками» – Лежнев, Пандалевский, Муффель и другие, – в которых, как в системе зеркал, умножались сильные и слабые стороны героя. В построении романа действовал эстетический закон «Записок охотника», где целостный образ живой России формировался в художественных перекличках между эскизами разных народных характеров.
Маленький флигель на берегу Снежеди
31 мая 1856 года Толстой навестил Тургенева в Спасском и записал в памятной книжке: «Дом его показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним». А потом они часто встречались в Покровском, в семье Марии Николаевны. Столкновения прекратились: вместе охотились, развлекались, играли в шахматы…
Но холодок отчужденности все-таки сохранялся; между Толстым и Тургеневым возник тот «овраг», который позволял им любить друг друга только на расстоянии. Толстой в Покровском часто сдерживал свое раздражение, выплескивая его на страницы дневника: «Тургенев решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне его жалко. Я с ним никогда не сойдусь». «У него вся жизнь притворство простоты. И он решительно мне неприятен».
В тургеневском нежелании связывать себя с чем-то прочным и определенным в общественной жизни и в личном быту Толстой видел отсутствие страсти и живого порыва, последовательного увлечения, стремление превратить всю жизнь в скептическую игру. «Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить жизнь необыкновенно». «Тургенев ни во что не верит – вот его беда, не любит, а любит любить».
Он действительно «любил любить» вследствие особой организации своей утонченной, нервной натуры, останавливающей мгновения и перегоравшей в томлении первых проблесков любовного чувства – одухотворенного, бесплотного и чистого в своей основе, но не созданного для земной любви с её семейной укорененностью и прочным чувством пристанища, домашнего «гнезда». Это качество своей натуры Тургенев переживал как личную драму, мучился и терзался своей неприкаянностью. «Осужден я на цыганскую жизнь – и не свить мне, видно, гнезда нигде и никогда!» «Я уже слишком стар, чтобы не иметь гнезда, чтобы не сидеть дома. Весною я непременно вернусь в Россию, хотя вместе с отъездом отсюда – я должен буду проститься с последней мечтой о так называемом счастье». «Боже мой, как мне хочется поскорее в Россию! Довольно, довольно, полно!» И приезжал в Россию, и снова уезжал из нее, так и не примирив в своей душе рвущих её на части противоположностей…
Суров был суд Толстого над Тургеневым, хотя и несправедливым его назвать нельзя. Некрасов писал Толстому: «Фраза могла и, верно, присутствовала в нас безотчетно, а Вы поняли её как основание, как главное в нас… свобода исчезла, – безотчетная или сознательная оглядка сделалась неизбежна… Отношения не могли стать на ту степень простоты, с какой начались, а следовательно, не могли двигаться вперед по пути сближения». Некрасов тонко чувствует, что тургеневское начало в той или иной степени жило в каждом человеке сороковых годов, но в Тургеневе оно выразилось именно в полную меру: «Эта душа, вся раскрывающаяся, – продолжает Некрасов, – при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается. Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?»
В мае 1856 года, перед отъездом в Спасское, Тургенев познакомился с Елизаветой Егоровной Ламберт, натурой глубоко верующей и аскетичной. Знакомство это было связано с хлопотами по поводу заграничного паспорта: кончилась Крымская война, и у Тургенева появилась возможность съездить за границу на свидание с дочерью и семейством Виардо. В лице этой женщины, принадлежавшей к высшему светскому кругу, Тургенев неожиданно для себя нашел доброго и умного друга, способного сочувственно откликаться на трудности и беды ближнего. «Мне кажется, – писала Ламберт Тургеневу, – что нам не очень нужно видеться, – писать лучше; по-моему, при свидании много бывает лишнего и пустого – с иными людьми хотелось бы иметь душевную связь».
В Спасском Тургенева томили тревожные чувства, которыми он изредка делился с Елизаветой Егоровной: «Ах, графиня, какая глупая вещь – потребность счастья – когда уже веры в счастье нет! Однако я надеюсь, все это угомонится – и я снова, хотя и не вполне, приобрету то особенного рода спокойствие, исполненное внутреннего внимания и тихого движения, которое необходимо писателю – вообще художнику».
И погода в этом году в деревне как-то не заладилась: ветер выл, как осенью, мокрые серые тучи носились по небу и лил тонкий, неприятный дождь. Охоту пришлось отложить до времени. Тургенев много читал. В Москве он встретился с С. Т. Аксаковым и получил в подарок «Семейную хронику», которую признал «вещью совершенно эпической», и с наслаждением, неторопливо прочитывал страницу за страницей. А потом, по обыкновению, он долго «лечил себя» Пушкиным.
К июлю погода, наконец, установилась, и снова поманило к себе Покровское. Мария Николаевна Толстая вспоминала, что Тургенев часто приезжал с томиком Пушкина в руках. Тут был и свой расчет. Мария Николаевна не любила и не понимала стихов, что приводило Тургенева в полное замешательство: он волновался и спорил с нею, «иногда даже до сердцов».
«Из-за прекрасного его чтения, под его влиянием развившись вкусом и умом, я во многом изменила свои взгляды, многое перечитала, даже пристрастилась» к поэзии. Только Фета «продолжала не ценить и не понимала его прелести, – вспоминала М. Н. Толстая. – Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел даже как-то в упреки, в личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторяя отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона не в дом, а в сад. Я очень испугалась, потому что к балкону не была приделана лестница, ступенек 6—8. Но огромный рост помог ему соскочить благополучно.
Приказав запрягать коляску и догонять себя, он сердитой походкой зашагал по полю.
Мы с недоумением прождали его несколько дней. Тургенев не приезжал.
Как часто бывает при размолвках, люди понемногу свыкаются с неожиданной обидой, подыскивают ей основание, и случайное недружелюбие переходит во взаимность, закрепляется. Так и мы через две-три недели перестали его ждать и уже избегали даже разговаривать о ссоре: она стала неприятностью, сердившей нас.
Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства.
– Да почему вы так долго не показывались?
– А видите ли, – это была хитрость. Никогда так не пишется, как «в сердцах», никогда так прилежно не работаешь, как озлобившись. Я почувствовал тогда это настроение и поскорее ушел, чтобы не сгладить его, не упустить. Мне давно надо было написать одну вещицу. Вот я и написал. Если хотите, я вам вечерком прочитаю.
В тот же вечер он прочел нам эту повесть. Она называлась «Фауст».
– «Фауст», – говорил Тургенев, – был написан на переломе, на повороте жизни – вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости».
Именно летом 1856 года Тургенев впервые почувствовал в себе признаки рано надвигающейся старости. «А знаешь ли, почему я стал замечать, что стареюсь? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва», – говорит герой повести «Фауст», автобиографической от первого до последнего слова.
«Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю… Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости… разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены – все это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле… Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он…
Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей… Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки… Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гётевского «Фауста»… Было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им… Но другие дни – другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег в постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова: «На жизненных волнах, в вихре творения» возбудили во мне давно неизведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих, и Зейдельманна в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла и все и вся… Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания…»
В этот переходный момент жизни и встала на пути героя повести «Фауст» Вера Николаевна Ельцова, как на пути И. С. Тургенева – Мария Николаевна Толстая.
«О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! Как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого… Я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, – я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче…»
И в кульминации любовного романа: «Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал её первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут – я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось – мы внезапно очутились в объятиях друг друга, Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, её – ко мне. При потухающем свете дня её лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй…
Этот поцелуй был первым и последним».
А как было в жизни? Мария Николаевна однажды рассказала Е. И. Сытиной:
– Знаешь, Катя, я сегодня бросила мой платок вот так, а сама, облокотясь, сидела и видела, как он мой платок взял и поднес к губам».
И всё…
10 июня Тургенев получил известие о разрешении заграничной поездки. «Позволение ехать за границу меня радует, – писал он, – и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу – значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе „судьбу“; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю – и от ответственности перед самими собою <…>
Я не рассчитываю более на счастье для себя, то есть на счастье, в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами; нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла <…> Должно учиться у природы её правильному и спокойному ходу, её смирению… Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежит мимо – так и бросишься за нею в погоню <…>
У нас нет идеала – вот отчего всё это происходит: а идеал даётся только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий родится афинянином или англичанином, художником или ученым – и религия не всякому дается – тотчас. Будем ждать и верить – и знать, что – пока – мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным…»
В первых числах августа 1856 года Тургенев был уже в Париже, а 11 сентября он писал М. Н. Толстой: «По временам, среди французской природы и французского общества, которое меня окружает, приходит мне на память Ваш маленький флигель на берегу Снежеди»…
…Прошли годы. И монахиня Мария Николаевна Толстая, указав однажды на фотографию Тургенева, которого уже не было на свете, сказала: «Если бы он не был в жизни однолюбом и так горячо не любил Полину Виардо, мы могли бы быть счастливы с ним, и я не была бы монахиней, но мы расстались с ним по воле Бога: он был чудесный человек, и я постоянно о нем вспоминаю».
Уже в 1856 году Мария Николаевна оставила нелюбимого и неверного мужа. Тургенев знал об этом, несколько раз еще встречался с ней… но ничего между ними больше не происходило, да и произойти не могло…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































