Текст книги "Тургенев"
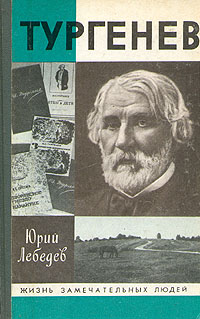
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
Возвращение
Уже в самом начале 70-х годов Тургенев стал ощущать первые признаки обнадеживающих перемен в отношении к нему со стороны русской молодежи, долгое время таившей обиду за Базарова. В феврале 1871 года «масса публики, кипящей молодостью», оказала ему в Петербурге такой восторженный прием, что он растерялся от неожиданности: «Что касается меня, – писал Тургенев Полине Виардо, – то должен сознаться, что никогда еще я не был предметом таких – простите мне это слово! – оваций … У меня было такое ощущение, словно крупный грозовой дождь, быстрый и сильный, льется мне на голые плечи. Я читал отрывок из «Записок охотника» под названием «Бурмистр»; мне кажется, я прочел довольно хорошо, напряжение моих нерв ослабло за время всего этого шума, и я был спокоен, притом публика была так благожелательна».
В обществе русских людей в Париже в 1874 году Тургенев с радостной улыбкой рассказывал об одном случившемся с ним «приключении»:
– По дороге из деревни в Москву, на одной маленькой станции, вышел я на платформу. Вдруг подходят ко мне двое молодых людей: по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли, «Позвольте узнать, – спрашивает один из них, – вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» – «Я». – «Тот самый, что написал „Записки охотника“?» – «Тот самый…» Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс. «Кланяемся вам, – сказал все тот же, – в знак уважения и благодарности от лица русского народа». Другой только молча еще поклонился. Тут позвонили. Мне бы догадаться сесть с ними в третий класс, а я до того растерялся, что не нашелся даже, что им ответить. На следующих станциях я их искал, но они пропали. Так я и не знаю, кто они такие были…
Что-то изменялось в русской жизни, чем-то новым повеяло на Тургенева из её таинственных глубин. И было досадно на самого себя, обреченного на прозябание во Франции: «Я готов допустить, что талант, отпущенный мне природой, не умалился; но мне нечего с ним делать… Голос остался – да петь нечего… А петь нечего – потому что я живу вне России; а не жить вне России я по обстоятельствам – всесильным – не могу. Следовательно: заключение выводите сами», – пишет Тургенев М. А. Милютиной. «Что же касается до литературы, тут я, голубчик мой, совсем швах; нельзя, решительно нельзя писать русские вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за границей», – жалуется он А. Ф. Писемскому.
И в то же время у Тургенева появляется потребность как-то переменить привычный образ жизни. «И у нас весна, – пишет он П. В. Анненкову в 1873 году, – но и весна мне нипочем. Право, нужно бы, чтобы кто-нибудь меня встряхнул хорошенько – хоть Вы, например, – а то периной я стал, да еще не немецкой, а вот какие бывают у нас в купеческих домах, что от одного вида зевается. <…> Из Карлсбада на короткий срок сунусь в нашу великую Расею – быть может, прямо в Орловскую губернию. Хорошо бы вместе прокатиться».
И вот жизнь, как бы в ответ на желания Тургенева, основательно встряхнула его. 23 июня 1876 года он писал из Спасского Г. Флоберу: «Я вообще сейчас не могу ничего читать, кроме газеты, которую здесь получаю и которая сообщает о событиях на Востоке и заставляет меня размышлять. Думаю, что это начало конца! Но до тех пор сколько это сулит отрубленных голов, изнасилованных и истерзанных женщин, девушек, детей! Полагаю также, что мы (я имею в виду русских) не сможем избежать войны».
Это было действительно «начало конца» того славянского освобождения, о котором мечтал в 1848 году друг Тургенева М. А. Бакунин. Когда в 1875 году в Боснии я Герцеговине вспыхнуло восстание против турецкого порабощения, русское общество охватил патриотический подъём. По всей стране возникали славянские благотворительные комитеты. Петербургское общество организовало сбор приношений в пользу жертв восстания и обратилось к русскому народу с воззванием, разослав подписные листы по всей России. Для сборов средств в провинции были посланы особые уполномоченные, предпринято несколько изданий: сборник «Братская помощь», перевод брошюры английского публициста Гладстона «Болгарские ужасы и восточный вопрос», организована бесплатная раздача рисунков («Балканская мученица») и портретов героев восстания.
Деятельность Московского славянского комитета возглавил Иван Сергеевич Аксаков. В кружок патриотов-славянофилов, группировавшихся около Аксакова, входил генерал Михаил Григорьевич Черняев. Весною 1875 года, когда вспыхнуло восстание в Герцеговине, Черняев первый почувствовал в нем начало крупного международного кризиса, связанного с судьбами восточного славянства. Он вступил в личные сношения с сербским правительством и был приглашен в Белград для руководства военными действиями.
Русское дипломатическое ведомство, узнав об этих секретных переговорах, приняло меры к тому, чтобы не дозволить выезд. Но Черняев, используя все свои связи с русскими патриотами в высокопоставленных кругах, приобрел заграничный паспорт и тайно отправился за границу. Переданный по телеграфу приказ задержать его на границе опоздал. В июне 1876 года Черняев был уже в Белграде. Известие о его назначении главнокомандующим сербской армией явилось сигналом к наплыву добровольцев в Сербию. Туда был отправлен санитарный отряд, 360 офицеров, 289 нижних чинов, 176 разночинцев и 120 донских казаков в полном вооружении с лошадьми. В числе добровольцев оказались известные врачи Склифософский и Боткин, писатели и художники – Глеб Успенский, Гаршин, Поленов, Константин Маковский и Верещагин.
В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии. В ответ последовали со стороны Турции жесточайшие репрессии, массовое истребление болгарского населения. Около 60 местечек в южной Болгарии было разорено и свыше 12 тысяч болгар обоего иола и различного возраста зверски замучено, зарезано или повешено. Особенно беспощадную резню и расправу устроили турки в местечке Батак в Родопских горах. Русская печать сообщала ужасающие подробности этих зверств. В России поднялась волна гнева и возмущения. Однако правительство цивилизованной Англии, союзницы Турции, не только не принимало мер к прекращению этого кровопролития, но молчаливо содействовало ему.
21 июня 1876 года в Орле учреждается Комитет для вспомоществования славянским семействам Болгарии, пострадавшим от зверств турецких войск после апрельского восстания. За один месяц орловцы собрали около 4 тысяч рублей и отослали их в Московский славянский комитет. Вероятно, в числе этих средств была лепта и от Ивана Сергеевича Тургенева. Но главную лепту в общеславянское дело он внес писательским словом.
Глубоко потрясенный сообщениями русских газет о событиях на Балканах, возмущенный позицией «цивилизованной» Англии, летом 1876 года, на пути из Москвы в Петербург Тургенев написал стихотворение «Крóкет в Виндзоре». В Виндзорском бору английская королева Виктория играет в крокет, и вот ей чудится, что крокетные шары превращаются в «целые сотни голов, обрызганных кровию черной»:
То головы женщин, девиц и детей…
На лицах – следы истязаний,
И зверских обид, и звериных когтей —
Весь ужас предсмертных страданий.
И вот королевина младшая дочь —
Прелестная дева – катает
Одну из голов – и все далее, прочь —
И к царским ногам подгоняет.
Головка ребенка в пушистых кудрях,
И ротик лепечет укоры…
И вскрикнула тут королева – и страх
Безумный застлал ее взоры.
Вернулась домой и в раздумье стоит…
Склонились тяжелые вежды…
О ужас! кровавой струею залит
Весь край королевской одежды!
«Велю это смыть! Я хочу позабыть!
На помощь, британские реки!»
«Нет, ваше величество! Вам уж не смыть
Той крови невинной вовеки!»
Петербургская газета «Новое время», в редакции которой Тургенев оставил эти стихи, не решилась их напечатать. Но, как писал Тургенев, стихи «облетели всю Россию», «читались на вечерах у наследника», были сразу же переведены на немецкий, французский, английский языки. Молодежь России заучивала их наизусть. В ноябре 1876 года «Крокет в Виндзоре» появился в болгарской газете «Стара Планина», издававшейся в Бухаресте участником апрельского восстания С. С. Бобчевым.
Даже равнодушный к литературным делам брата Николай Сергеевич послал «запрос» из Москвы, точно ли автор прославленных стихов – И. С. Тургенев, и получил ответ:
«Милый брат,
Я понимаю твои сомнения насчет моего авторства в деле «Крокета»; это совсем не по моей части и не в моем духе. И, однако, представь! Эту штуку я точно написал или, вернее, придумал ночью, во время бессонницы, сидя в вагоне Николаевской дороги – и под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов».
Осенью в Париже Тургеневу жилось неспокойно: «От времени до времени меня ужасно подмывает к вам отправиться – в Россию… Там совершается нечто удивительное, вроде „крестовых походов“. Война мне кажется совершенно неизбежной – и какие она размеры примет – ты един, господи, веси!» – писал он Полонскому.
Когда сербские войска под командованием генерала Черняева и при широком участии русских добровольцев терпят поражение, Тургенев сообщает: «Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда».
Жизнь во Франции становится невыносимой. Катастрофа в Сербии не только не вызывает сострадания во французском обществе, но выводит наружу «странный факт»: «Нас, русских (и славян) везде ненавидят и никакого другого чувства не питают». Премьер-министр Англии Дизраэли тщательно готовит с помощью своих эмиссаров в Европе невиданный по своему размаху русофобский шабаш в буржуазной прессе.
«Жить русскому за границей… невесело: невесело видеть, до какой степени все нас ненавидят, все, не исключая даже французов! Россия должна замкнуться в самое себя и не рассчитывать ни на какое внешнее сочувствие». «Европа нас ненавидит – вся Европа без исключения; мы одни – и должны остаться одни».
Переживая русские неудачи, Тургенев, с другой стороны, как либерал и западник, не может принять той религиозно-славянофильской окраски, которую неизбежно принимает в России общественный подъем. В ноябре 1876 года он пишет: «Я, Вы знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно исключительно религиозное; но силу и стихийную громадность его признаю – и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного мрака; да – видя на месте ненависть к нам всей Европы – нельзя наконец не углубиться в самого себя – и не признать за Россией права поступить как ей хочется. Преклоняюсь перед самоотвержением И. С. Аксакова – но не вижу причины самому воспламеняться. Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне – и коли этому нельзя помочь иначе как войною – ну, так война! Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не нашей крови – моё негодование против турок не было бы нисколько меньше. Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных людей было бы позорно – и, повторяю, едва ли возможно без войны».
12 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. В мае сестрой милосердия отправлялась в Болгарию Юлия Петровна Вревская, женщина, к которой Тургенев испытывал глубокую сердечную симпатию.
Баронесса Ю. П. Вревская (урожденная Варпаховская) была на 23 года моложе Тургенева. Семнадцатилетней девушкой она вышла замуж за генерала И. А. Вревского, вскоре убитого на Кавказе в 1858 году. Тургенев познакомился с нею в 1873 году. Ю. П. Вревская приезжала к нему в Спасское и гостила там пять дней: «Милая Юлия Петровна, – писал ей Тургенев. – Когда Вы сегодня утром прощались со мною, я – так, по крайней мере, мне кажется – не довольно поблагодарил Вас за Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей душе – и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться».
Тургенев встречался с Вревской в Карлсбаде и, очевидно, находился в душевном смятении: «Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь штуку… Не поможете ли?» – обращался он к ней. В письмах встречаются глухие упреки в нерешительности с её стороны: «Одна существует вещь, которая, по-видимому, представляет непреоборимые затруднения… но мне сдается, это происходит оттого, что Вы сами её не желаете».
Наконец, Тургенев признается, что любил Вревскую, «но не настолько необузданно», чтобы просить её руки, да и «другие причины препятствовали». «Вы хотите уверить меня, что Вы не питали „никаких задних мыслей“; увы! я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что Ваш женский век прошел; когда мой мужской пройдет – и ждать мне весьма недолго – тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья – потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски ».
И вот теперь она уезжала на фронт сестрой милосердия. Узнав в мае 1877 года о её решении, Тургенев писал: «Сейчас получил Ваше письмо, милая сестра Юлия – и спешу отвечать Вам в надежде, что моё письмо Вас застанет еще в Петербурге. Грустно очень думать, что мы не скоро увидимся; тем грустнее, что я, вероятно, двумя-тремя днями не захвачу Вас там!» Подагра держала его в; Париже, но, к счастью, приступ прошел, и 22 мая Тургенев приехал в Петербург. Трудно сказать, что он чувствовал, на что рассчитывал. Но, во всяком случае, обстановка в семье Виардо в последние годы вновь стала тяготить его, да так, что даже появилось желание выйти из ложного положения, в котором он там находился.
В марте 1877 года Тургенев писал Я. П. Полонскому:
«Сижу я опять за своим столом; внизу моя бедная приятельница что-то поет совершенно разбитым голосом; а у меня на душе темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь – опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать…
Ты забываешь, что мне 59-й, а ей 56-й год; не только она не может петь – но при открытии того театра, который ты так красиво описываешь, ей, той певице, которая некогда создала Фидес в «Пророке», даже места не прислали: к чему? Ведь от неё уже давно ждать нечего… А ты говоришь о «лучах славы», о «чарах пения»… Душа моя, мы оба – два черепка давно разбитого сосуда. Я, по крайней мере, чувствую себя урыльником в отставке».
К этому времени Тургенев уже выдал замуж всех дочерей Виардо, снабдив их приданым, во многом превышавшим выделенное своей собственной дочери…
…Тургенев встретился с Ю. П. Вревской перед ее отъездом в Яссы в Павловске, на даче у Я. П. Полонского, и был чрезвычайно рад этому свиданию. На сей раз проклятая «катковка» – так он в шутку называл свою болезнь – его не подвела. Потом он получал трогательные письма от Юлии Петровны из Болгарии.
Именно Ю. П. Вревская сообщила Тургеневу в Париж о тяжелой, неизлечимой болезни Н. А. Некрасова, о его желании примирения и советовала написать Некрасову письмо. «Я бы сам охотно написал Некрасову, – отвечал Тургенев, – перед смертью все сглаживается – да и кто из нас прав – кто виноват? „Нет виноватых“, – говорит Лир… да нет и правых. Но я боюсь произвести на негр тяжелое впечатление: не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником».
В Петербурге летом 1877 года Тургенев узнал, что Некрасову уже ничего «казаться» не может; он понимает: дни его сочтены. Так состоялось последнее свидание:
«Мы были когда-то короткими, близкими друзьями… Но настал недобрый миг – и мы расстались, как враги.
Прошло много лет… И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен – и желает видеться со мною.
Я отправился к нему, вошел в его комнату… Взоры наши встретились.
Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!
Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе… Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов – привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась – и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.
Сердце во мне упало… Я сел на стул возле него – и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку…
…Да… Смерть нас примирила».
«С немалым огорчением узнал я о смерти Некрасова, – писал Тургенев 1 января 1878 года А. В. Топорову из Парижа, – надо было её ожидать – и даже удивительно, как он мог так долго бороться. Никогда не выйдет у меня из памяти его лицо, каким я его видел нынешней весною».
Уходили, один за другим уходили люди, связанные с его прошедшей жизнью, и вместе с ними умирала большая часть его прошедшего, его молодости, его силы… «Вот и князь Черкасский отправился в ту сторону, иде же несть ни болезни, ни воздыхания, ни устраиваемой Болгарии! Предпоследний славянофил исчез (если только кн. Черкасский был славянофилом); последний, как известно, И. С. Аксаков».
В январе 1878 года прекратились письма от Ю. П. Вревской… А в феврале Тургенев сообщил П. В. Анненкову: «К несчастью, слух о милой Вревской справедлив. Она получила тот мученический венец, к которому стремилась её душа… Её смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неописанно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных ею из Болгарии. Я вам когда-нибудь их покажу. Её жизнь – одна из самых печальных, какие я знаю».
«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к её запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.
Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним…»
К освободительной войне Тургенев относился крайне противоречиво. В письме к Полонскому он заявляя: «Да и наконец – с чего мы все в такой раж пришли? То, что у нас теперь совершается, тот же крестовый поход; вещь огромная, историческая – но все-таки все мои симпатии, как сына XIX века, направлены не туда – а к гораздо позднейшим явлениям – хоть бы к революции 89-го года. Восторгаться и бить себя в грудь нечего; разумная, действительная свобода ничего у нас от этого не выиграет, каков бы ни был исход войны».
Либерал-западник, он был обеспокоен судьбою оппозиционного либерального движения, пытавшегося ограничить русское самодержавие конституционной формой правления. Подобно своим друзьям в России, он считал, что победоносная война может укрепить самодержавие и привести к полному краху всех либеральных надежд. Как писал Тургенев П. В. Анненкову: «Будет стоять крепенький морозец – и старая Россия будет по-прежнему кататься по установленному санному пути. А настанет оттепель – она поедет в телеге – и только толчков будет поболее. Другого зрелища наши глаза (Ваши и мои) не увидят – в этом мы можем быть уверены».
Неизменное раздражение вызывает у него фигура генерала Черняева, поскольку вполне бескорыстный и честный сам по себе, Черняев терпел около себя людей сомнительных и предоставлял действовать от своего имени мелочным честолюбцам и карьеристам типа П. А. Монтеверде. Но как объяснить недоброжелательную иронию Тургенева по отношению к приятелю его князю Черкасскому, а также к брату писательницы О. А. Новиковой И. А. Кирееву – герою сербского национально-освободительного движения?
Получив известие о первых неудачах русских войск в Болгарии, Тургенев пишет Я. П. Полонскому: «…Мне ужасно скверно на душе по милости наших неслыханных глупостей на Востоке – и мне хотелось бы забиться в какую-нибудь нору, чтобы не видеть никого и ничего не слышать! В таком случае лучше всего беречь всю свою дрянь у себя на сердце – и не разливать её ни перед кем». Но – увы – она разливается: «Новость о брате Новиковой превосходна – если только она справедлива. Славянофила на это хватит. Вот другой славянофил, кн. Черкасский, тоже превосходно отличается в Тырново. Как бы его турки не посадили на кол по взятии этого города, которое, кажется, висит уже на носу».
С чем связана тургеневская ирония по отношению к Николаю Алексеевичу Кирееву, который, будучи камер-пажом, отправился добровольцем на Балканы, где, командуя отрядом сербско-болгарской милиции, погиб 6 июля 1876 года в сражении при Вратарнице? Этот человек организовал в 1876 году отправку добровольцев в Сербию, затем сам вступил под именем Хаджи-Гирея в сербскую армию, одержав над турками ряд побед. Среди славянского населения о нем ходили легенды. Тело его было так обезображено турками, что его не могли узнать в груде других трупов, оставшихся после сражения.
Почему с досадой говорит Тургенев о деятельности В. А. Черкасского, возглавившего сразу же по вступлении русских войск на болгарскую землю гражданское управление? Главная квартира действующей армии находилась тогда в Тырново, где и развернулась с июля 1877 года широкая деятельность Черкасского по оказанию помощи разоряемому войной населению.
Ирония над Н. А. Киреевым и В. А. Черкасским, по-видимому, вытекала из противоречивой натуры Тургенева, откликавшейся неприятием на любое бурное общественное движение и всеобщий патриотический подъем. Сказывались и западнические убеждения.
В письме к американскому писателю и личному другу Г. Джеймсу Тургенев, опасаясь, что победа России над Турцией неизбежно приведет к войне с Англией, еще раз недвусмысленно высказался по поводу всех русских побед: «Эта война будет – она давно уже предрешена – восточный вопрос не может иначе разрешиться; и война эта будет долгой и тяжелой; я надеюсь, что она закончится изгнанием турок и освобождением славянских народностей, греков и других; но моя страна будет надолго разорена – и мои глаза не увидят даже тех внутренних реформ, которые нам обещаны. Вы легко поймете, что с подобными убеждениями я вижу будущее в черном цвете…»
Но, как заметил один из самых проницательных тургеневских биографов, русский писатель Б. К. Зайцев, «сквозь все тургеневское западничество» просвечивает «его любовь к родной земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может подняться черныш – чудесный, краснобровый!» «В спорах со славянофилами часто Россию ругает – умом, „либеральной“ своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, – весь в России…» Да и в западнических своих суждениях не выдает сказанного за «последние слова»: «Главное – не желайте никогда и ни в чем ни высказать, ни выслушать последнего слова, как бы справедливо и искренно ни было: эти последние слова большей частью бывают началом новых недоразумений».
И вот в письме к закоренелому западнику М. М. Стасюлевичу, рассказывая о страшных слухах в Париже о положении русских войск, Тургенев оговаривается: «Несомненно, что все это преувеличено; однако, если Вы знаете что-нибудь верное, напишите: мое патриотическое чувство очень беспокоится». Узнав о сдаче Карса, он пишет: «Я должен сказать, что давно не испытывал такой патриотической скорби; предчувствия самые мрачные меня терзают». Когда же русские войска одержали, наконец, победу в Малой Азии, Тургенев сообщает брату: «Как и все русские, я порадовался взятию Карса; это очень блестящее дело».
Победоносный штурм Плевны, шипко-шейновское окружение турецкой армии и стремительное движение русских войск к столице Турции Стамбулу вызывают у Тургенева чувство гордости: «А в Турции совершаются чудеса! Здесь все рты разинули от последних наших побед, занятия Адрианополя и т. д. Дай бог заключить скорее почетный и прочный мир».
Однако почетного мира России заключить не пришлось. Подписанный 19 февраля 1878 года Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией вызвал враждебную реакцию Англии, Германии и Австро-Венгрии, опасавшихся усиления влияния России на Ближнем Востоке и выхода её к Средиземному морю. Царское правительство приняло унизительные для победителей условия, продиктованные западными державами на Берлинском конгрессе. Блестящую речь против правительства, пошедшего на уступки, произнес в славянском комитете Иван Сергеевич Аксаков. Власти закрыли Московский славянский комитет, а И. С. Аксакова сослали на несколько месяцев в село Варнавино Юрьевецкого уезда Владимирской губернии. Однако вскоре ему разрешили въезд в столицы: авторитет этого человека был слишком велик. Годы освободительной борьбы балканских славян принесли Аксакову славу и всемирную известность. Не случайно же многие болгарские избирательные комитеты выдвинули его кандидатуру на болгарский престол!
Тургенев, подобно И. С. Аксакову, отнесся к Берлинскому мирному договору 13 июня 1878 года отрицательно. Вмешательство западных держав вызывало у него, в отличие от космополитически настроенной части либералов, резкое неприятие. «Вы знаете, какой я слабый „chauvin“ и славянофил, – писал он П. В. Анненкову, – но я сам начинаю желать, чтобы мы пошли к Константинополю – что ли!»
Во Франции жилось неуютно: «Не только англичане и немцы, французы начинают под собою землю грызть… Только и слышишь, что „Варвары! Нашествие варваров!“ «Самое курьезное (психологически курьезное) во всем этом деле – ненависть и зависть, которую ощущают теперь в отношении к нам все французы без исключения».
«А моя утлая ладья выброшена на чужой берег – и догнивает там в мире и тишине, – пишет Тургенев Фету. – Я сейчас упомянул о „мире и тишине“, и точно: если дела будут идти по-прежнему, Франция под эгидой тиерогамбеттовской республики превратится в самую идиллическую страну в целом свете. Посмотришь: везде волнения, бури, бедствия, убийства – а здесь, как говорится, и ветерок не шелохнет. Деньжищев пропасть, ни одного социалистического журнала, благодать и благостыня».
Тянуло домой… Но и Россия тоже повернулась к Тургеневу. На закате дней одна за другой стали возвращаться к нему прежние литературные привязанности. Подали руки старые друзья.
Первым оказался М. Е. Салтыков-Щедрин. Когда во втором номере «Отечественных записок» за 1870 год Тургенев прочел продолжение «Истории одного города», он «хохотал до чихоты» и сообщал Анненкову: «Он нет, нет, да и заденет меня; но это ничего не значит: он прелестен». А в ответ на присланную книгу с дарственной надписью Салтыкова-Щедрина Тургенев отвечал: «Любезнейший Михаил Евграфович… Душевно благодарю Вас за память обо мне и за великое удовольствие, которое доставила мне Ваша книга: прочел я ее немедленно. Не говоря уже о прочих ее достоинствах, эта книга в своем роде драгоценный исторический материал, который ни одним нашим будущим бытописателем обойденным быть не должен. Под своей резко сатирической, иногда фантастической формой, своим злобным юмором напоминающей лучшие страницы Свифта, „История одного города“ представляет самое правдивое воспроизведение одной из коренных сторон российской физиономии».
Между Тургеневым и Салтыковым возникла оживленная переписка; Тургенев с истинным наслаждением читает все, что выходит из-под пера Щедрина: «Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, – пишет он, – в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек».
В последние годы жизни Тургенев часто встречался с Салтыковым то в Петербурге, то в Париже. Однажды в Буживале Соллогуб решил прочесть Тургеневу и Салтыкову комедию, в которой он ругал молодое поколение на чем свет стоит. «Салтыков взбесился, обругал его, – сообщал Тургенев, – да чуть с ног не свалился от волнения. Я думал, что с ним удар сделается… Он напомнил мне Белинского».
Читая «Благонамеренные речи», Тургенев специально выделил главу «Семейный суд». «Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким наполнением?» – обращался Тургенев с вопросом к приятелю. И Салтыков-Щедрин воспользовался тургеневским советом: он написал роман «Господа Головлевы».
– Очень я люблю этого человека, – признавался Тургенев Анненкову, – как он ни вращает глазами и ни старается быть «букой». Он очень наивен и добр. И ругается от избытка этих двух качеств.
Герман Лопатин вспоминал об одном характерном диалоге между Тургеневым и Щедриным в Париже:
«Михаил Евграфович сердито кричал:
– Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?
– Они дали форму, – отвечал Тургенев.
– Форму… форму… а дальше что? – допытывался Щедрин. – Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет…
Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:
– Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?
– Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, – возразил Щедрин, – вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек – это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет.
Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь».
Через Салтыкова-Щедрина Тургенев познакомился с кругом молодых писателей народнической ориентации, высоко оценил талант Г. И. Успенского, посетил членов редакции народнического журнала «Русское богатство». Неизменно высоко оценивал Тургенев в беседах с молодежью талант и общественное значение Салтыкова-Щедрина:
– Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.
Вот на ком непростительный грех, что не пишет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен – Лев Толстой; но что же вы с ним поделаете: молчит и молчит, да мало еще этого – в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































