Текст книги "Тургенев"
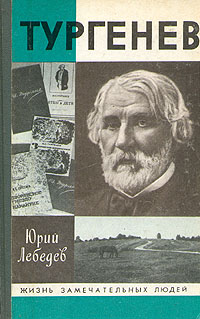
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
Идейное бездорожье
Так вдребезги разлетелась тургеневская мечта о едином и дружном всероссийском культурном слое. Глубокие сомнения возникали по поводу способности русского мужика уразуметь великий, как думалось Тургеневу, смысл происходящих в России реформ. Он вернулся в Париж осенью 1861 года еще отуманенный грандиозностью перемалывающихся в России исторических событий, еще с верой в благодетельность правительственных действий, еще с ощущением загадки и тайны в поведении русского мужика, которое казалось ему парадоксальным и объяснимым только вековым невежеством и отсталостью.
Очутившись в Париже, Тургенев почему-то медлил с традиционной поездкой в Лондон к А. И. Герцену, хотя, по обыкновению, имел к нему немало поручений от тайных русских друзей. Возможно, его задержала доработка романа «Отцы и дети», а затем обострившаяся болезнь. В январе 1862 года он писал Герцену, что именно вследствие болезни его поездка в Лондон «начинает принимать какой-то мифический оттенок». Однако есть основания предполагать, что к этому времени в отношениях Тургенева с Герценом возникла напряженность.
Еще в сентябре 1860 года, передавая через Н. П. Огарева проект «Общества для распространения грамотности и первоначального образования», Тургенев просил Герцена высказать свое отношение к задуманному делу со всей откровенностью. Мнением Герцена он дорожил «больше, чем сотнями других». Прямая оценка Герценом этого проекта неизвестна, но по косвенным замечаниям можно предположить, что он не придал идее Тургенева серьезного значения. Так возник повод для принципиальной идейной размолвки: ведь Тургенев считал, что успешное проведение реформы требует определенного уровня гражданского образования народных масс…
В январе 1862 года из сибирской ссылки бежал М. А. Бакунин и оказался в Лондоне у Герцена. Возникла настоятельная необходимость помощи ему и его семейству. Жена Бакунина осталась в Сибири: нужно было добиваться разрешения властей на ее возвращение сначала в Премухино, а потом за границу. Тургенев активно взялся за организацию помощи старому другу, а лично от себя обязался выплачивать Бакунину ежегодно 1500 франков. Была надежда на помощь со стороны В. П. Боткина, но она не оправдалась. Тургенев с раздражением писал: «Все обстоит довольно благополучно у Василия Петровича: кушает он до онемения, посещает театры – и даже завел у себя по вторникам отличнейшие квартеты, на которые приглашаются только избранные любители. – Но увы! Эти эпикурейские наслаждения прекращаются, потому что сам Эпикур… едет через несколько дней с Милютиным в Италию, в Рим, где будет сидеть в тени лимонов и венчаться гроздьями». «Старый эпикуреец» после настоятельных просьб Тургенева пообещал-таки, наконец, от своих щедрот в помощь Бакунину 100 франков. Выступая в роли «мальчика, шлем носящего и просящего», Тургенев добился еще 100 франков помощи от Николая Ивановича Тургенева. Дело продвигалось туго и отнимало много времени и сил.
Да и российские новости приносили мало радости. В литературе «совершился какой-то наплыв бездарных и рьяных семинаров – и появилась новая, лающая и рыкающая литература. Что из этого выйдет – неизвестно, – но вот» и Тургенев попал «в старое поколение, не понимающее новых дел и новых слов». «Гаерство, глумление, свистание с завыванием… зловонная руготня. Это все надо переждать. Надоест это публике – и настанет лучшее время; не надоест, надо, как мишка, в шубу нос уткнуть».
В начале января Тургенев узнал об аресте М. Л. Михайлова, поэта, революционера-демократа, сотрудника «Современника». Пусть он был идейным противником – сердце дрогнуло. Тургенев написал П. В. Анненкову в Петербург: «Если у Вас остались какие-нибудь деньги из моих, то Вы могли бы их употребить на вспомоществование несчастному человеку, который недавно был отправлен из Петербурга в дальний путь и об имени которого Вы, вероятно, догадаетесь сами».
Верный себе, Тургенев по-прежнему стремится сбалансировать противоречия, взвешивая плюсы и минусы противоборствующих в России общественных и литературных сил. Познакомившись с «Записками из Мертвого дома» Достоевского, он пишет бывшему приятелю доброе письмо: «Картина бани просто дантовская – и в Ваших характеристиках разных лиц (например, Петрова) много тонкой и верной психологии».
Тургенев предпринимает отчаянную попытку вновь примириться с Толстым и просит Фета «написать ему (Толстому. – Ю. Л. ) или сказать (если увидите) – что я (безо всяких фраз и каламбуров) издали его очень люблю, уважаю – и с участием слежу за его судьбою – но что вблизи все принимает другой оборот. Что делать! Нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях».
Фет пересылает Толстому это письмо и получает ответ, полный гнева и раздражения: «Тургенев – подлец, которого надобно бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения. несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить». Тургеневское «балансирование» раздражало «новых людей», оно никак уже не вписывалось в боевую атмосферу «нового времени».
Не ко двору теперь были тургеневские поучения, обращенные к Фету: «Вы поражаете ум остракизмом – и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего. Это воззрение я должен назвать славянофильским – ибо оно носит на себе характер этой школы: „здесь все черно – а там все бело“ – „правда вся сидит на одной стороне“. А мы, грешные люди, полагаем, что этаким маханием с плеча топором только себя тешишь… Впрочем, оно, конечно, легче; а то, признавши, что правда и там и здесь, что никаким резким определением ничего не определишь – приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и т. д. А это скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному: Смирно! Ум – пошел направо! марш! – стой, равняйсь! – Художество! налево – марш! стой – равняйсь! – И чудесно! Стоит только подписать рапорт – что все, мол, обстоит благополучно».
Я. П. Полонский присылает Тургеневу отрывок из статьи Д. И. Писарева «Писемский, Тургенев, Гончаров», опубликованной в ноябрьском номере «Русского слова» за 1861 год. Молодой критик причисляет названных писателей к деятелям прошедшего времени и настаивает на суде «ближайшего потомства». Тургенев пишет в ответ:
«Отрывок из статейки г-на Писарева, присланный тобою, показывает, что молодые люди плюются; погоди, еще не так плеваться будут! Это всё в порядке вещей – и особенно на Руси не диво, где все мы такие деспоты в душе, что нам кажется, что мы не живем, если не бьем кого-нибудь по морде. А мы скажем этим юным плевателям: „На здоровье!“ и только посоветуем им выставить из среды своей хотя бы таких плохих писателей, каковы были те, в кого они плюют. Тогда они будут правы, – а мы им пожелаем всякого благополучия».
От дяди-управляющего, Николая Николаевича сыплются одно за другим письма, исполненные какой-то «отчаянной иронии», хотя «спасские крестьяне удостоили, наконец, подписать уставную грамоту». «Будем надеяться, – отшучивается Тургенев, – что и остальные меня, как говорится в старинных челобитных, – „пожалуют, смилуются!“. Возникшее у писателя скептическое отношение к мужику все более и более укрепляется:
«Знаться с народом необходимо; но истерически льнуть к нему – бессмысленно», – пишет Тургенев Фету.
В мае 1862 года Тургенев побывал, наконец, в Лондоне и встретился с Михаилом Бакуниным, теперь уже легендарным человеком, вернувшимся, казалось, с того света. Четырнадцать лет казематов и ссылки наложили на старого друга суровую печать разрушения. «Ох, какая безжалостная мельница – жизнь! Так и превращает людей в муку… нет, просто в сор!» Но удивительно! Духовно Мишель не изменился, остался не сломленным.
– Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе всякую минуту дня и ночи: я – раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решаются самые важные мировые вопросы, – и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым… Наконец, чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу – и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных!
Но тюрьма по крайней мере была тем хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений. Напротив, она сделала их более пламенными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: «свобода». Свободная федеративная организация славянского мира… С кем, куда и за кем я пойду во имя этой свободы? За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним? Скажу правду: я охотнее всего пошел бы за Романовым, если б Романов мог превратиться из петербургского императора в царя земского.
Однако, по мысли Бакунина, надежды на царя были весьма сомнительными, новый Пестель в среде русского дворянства был столь же проблематической фигурой, зато с ощутимой реальностью представала перед ним выросшая из почвы народной жизни грозная фигура Пугачева:
– Николаевский период, – говорил Бакунин, – развил в России очень много дряблых душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с великолепными фразами на языке. Этим людям в последнее время становилось между нами неловко. Они чувствовали, что дело доходит до дел, до жертвы… Их много, и они все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушного правительства. Благо, отступление открыто и для измены есть благовидный предлог, а для ее прикрытия великодушная фраза: «Мы стоим за цивилизацию против варварства», то есть за немцев против русского народа.
Тургенев не мог не почувствовать в гневных тирадах Бакунина прямого выпада на свой счет. Раздражала ожесточенность Мишеля против современного государственного режима: он был безудержен в критике дорогих Тургеневу либеральных принципов и пропагандировал какой-то социалистический мужицкий бунт:
– Я ничего не жду от известных в литературе имен, верю же в спящую силу народа, верю в среднее сословие, – не в купечество, оно гнилее даже дворянства, – но в фактическое, официально не признанное среднее сословие, образующееся постоянно из отпускных людей, приказчиков, мещан, поповских детей – в них сохранились еще и русский сметливый ум, и русская удалая предприимчивость… Страшна будет русская революция, а между тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным интересам. Она вызовет и создаст, может быть, живых людей, большая же часть нынешних известных людей годна только под топор!
Тургенев долго слушал гремящие монологи Мишеля, тщетные попытки Герцена отрезвить неумеренно пылкое воображение прирожденного агитатора. Слушал и грустно молчал. Когда же к нему обратились с вопросом, что он думает по поводу крестьянского возмущения, Тургенев встал и произнес внушительно и торжественно: «Сказано Пушкиным и остается верным: „Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!“
В Париж он вернулся в подавленном состоянии духа. Возникшая уже довольно давно и довольно заметная трещинка в его отношениях с Герценом теперь все более и более раздвигалась. «Щапова, читайте, Щапова!» – настоятельно советовали ему Герцен и Огарев на прощание. В Париже Тургенев основательно занялся изучением новоявленного кумира лондонских и петербургских радикалов. Он прочитал щаповские статьи «Земство и раскол», «Сельская община», «Земские соборы XVII столетия», опубликованные в «Отечественных записках» и журнале «Век». А читая, вспоминал слова Герцена, что «свежий, чистый и могучий голос Щапова, теперь почти единственный, отрадно раздается среди разбитых и хриплых голосов современных русских писателей и глубоко западает в душу». Умел Герцен сказать убедительно, красиво и эффектно! Но А. П. Щапов Тургенева все-таки не вдохновлял.
Этот новоявленный идеолог из поповичей был решительным противником всех проектов, предлагаемых русскими либералами, и призывал обратиться «к самой почве нашего саморазвития» – к народу. Из особенностей крестьянского общинного быта он вывел понятие «земства» как национального варианта демократического самоуправления.
В наиболее чистом виде это самоуправление сохранилось, по Щапову, в кругах раскольников. В расколе в эпоху XVIII—XIX веков проявилась своеобразная историческая жизнь русского народа, религиозная Я гражданская, умственная и нравственная. Выразилась в чистом, отрешенном от иноземных влияний виде.
Теория «земского» или «общинно-колонизационного» развития русской государственности очень напоминала славянофильскую мысль о Земском соборе. Земля, по Щапову, составляла основу всего русского самобытного народно-бытового общественного строя. Области на Руси назывались «землями», а населяющие их люди – «земскими». Земская организация общественной жизни осуществлялась вольным, естественным путем. «На одной земле и воде в колонизационно-географической и общинно-бытовой связи, сами собой, без всяких указов, возникали два привычных мира – городской и сельский». В лесу насаждался «починок» и разрастался в село. К нему присоединялись «деревни на поле», «приселья», которые вместе с «починком»-селом образовывали уезд или волость – «село с уездом». Из первичных сел или починков «на почве вольнонародного земского строения путем торга и промысла» вырастали посады и возникали посадские миры. Волостные и уездные миры естественноисторическим путем смыкались в областные общины. Сначала эти областные объединения были обособлены друг от друга: каждая представляла из себя вольное общество, местное «земско-советие», возникшее в процессе колонизации на особой речной системе или отдельном волоке. Между областными единицами существовало федеративное взаимодействие, а иногда возникала междоусобная борьба. В эпоху «смутного времени» борьба достигла вершины и разрешилась созданием особой соединенно-областной общественной формы, когда в процессе розни областных общин они решили на своих областных земских соборах жить в единении, любви и совете. Так появилась земско-областная федерация. Путем такого же соединения, идущего снизу вверх, появилось и управление: сельский мир управлялся сельским мирским сходом, волостной – волостным и т. д. Земский собор всех людей русской земли был выражением соединенно-областной организации государственной жизни России.
Получалось, что народ нисколько не нуждался в уроках образованных классов, в развитии просвещения и «цивилизации». Получалось, что реформа Петра нарушила естественный, органический рост русского государственного устроения. Тургенев же из опыта французской революции, из поздних статей В. Г. Белинского вынес убеждение, что «народ – сила охранительная, консервативная». Вслед за Белинским он не раз повторял, что «во всякой коренной реформе, касающейся всего государства, только то действительно, что проникает в народ. Своею инстинктивною преданностью преданию, обычаю, привычке он противится всякому движению вперед, всякому успеху и медленно, с упорством поддается натиску врывающихся к нему сверху нововведений». В спорах с радикалами Тургенев часто опирался на мысли, высказанные Белинским в 1848 году, в рецензии на четвертый выпуск «Сельского чтения».
«Начиная с греков, – утверждал Белинский, – родоначальников европейской цивилизации, у всех европейских народов высшие сословия были представителями образования и просвещения, по крайней мере везде то и другое начиналось с них и от них шло к народу». «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно уравновешивается другим. Народ – почва, хранящая жизненные соки всякого развития: личность – цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности, и потому-то история всякого народа так похожа на ряд биографий несколько лиц. История показывает, как часто случалось, что один человек видел дальше и понимал лучше всего народа то, что нужно было народу, один боролся с ним и побеждал его сопротивление, и самим народом причислялся потом за это к числу его героев».
Бакунин, Герцен и Огарев в Лондоне, Чернышевский, Добролюбов и Щапов в России радикально пересмотрели взгляды Белинского и, по мнению Тургенева, «поливали грязью» тот культурный слой общества, который и является двигателем общественного развития. Тургенев с горечью замечал, что его друг Александр Иванович Герцен все более решительно уходил от союза с либеральными силами русского общества, уступая революционному «нигилизму» Огарева и Бакунина.
Зиму 1862 года Тургенев провел в Париже. Здесь он встречался с К. Д. Кавелиным, только что приехавшим из Петербурга с самыми свежими новостями – одна тревожнее другой. В январе 1862 года, во время губернских выборов в Москве, реакционные дворяне-аристократы потребовали принятия «олигархической дворянской конституции» в качестве компенсации за утраченную над крестьянами власть:
– Не знаю, что вы скажете, а эта игра в конституцию меня пугает так, что я ни о чем другом думать не могу. Разбесят дворяне мужиков до последней крайности, уверят их своим псевдолиберальным балагурством, что они, дворяне, в самом деле затевают что-то против царя, и пойдет потеха! – говорил Кавелин.
После свидания с Кавелиным в письме к Боткину от 26 марта 1862 года Тургенев так сформулировал свои опасения: «Кавелин подтвердил мне факт о соединении крепостников с социалистами в оппозиции к правительству». Оставалось грустно пошутить, что «время приняло слабительное – и неудержимо стремится – не хочу сказать куда». Услужливые друзья сообщали из Петербурга, что «Современник» готовит против Тургенева истребительную статью под названием «Отходная большому таланту». «Спасибо еще, что при теперешнем тоне не напечатали „Похороны свиньи“. Приходится мысленно твердить сонет Пушкина: „Поэт, не дорожи“ и т. д. (Во 2-й книжке „Современника“ исправник рассказывает, как один помещик сперва оплевал его, потом обосцал. Textuel)».
Но и в Париже жилось неуютно и холодно. Мечты о свадьбе дочери оставались пока неосуществимыми, отношения с Полиной Виардо – дружески вежливыми. Дядя-управляющий Николай Николаевич по-прежнему писал из Спасского отчаянные письма, призывая на родину заплутавшего в Европе племянника.
25 мая 1862 года Тургенев приехал в Петербург накануне грозного пожара, истребившего Апраксин двор, Министерство внутренних дел… В светских кругах и в народе ходили слухи о поджогах, совершенных какой-то тайной революционной организацией. Радикалы, напротив, утверждали, что поджоги инспирированы правительством как повод для расправы с ними…
Тургенев стоял среди горящего Петербурга, видел народ вблизи, слушал толки, пересуды… «Эти безумия, эти злодеяния, весь этот хаос – не следствие ли нашей российской замашки рубить сплеча, не знать меры ни в чем, доходить в отрицании до разрушительного разгула?» Вспоминался Бакунин, словопрения по поводу народного бунта. «Нет, остается желать одного, чтобы царь – единственный наш оплот в эту минуту – остался тверд и спокоен среди ярых волн, бьющих справа и слева». Тургенев чувствовал, что итогом пожаров, в возникновении которых обвиняли «нигилистов», будет усиление правительственной реакции. «Страшно подумать, до чего она может дойти, и… нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана».
В Спасском он тоже не отдохнул душою. Крестьянские дела шли, «скрипя и треща, как немазаная телега», даже вникать в них было жутковато, и Тургенев, передоверив возню с мужиками дядюшке, убедив себя, что «мука» все-таки будет, в первой половине августа 1862 года уехал в Баден-Баден. Он так и не понял, что же происходило в народной жизни, чем объяснялась крестьянская нерешительность, нежелание мужиков подписывать уставные грамоты и вступать в «полюбовные» соглашения с помещиками.
А крестьяне как Спасского, так и всей России ожидали от царя не такой «воли», какую получили, а воли настоящей, полной. Они не могли ни понять, ни согласиться, почему земля признавалась «Положениями» собственностью помещика. По крестьянской вековой традиции в народе жило убеждение, что земля на Руси божья, то есть принадлежит всему миру, всей деревенской общине. С какой же стати их заставляют теперь выкупать эту землю у помещика, да еще по цене, почти в десять раз превышающей ее рыночную стоимость?
Незамедлительно в среде мужиков появились свои толкователи «Положений»: «Помещику земли – горы да долы, овраги да дороги, лесу ему ни прута. Переступит он шаг со своей земли – гони добрым словом, не послушался – секи ему голову, получишь от царя награду». Так ухитрялся читать «царску грамоту» объявившийся в селе Бездна Казанской губернии Антон Петров. Четыре тысячи крестьян собрались в село послушать мужицкого толкователя воли. 12 рот пехоты с тремя артиллерийскими орудиями бросило правительство против них.
Составление уставных грамот совершалось в ту пору, когда крестьяне надеялись на появление «новой царской грамоты». Поэтому они оказывали пассивное сопротивление помещикам: не подписывали уставные грамоты, не выходили на барщину. Такая ситуация оказалась на руку именно дворянам. Ведь согласно «Положениям» уставная грамота, в случае отказа крестьян, могла утверждаться волею помещика. Дворянство смекнуло свои выгоды и использовало процедуру введения уставных грамот для максимального закабаления бывших своих крестьян. В ходе размежевания господской и крестьянской земли осуществлялось переселение крестьянских усадеб. Помещики беспрепятственно прибирали к своим рукам наиболее плодородные земли из бывших крестьянских наделов, а мужиков переводили «на песочек».
Именно так и поступал Николай Николаевич Тургенев, пользуясь тем, что его литератор-племянник в хозяйственных делах смышлен не был, а в благодетельность общих принципов реформы верил свято. Прозванный среди спасских крестьян Лупоглазым, Николай Николаевич переселил ивановских и петровских крестьян в новые усадьбы, отобрав у них лучшие земли. Бывший крестьянин села Петровского Федор Бизюкин, вернувшийся по окончании земледельческой школы домой, родного села Петровского уже не обнаружил. Отца своего он нашел в слободке Никольское в довольно оригинальном жилище.
– Что же сени-то у тебя перегорожены пополам?
– Это так перегородил Лупоглазый из выгоды, чтоб одни сени были на две семьи.
Сени действительно делились одною общею капитальною стеной, за которою помещался уже другой домохозяин.
– Да ведь если сосед сгорит, сгоришь и ты…
– Вестимо сгоришь. Что же делать теперь?.. Барину стали не нужны, не жалки его крестьяне…
– Где же теперь твои надельные поля-то?
– Вон, под Бастыевым, на глине-то, по косогорам да оврагам.
– А поля петровских крестьян кому перешли?
– Вестимо кому, барину.
Не порадовал Федора Бизюкина и разговор с Порфирием Тимофеевичем Кудряшовым. На вопрос о том, чем же занят былой «заступник» спасских крестьян, Порфирий недовольно ответил:
– Чем занят? Что делает? Пишет о русских людях из «прекрасного далека»… Охоту с собаками оставил, продает понемногу имения, родовое Спасское пустеет, упадает, разрушается, как и он сам…
Шел Федор Бизюкин к распаханным родным местам и думал: «Как бесследно уничтожено мое ребяческое, незатейливое, но родное и сердцу милое „гнездо“, распахано плугом, раскорежено зубьями бороны и засеяно дятлиной, – так, пожалуй, по закону „силы и материи“, и Спасское-Лутовиново „общей не уйдет судьбы“.
Такова была крестьянская точка зрения, в которую Тургенев вникать не хотел и которой неосознанно, инстинктивно боялся. Когда в 1862 году разногласия с Герценом выплеснулись в прямую полемику, Тургенев настаивал, что в результате проведения «Положения» в жизнь «крестьянин разбогател и, как они выражаются, раздобрел от него – и знает, что он этим царю обязан».
Полемика началась в связи с проектом «Адреса-письма», обращенным к Александру II от лица русской интеллигенции и прогрессивных кругов дворянства. В основу адреса, составленного Огаревым и одобренного Герценом и Бакуниным, была положена мысль о созыве «общего Земского собора», так как царь и его правительство оказались «не в силах постановить ясные и определенные преобразования». Резкой критике подвергалось «Положение о крестьянах», которое, «не распустив окончательно старого узла, навязало к нему так много новых петлей, что, если теперь не поспешить распутать их общими народными силами, узел в скором времени затянется до того, что его разве мечом или топором перерубишь, а не развяжешь работою мирных рук».
Тургенев не принял такого проекта. «Это – род обвинительного акта против „Положения“ – а с „Положения“ начинается новая эра России». Критика «Положения» будет на руку крепостникам, «которые обрадуются случаю выказать свою вражду к эмансипации». С другой стороны, крестьяне «увидят в адресе новое нападение дворянства на освобождение». Но главное несогласие Тургенева с Огаревым, Герценом и Бакуниным состояло в том, что «они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в народе ; на деле же это – совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова – существует только в меньшинстве образованного класса – и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем». Тургенев все еще надеялся на единство честных, гуманных, просвещенных и деятельных людей культурного слоя и предлагал свой вариант адреса правительству, программа которого была такой:
«Признав великое благо, основанное „Положением“, указать на необходимость некоторых дополнений и улучшений – а главное, на настоятельную потребность привести весь остальной состав русского государства в гармонию с совершившимся переворотом – и для этого, раскрыв беспощадной рукой все безобразия нашей администрации, суда, финансов и т. д., требовать созвания Земского Собора, как единого спасения России – одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, им начатое ».
Тургенев и сам чувствовал политическую бескостность своей программы, но иной предложить не мог.
Отпугивала Тургенева и центральная идея народнического социализма Огарева и Герцена – вера в крестьянскую общину и социалистические инстинкты русского мужика.
– Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, – обращался к Тургеневу Герцен в связи с отказом подписать адрес. – Тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве, в тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого летнего зноя…
– Не из эпикуреизма, не от усталости и лени я удалился, как говорит Гоголь, под сень струй европейских принципов и учреждений, – оправдывался Тургенев. – Роль образованного класса в России – быть передавателем цивилизации народу, с тем чтобы он сам уже решал, что ему отвергать или принимать… Вы же, господа, напротив, немецким процессом мышления (как славянофилы), абстрагируя из едва понятой и понятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь – кружитесь в тумане – и, что всего важнее, в сущности отрекаетесь от революции – потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор par exellence[9]9
по преимуществу (лат.)
[Закрыть] – и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности – что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию… Земство, о котором вы мне в Лондоне протрубили уши… оказалось на деле такой же кабинетной, высиженной штучкой, как родовой быт Кавелина и т. д.
Здесь Тургенев отступал от прежних своих убеждений. Ведь в переписке и в разговорах с К. Аксаковым, отрицая кавелинскую идею родового быта, он признавал наличие в крестьянской общине здоровых мирских традиций, а выступал только против перенесения их в высшие структуры государственной организации. Когда в 1857 году Луи Виардо предложил Тургеневу сделать анонимное описание русского крестьянского быта для одной из французских газет, Тургенев согласился. Не стесненный цензурными ограничениями, он развернул перед французскими читателями всю неприглядную картину крепостнических порядков. Но, обличая крепостное право, писатель обратил внимание на одно учреждение в русском крестьянском быту, которое делает особым, существенно отличным от западноевропейского, весь строй русской деревенской жизни.
«Когда вы в первый раз видите русскую деревню, – писал Тургенев, – вы можете подумать, что попали к моравским братьям. Здесь нет, как у вас во Франции, больших отличных ферм, где живут сельские капиталисты, – этих своеобразных сельскохозяйственных мануфактур, окруженных бедными лачугами, в которых многочисленные поденщики, подлинные сельскохозяйственные рабочие, влачат жизнь не менее жалкую и не более обеспеченную, чем рабочие городских фабрик. Ввиду того что каждый русский крестьянин входит в состав общины и имеет право на земельный надел, в России нет пролетариата. В нашей деревне, по обеим сторонам проходящей через нее дороги, тянутся два ряда домов совершенно одинаковых, похожих один на другой».
Существование в русской деревне общинного владения с периодическими переделами земли по едокам и круговой порукой в оплате повинностей смягчало, по Тургеневу, бедствие всеобщего порабощения, помогало деревенскому миру отстоять свою относительную независимость от давления государства и от корыстных притязаний помещика. Общинный институт удерживал крестьянина от полного разорения, «выравнивал» всех жителей деревни в их отношениях к главному источнику крестьянского трудового существования – земле.
Земля в русских селах и деревнях, отведенная в пользование крестьянину, находилась и до и после реформы 1861 года в распоряжении мира, сельского схода, а не отдельного лица. На миру решались вопросы об уравнительном переделе земли, на миру происходило избрание сельских властей, деревенских старост, здесь совершался сбор средств на общие расходы, решались мелкие гражданские и уголовные дела, осуществлялась организация взаимопомощи. Естественно, что общинное владение землей накладывало особый отпечаток на психологию русского крестьянина, приглушая частнособственнические инстинкты. Земля в понимании русского мужика не являлась собственностью частных лиц. Она была «мирской», «божьей». Надел крестьянину давал мир, который и являлся подлинным собственником, крестьянин же в качестве временного единоличного владельца оказывался собственником условным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































