Текст книги "Я смотрю в прошлое"
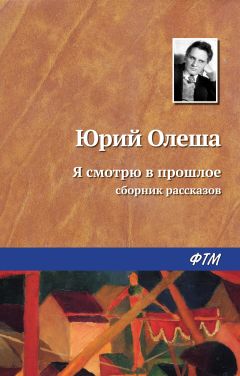
Автор книги: Юрий Олеша
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
1929
Мой знакомый
Многое зависит от квартирных условий. Скажем, если бы в квартире, где я живу, была ванна, душ, я принимал бы каждое утро душ. Душ можно было бы принимать и перед отходом ко сну.
У меня есть спокойный, жизнерадостный знакомый.
Он говорит замечательные вещи о проживании в квартире с ванной и душем. У него имеется специальный халат, бог весть откуда пришедший к нему, – заграничный купальный халат.
Приняв ванну, жизнерадостный знакомый надевает халат и направляется… куда он направляется, в точности не представляю. Возможно, просматривать иностранный журнал, возможно – любить молодую жену.
Я вижу его входящим в комнату, где от паркета исходит соломенное сияние; халат – длинен и художественно неуклюж, как риза; над полом раскачиваются кисти.
Что же, это правильно: надо жить так, вот именно так… Надо любить себя, воспитывать вкус к жизни, а главное, не торопиться, не суетиться.
Жизнерадостный знакомый говорит:
– Мы оторваны от Европы. В Европе установлен культ спорта, гигиены и комфорта. На этой триаде покоится здоровье, уравновешенное и победоносное сознание современного европейца.
Он молод, ему двадцать пять лет. Он служит, состоит в профсоюзе и числится на военном учете.
Размышляя о нем, я раздражаюсь. Размышляя о своем раздражении, я раздражаюсь еще более, потому что явственно обнаруживаю в природе этого раздражения зависть.
«Он прав, – думаю я. – И не прав я, восставая против комфорта, спорта и гигиены. И не прав я, думая, что он ничтожен и глуп, потому что моется, приобретает халат и играет в теннис».
Я никогда не умел наслаждаться жизнью.
Мне тридцать лет.
В литературе о тридцатилетнем герое говорится так: «Он был молод, ему едва исполнилось тридцать лет». Едва! Правда, в «Войне и мире» Андрей Болконский на тридцать первом году жизни вдруг почувствовал себя старым и решил, что жизнь прошла. Но он же через несколько страниц воскликнул – это в тридцать один год: еще не прошла жизнь!
Я чувствую себя старым. Не знаю, когда оно наступило, это постарение. И может быть, оно не наступило вовсе; быть может, сознание постарения ошибочно; быть может, виной всему квартирные условия, отсутствие ванны и душа и утр, сияющих соломенным блеском!
Я думаю так: мы, тридцатилетние – целое поколение тридцатилетних, так называемых интеллигентов, – мы слишком скоро постарели.
Почему?
Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости. Большинство из нас думало: вот мы кончаем гимназию, вот цветут акации в гимназическом саду, лепестки ложатся на подоконники, на страницы, в сгиб локтя, – вот весна нашей жизни! О, какими замечательными мы будем людьми!
Так думали мы.
У нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья.
Это была галерея примеров.
Нас с детской вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону. В этом коридоре слова произносились шепотом, шепотом назывались имена дядь и двоюродных братьев.
Это были инженеры и директоры банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Это были бороды, расчесанные надвое, – обязательно бороды: пенящиеся, а также длинные, как мечи, и короткие – котлетообразные.
И часто в тени бороды, как дриада в лесу, ютился орден. Руки были скрещены на груди, что говорило об исполненных задачах, и головы несколько откинуты, чтобы виден был блеск честных лбов.
Каждый из нас, семнадцатилетних, должен был стать инженером, адвокатом; у нас должны были вырасти бороды.
Все было известно: были известны магазины, где покупается сукно для студенческих мундиров, и рестораны, подходящие для выпускных пирушек.
Было известно, какой подарок получает сын после окончания гимназии, какое благословение присылает главный родственник, – и всегда находился сбившийся с пути талантливый дядя, который присоединялся к торжеству племянника, вел его в публичный дом, пировал, веселился и плакал, вспоминая на живом примере свою растраченную молодость.
У каждого из нас имелся такой дядя. Считалось, что у такого дяди – золотое сердце. Его погубила женщина… нет, не женщина! Игра в карты? Нет! Неизвестно, что погубило золотосердного дядю. Братья отвернулись от него. Он был предосудителен, но семья немножечко им кокетничала.
При воспоминании о нем говорилось: каждый кузнец своего счастья. Дядя не сковал своего счастья.
Все было известно.
В семнадцать лет оканчивали гимназию, пять лет полагалось на университет, к тридцати годам уже сказывались первые результаты ковки счастья. В тридцать лет начиналось положение в обществе.
Разве большинство из нас предполагало, что порядок изменится?
Он изменился.
Мы собрались ковать свое счастье, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился.
Главным в этом материале было стремление к независимости. Независимость достигалась обогащением.
Нас учили: учись, будешь богатым. Деньги дают свободу.
Мальчик, росший в нищей семье, талантливый сын бедных родителей, в лишениях находил даже радость.
Применялось так называемое стискивание зубов. Это было приятно и почетно – стискивать зубы. И это бывало началом многих великих биографий.
Юноша стискивал зубы. Это значило: ничего, ничего, подождем, я беден, но я добьюсь, но я заставлю, мы посчитаемся…
И он добивался. Он учился, опережал сверстников, вступал в общество победителем, был богат и славен.
С революцией стискивание зубов стало бесполезным. Одинокий путь нищего, обретающего богатство и признание, разом оборвался.
Буржуазия принимала в свой круг разбогатевших нищих и прощала им мстительную их заносчивость и кокетничала ими и даже кичилась.
После революции запальчивому нищему стало некуда идти. Гадкие утята перестали превращаться в лебедей.
Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот – и не по чему бить.
Так некоторые стали авантюристами и лжецами. Так большинство повисло в воздухе.
Мы знали, как начинается самостоятельная жизнь члена общества, как она развивается, как достигает расцвета и как переходит в галерею примеров.
Мы усвоили закономерность и чередование сроков.
Была логика брака, отцовства, семейственности, долга, совести; были твердо установленные нормы: боязнь крови, хвала великодушию, прощению, оправдание компромиссам, цена девственности.
Был образец человека. Это был отец кого-нибудь из нас, дядя, дедушка, знакомый директор гимназии.
Он произносил слова: невеста, жених, жизнь, душа, награда. Мы не только слышали их – мы их видели! Они распускали лучи, их можно было нести в руках, как хрустальные сахарницы. Они жили – эти слова, – как природа, как деревья, образовывали ландшафт, возвышенный и печальный, как встреча или расставание с родиной.
И все это оказалось ложью.
И все это исчезло, испарилось, развеялось по ветру. И не успели разлететься последние листья, как мы уже прошли по ним без всякого сожаления.
Нам много говорили о справедливости. Нам говорили о том, что бедность – добродетель, что заплатанное платье прекрасно. Эти слова волновали нас, и мы давали обещание быть добрыми.
В один год все полетело к черту. Не все заплатанные платья оказались прекрасными, и не всякая бедность – добродетелью. Справедливостью стало только то, что полезно угнетенному классу.
О, какими серьезными, умными, какими взрослыми должны были бы мы оказаться в тот год, мы, семнадцатилетние юнцы, уважавшие старость, авторитет и знатность.
И вот теперь нам тридцать лет.
Прошлого у нас нет.
Настоящее наше – мысль. Мы думаем, мы мучительно думаем, мы хотим быть мудрыми.
Мы хотим все наши понятия о добродетелях подвергнуть переработке ради того вывода о справедливости, который стал для нас единственно важным в тот год, когда произошла революция.
Мы гораздо умнее и лучше, чем наши отцы.
Не надо упрекать нас в том, что мы не умеем устроить нашу жизнь. Мы часто неряшливы, у нас нет душей, мы нервны через меру, крикливы, задумчивы, рассеянны, и щеки у нас не всегда выбриты.
Мы прекрасно понимаем, что неврастеничность наша противна революционной молодежи, над нами смеются. Это делает нас еще более старыми.
Жизнерадостный мой знакомый в хороших отношениях с портным. Они советуются о покрое, долго советуются, устраивают встречи, – покрой должен быть самым последним, модным, – крик. Как в Европе.
Он говорит:
– Сейчас это уже не носят.
Где не носят? В Европе.
Он не был в Европе, но ему известно все.
– Сейчас это уже не танцуют.
Он все знает. (О, я просто завидую ему!)
Он островитянин среди нас. Расстояние, отделяющее его от европейских границ, – только лишь география. Это расстояние можно проехать. Так просто.
Я ненавижу моего жизнерадостного знакомого. Он тень того меня, которого уже нет. Я шел, я дошел до года, ставшего рубежом, – дошел и исчез. И вот меня нет такого, каким я был, когда подходил к рубежу. Я стал другим.
И вдруг я вижу: появилась тень! Моя тень существует самостоятельно, а я стал тенью. Меня считают тенью, я невесом и воздушен, я – отвлеченное понятие, а тень моя стала румяной, жизнерадостной и с презрением поглядывает на меня.
Откуда он появился, этот лебедь, никогда не бывший гадким утенком? Кто его воспитал? На что он рассчитывает? Неужели он твердо убежден, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние?
Я хочу быть неряшливым и небритым. Я подожду. Мне ничего не жаль.
У меня нет прошлого. Вместо прошлого революция дала мне ум. От меня ушли мелкие чувства, я стал абсолютно самостоятельным. Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью.
Революция вернет мне молодость.
1929
Отряд Чидловского оперировал на Гродненской земле
Отряд Чидловского оперировал на Гродненской земле. Он налетал на имения, увозил оттуда добычу и помещичьих сыновей и дочек. За последних ему платили выкуп. Деньги и вещи он раздавал деревенской бедноте. На него молились, о нем рассказывали сказки. Имя Карла Чидловского сделалось святым и страшным.
Губернатор докладывал о нем правительству. Правительство распорядилось изловить его во что бы то ни стало. Паника росла. Каждую ночь горели усадьбы. Губернатор снарядил специальную часть для поимки Чидловского, который был назван разбойником, душегубом, врагом церкви и польского народа. Во главе карательной части поставили полковника Завистовича, кавалера немецких орденов, героя последней войны между Польшей и большевиками.
Квартирой своего отряда, состоявшего из кавалерии и пехоты с пулеметами, полковник Завистович избрал местечко Бжостовицу.
Чидловский был неуловим. Он перелетал с места на место с необъяснимой быстротой. Он появлялся со своими храбрецами на помещичьих свадьбах в тот час, когда зажигали фейерверки и пьяные гости не могли различить искусственного огня от пожара. Чидловский выхватывал невесту из-за пиршественного стола и увозил ее вместе с собою. Он сидел в седле, а панна лежала поперек его колен в белых одеждах, лентах и цветах, как кукла. Конечно, жених не жалел никаких денег для выкупа.
Полковник Завистович был возмущен, узнав подробности о деятельности Чидловского. Он выражал это возмущение офицерам своего штаба, говоря, что наше время – это не Средневековье, что позор для цивилизованного государства, для Польской республики – допускать насилия над лучшими своими сынами, над цветом нации со стороны какого-то бандита, рыцаря большой дороги. К полковнику приводили мужиков, получивших якобы драгоценности из рук Чидловского. Пленных подвергали допросу, секли шомполами, вешали. Мужики молчали. Полковник бил их кулаком сверху по русым густоволосым макушкам.
Он бил и отдергивал руку, как будто боялся, что его укусят. Он был бы доволен, если бы мужики назвали Чидловского колдуном, спасающим душу добрыми поступками. Полковник знал, что в этой местности у мужиков темное, забитое сознание, что оно окутано страхами, суевериями, тоской. Он знал, что до сих пор древние легенды, обычаи, языческие воспоминания тяготеют над их жизнью. Вера и суеверие рождают для них одни и те же образы страха, вечного ожидания, ответственности, какой-то кары в будущем. Страх господствует над их сознанием – все равно: ксендз ли поет над покойником, или огни горят на болоте. Так думал полковник. Он не допускал мысли, что мужики ощущают социальную природу деятельности Чидловского.
– Что же это, колдун? – спрашивал он пленных. – Или, может быть, это ангел?
Мужики молчали.
Между тем имелись точные данные о личности Чидловского. Это был солдат польской армии, бежавший в 1920 году из своей части на сторону советских войск. Потом он снова попал к полякам уже в качестве военнопленного. Его должны были расстрелять, он спасся. Затем через пять лет он появился на Гродненской земле.
Итак, полковник Завистович, облеченный широкими полномочиями, приступил к выполнению приказа о поимке Чидловского и его банды. Одному из офицеров Завистовича удалось напасть на следы поджигателя. Переодетый крестьянином, с двумя лошадьми и подводой, он рискнул присоединиться к отряду. Он побывал на хуторе, где Чидловский устроил временную стоянку. Вернувшись, офицер донес необыкновенные вещи. Он видел ксендза, повешенного на балке ворот. Труп висел в черной, аккуратно застегнутой сутане. Череп торчал из воротника, и на череп была надета черная шляпа. Офицер пробыл три дня на хуторе. Он видел самого Чидловского. Это человек среднего роста, бритый, обыкновенной наружности. Его банду составляют самые разнообразные люди. Тут и дезертиры, и мужики, два сельских учителя, ремесленники, интеллигенты неопределенной профессии, актриса и, между прочим, какой-то таинственный человек, плохо владеющий польским языком, должно быть чех, которого все называют «профессор».
– Это большевистская организация, – утверждал офицер, – они раскачивают крестьян.
Прошло две недели. Местность была объявлена на военном положении. Завистович смеялся, иронизировал, фыркал. Его покрывала боевая слава. Драться? С кем? С уголовным преступником? Он не представлял себе открытой схватки. Он полагал, что все закончится погоней, что Чидловский будет затравлен, как волк. Неужели полковник Завистович допустит, чтобы из-за бандита погиб хоть один его солдат, честный солдат польской армии? Пуля для бандита – слишком большая честь. Его нужно хватать арканом.
Но крестьяне волновались. В разных местах взрывались бунты. Завистович посылал конницу. И опять начинались допросы мужиков. Руки полковника пухли. Он писал домой, что звереет. Наконец было выпущено объявление за его подписью о том, что за голову Карла Чидловского объявляется награда в размере десяти тысяч злотых. Листок расклеили везде: в деревнях, на станциях, на телеграфных столбах, на деревьях в лесу, накололи на ветки кустарников.
Через два дня дозорные привели в Бжостовицу, в штаб Завистовича, некоего человека, трудно объяснявшегося по-польски, но сумевшего сообщить, что он перебежчик из лагеря Чидловского и хочет оказать службу господину полковнику. Это было ночью. Полковник созвал приближенных офицеров, в том числе и того, который в свое время побывал в лагере Чидловского. Этот офицер, по фамилии Скшиван, сразу же узнал перебежчика.
– Это тот, кого называли у них профессором, – шепнул он полковнику, – чех.
Перебежчик, оказалось, понимал по-немецки. Полковник допросил его. Этот человек не выглядел воином. Нельзя было сказать, что это член шайки, отчаянная голова. Во-первых, он был в очках, которые, разговаривая, поднимал вместе с морщинами. Во-вторых, на нем была штатская одежда и даже вязаный серо-зеленый жилет. Все удивились, увидев аккуратную прическу, светленькие волосы, впалость висков. Он говорил очень тихо. Причем глаза его прищуривались, и все лицо, морщась, сбегалось к носу, как если бы он ожидал, что сейчас неприятно-громко откупорится бутылка. Такое выражение лица бывает у умных людей, разговаривающих с профанами и ожидающих услышать явную глупость.
Он попросил полковника остаться с ним наедине. Его обыскали. Полковник удалил всех. Через полчаса чеха отпустили. Дозорные вывели его в поле.
Утром полковник рассказал офицерам следующее. Чеха фамилия Бузек. Он был студентом. Он интеллигент. Очень нервный, какое-то тяжелое поражение нервной системы. У него дергаются руки и рот. Даже неприятно с ним разговаривать. Несчастье сбило его с пути. У него была невеста в Бреславле. Он так рассказывал о ней, что даже полковник курил чаще, чем следует. Чех плакал, почти бредил, полковник думал, что с несчастным сделается припадок. Она уехала к родным в Краков и там была соблазнена! Кем? Чидловским. Он служил тогда в польской армии. Он заразил ее сифилисом. Она лишила себя жизни, послав жениху предсмертное письмо. И вот Бузек решил отомстить Чидловскому. Он нашел пути для сближения с ним, поступил в армию, воевал, навязал себе революционные убеждения и в конце концов соединился с Чидловским в банде. Он стал правой рукой его. Но у него не было воли, чтобы привести в исполнение задуманное. Он трус, он болен, он сумасшедший, гнилушка. Сколько раз он намечал день, сколько раз он клялся себе, что вот сегодня он пустит пулю соблазнителю в лоб. Ради этого он стал вне закона. Тяжелая драма. Он сделался преступником, ему грозит виселица – а совершить то, для чего так страшно он изменил свою жизнь, он не может. Он хочет заслужить прощение власти. Он просит гарантий неприкосновенности, и, с этим условием, он обещает принести голову Чидловского. Пусть так, но он отомстит. Он может заверить господина полковника, что объявление о десяти тысячах злотых взволновало многих соратников Чидловского. Многим мерещится этот куш. Он, Бузек, обещает организовать восстание, он обещает, что Чидловский будет убит. Ему лично не надо денег, он просит только пощады, ему довольно того, что подлец погибнет. Фактические убийцы потребуют денег и, вероятно, тех же гарантий…
Рассказ полковника вызвал у всех различное отношение.
– Плут! – сказал один.
Другой заметил, что вид у этого чеха действительно очень несчастный.
– Все может быть, – сказал третий.
– Он не врал, – заявил полковник. – Я не думаю, чтобы такие великолепные актеры были в шайке бандита. Во всяком случае, не все ли равно. Будем ждать. Все равно, не сегодня завтра мы повесим всех: и Чидловского, и этого неврастеника.
Полковник, чувствительный, как все пьяницы и жестокие люди, написал жене письмо о студенте, который сошел от любви с ума и сделался бандитом.
На другой день разнесся ужасный слух. Слух о том, что гродненский епископ подвергся неожиданному нападению. Его преосвященство совершал поездку. После поезда ему пришлось пересесть в поданную ему коляску и направиться за двадцать одну версту от станции в имение Яскулки. Его преосвященство намеревался провести некоторое время в знаменитой библиотеке. Разве можно было ожидать какого бы то ни было нападения в той местности? Кто мог допустить, что Чидловский появится там, где даже слухи о нем казались невероятными? А между тем нападение совершилось. Что случилось с епископом – было неизвестно. Он исчез. Лошади с коляской были схвачены на железнодорожном полотне. В каких-то кустах нашли тело священнослужителя, сопровождавшего епископа, застреленного и выброшенного из несшейся коляски. Кучер и берейтор, оставшиеся в живых, но сильно избитые, рассказали о том, что нападавших было шестеро. У них была бричка. Туда швырнули епископа. Он кричал и громко молился.
Это событие показалось грозным. Губернатор приказал полковнику Завистовичу ликвидировать Чидловского в двадцать четыре часа. Двадцать четыре часа прошли без всякого результата. В начале следующих суток разъезды полковника Завистовича узнали от крестьян долгожданную весть. Карл Чидловский убит собственными товарищами. Шайка распалась. Часть ушла к советской границе, часть разбежалась по лесам, а те, кому удалось прикончить Чидловского, несут его голову в штаб господина полковника. Была жаркая схватка. Каждому хотелось завладеть головой своего начальника. Десять тысяч злотых. Это хороший товар.
Вечером приехал в Бжостовицу на бричке перепуганный ксендз Маркевич. Он вывалился из брички почти без чувств. На сиденье стоял небольшой зеленый сундучок. Ксендз упал на грудь полковника и, задыхаясь, рассказал о том, что час тому назад к нему в дом пришел неизвестный человек в очках, блондин, с этим вот сундучком и сказал следующее:
– Я – чех Бузек. В этом сундуке голова Карла Чидловского. Поезжайте немедленно в Бжостовицу к полковнику Завистовичу, вручите ему сундук и скажите, что люди ждут обусловленной насады: десять тысяч злотых. Эти деньги я возьму у вас тогда, когда это потребуется. Если вы не выполните всего, что вам сказано, вас убьют.
Ксендзу дали водки. Он стучал зубами.
Почти весь отряд собрался к крыльцу. Сундучок поставили на лавку. На солнце ярко блестела железная обивка по его углам. Открыли крышку. Ксендз, зажимая со стоном ладонью глаза, успел увидеть страшную голову.
– Это он! – закричал офицер, видевший Чидловского живым. – Это его голова.
Голова Карла Чидловского была поднята за щеки, потому что он оказался плешивым. Она была отрезана чисто, по самые уши. Кровь запеклась и засохла.
Ксендз получил пачку денег. Он умолял не делать никаких засад в его доме. Всю жизнь ему жить здесь. Он сойдет с ума от постоянной тревоги. Едва он вернулся, как тот же неизвестный посетил его вновь, получил деньги, пересчитал, поднимая морщинами очки, и сел к столу писать расписку. Он улыбался, почесывая карандашом где-то на животе сквозь вязаный зелено-серый жакет.
В расписке значилось следующее: «Я, Казимир Бузек, выпустил книгу об искусстве гримирования. Держите голову в холодном. Карл Чидловский пришел в ужас, когда увидел эту мою последнюю работу».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































