Текст книги "Я смотрю в прошлое"
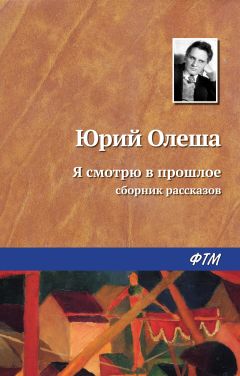
Автор книги: Юрий Олеша
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Альдебаран
На скамье сидела компания: девушка, молодой человек и некий ученый старик. Было летнее утро. Над ними стояло могучее дерево с дуплом. Из дупла легко веяло затхлостью. Старик вспомнил детские проникновения в погреб.
Молодой человек сказал:
– Я сегодня свободный весь день.
– Я тоже, – сказал ученый старик.
Молодой человек работал машинистом на трамбующей машине «буффало». Он укатывал асфальтовые мостовые. Он был латыш, по фамилии Цвибол. Саша Цвибол.
Подошла цыганская девочка величиной с веник.
Она предложила лилии.
– Пошла вон, – сказал ученый старик.
Саша Цвибол возмутился.
– Вот как, – удивился старик, – вас это умиляет. Странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжничества.
– Она – ребенок! – сказала девушка.
– Ребенок? Скажите, пожалуйста: социализм, следовательно, есть христианский рай детей и нищих?
Старик говорил звонко, тенором. Между прочим, это был красивый и вполне здоровый старик – один из тех стариков, которые курят, пьют, не соблюдают диеты, спят на левом боку и говорят о себе: «Ого!»
Звали его Богемский. Он сотрудничал по составлению Большой советской энциклопедии.
Он влюбился в девушку. Она сидела рядом. Она положила руку на колено молодого. Тогда старый спросил:
– Быть может, я лишний?
Молодой вздохнул, снял картуз. Круглая красноармейская голова его была низко острижена. Он был блондин. Голова его блестела, как бульон. Он почесал темя.
Старик встал и кинул окурок в дупло.
– Мы поедем с Сашей на реку, – сказала девушка.
Старика на реку молчаливо не пригласили.
– Проводите нас до автобуса, – сказала девушка.
Они пошли. Она шла на шаг впереди.
Богемский смотрел ей в спину и думал:
«Нет, это не любовь. Это похоть. Трусливая старческая похоть. Я хочу тебя съесть. Слышишь? Я бы тебя съел, начиная со спины, с подлопаточных мест».
– Какая красивая! – сказал Цвибол.
Эти восторженные слова он сказал с акцентом. И прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность. И старик позавидовал.
– Катя, ваш возлюбленный похож на римлянина! – крикнул он девушке.
– Я из Риги, – сказал Цвибол.
– Ну что же? Это тот же стиль. Воины. Орден храмовников.
– Теперь нет Хамовников, – через плечо сказала Катя, – теперь называется Фрунзенский район.
Они подошли к остановке.
– А вдруг пойдет дождь? – сказал Богемский.
– Не пойдет, – сказал Цвибол.
Они подняли головы. Небо было чистое. Синее небо.
– Дождь – враг влюбленных, – сказал старик, – он выгоняет их прочь из садов. Злой сторож морали.
Подошел автобус.
Они не успели сказать ученому старику «до свидания».
Он увидел Катю, уносимую на подножке. Она входила в дверцу. Поддуваемая ветром движения, она приобрела сходство с гиацинтом.
Богемский шел в неопределенном направлении.
Он был высок и строен. Он шагал, как юноша. На нем разлеталась черная пелерина. На седых кудрях стояла черная шляпа. Он был тем пешеходом, которого побаиваются псы. Он идет. Пес, бегущий навстречу, вдруг останавливается, смотрит секунду на идущего и перебегает на другую сторону. Там он бежит под стеной, останавливается, когда пешеход уже далеко впереди, и смотрит пешеходу вслед.
Богемский шел и размышлял о девушке. «Первоклассная девушка. Она – первоклассная девушка и не знает себе цены. При других объективных условиях она вертела бы историей». Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня дю Барри. Салоны. И многое другое. Директория. Баррас. Возвышение Бонапарта. Госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни. Игра ума. Нити политики в маленькой ручке. Жорж Занд. Шопен. Ида Рубинштейн.
Саша Цвибол.
«Солдат, – думал Богемский. – Дон Хозе. Печальная повесть. Молодой коммунист влюбился в Кармен. Саша Цвибол, простодушный пастух, попался на удочку. Интересно. Он потрясен ею. Еще бы! Он и сам не подозревает, в чем ее сила. Он – тот ротозей на ярмарочной площади, который хватается за электрические катушки и корчится и, корчась, не понимает, отчего корчится. Коммунист. Смешно. Комсомолка. Смешно. Я живу на свете очень много лет. Я помню, как танцевали в Париже канкан. Я все знаю, все видел, все обдумал. Я очень стар, Катенька. Я – дело Дрейфуса, я – королева Виктория, я – открытие Суэцкого канала. Цвибол, которого вы любите, говорит вам многие прекрасные вещи о строительстве, о социализме, о науке, о технике, которая переделает человека. Ах, Катюша, молодой возлюбленный ваш говорит вам о классовой борьбе… Смешно. Легко говорить ему о чем угодно, когда вы улыбаетесь ему. А я, который старше Художественного театра вдвое и которому вы не улыбаетесь, мудро говорю вам, перефразируя поэта: любви все классы покорны…
А в это время они раздеваются в какой-то грелке на сваях. Под сваями стоит неподвижная базальтовая вода. Они шумят. Там шум, возгласы, плеск голого тела в деревянной комнате, где раздевается молодежь. В окошках видны река, перила, флажки, лодки. На реке вспыхивают весла. Они выходят из деревянной комнаты и идут по горячим доскам. Где-то играет оркестр. Он колеблет воздух. От колебаний сотрясается деревянное сооружение. С досок летят опилки. Ах, не лучший ли вид человеческой жизни – флаг, бегущий в синеве летнего неба, когда вдали играет военный оркестр!»
Он пришел домой и лег.
Он предался игре воображения.
Таких женщин убивают.
Париж! Париж! Он воображал страшную сцену. То, чего не было. Драму. Конец драмы. Развязку событий – обязательный, на его взгляд, результат Катиной красоты.
Убийство.
Она мечется по комнате. Падают стулья. С диким сверканием распахивается зеркальный шкаф. А тот, кто преследует ее, – он сам, старик, чей рассудок мутится от страсти, – стреляет в зеркало навылет. Шесть выстрелов. Осколки. Тишина. Он стоит посредине комнаты с ладонью на лбу. Розовые обои. Верчение пыли в солнечном столбе. И входят соседи. Видят старика в сединах. Благороднолобый, лучащийся, похожий на Тургенева старик.
Какой век? Какие годы? Где это? Не все ли равно! Любовь и смерть. Вечные законы пола.
Открывается шкаф. Вываливается боком и потом стукается головой о паркет тело.
– Пустите меня! – кричит старик и бросается к телу. Он воет, испускает мычание, глубокое «до» неутоленной страсти. Он кладет голову между раскинувшихся грудей девушки. Он поднимает глаза на обступивших его и говорит:
– Как чисто у нее здесь и прохладно в этот жаркий день.
Он поздним вечером говорит с ней по телефону.
– Катя, – говорит он, – я люблю вас. Смешно? Вы слушаете меня? Я спрашиваю: любовь старика – это смешит вас? Я не прошу о многом. Если вы – буря, то я мечтаю лишь о капле… Очень трудно говорить образно по телефону. Вы слушаете? Каждый день вы проводите с Цвиболом. Вечером сверкают звезды. Вы сидите с Цвиболом под звездами. Да, да, я видел. Любовь, звезды… я понимаю. Знает ли Цвибол прекрасные имена звезд? Вега, Бетельгейзе, Арктур, Антарес, Альдебаран. Что вас смешит? Альдебаран, да? Я уже месяц целый мечтаю о том, чтобы пойти с вами в кинематограф. Но погода не благоприятствует мне. В летний вечер вы предпочитаете звезды. Что? Но ведь погода может испортиться. Техника еще не умеет управлять погодой. Отдайте Цвиболу синеву, реку, звезды, а мне оставьте дождь. Хорошо? Катя, я говорю по автомату. Меня торопят. Стучат в стекло, грязно кривляются. Итак, вот о чем прошу я вас… Вы слушаете? Если завтра погода испортится, пойдет дождь – согласны ли вы пойти со мной в кинематограф? Если звезд не будет?
– Хорошо. Если звезд не будет.
Утро было чистое, безоблачное.
Богемский стоял в проезде, где работали три машины «буффало». На одной ездил Цвибол в синей почерневшей майке.
– Жарко! – крикнул Богемский.
– Жарко! – ответил Цвибол.
Он, не выпуская руля, голым плечом стирал пот с виска. Было очень жарко. Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио.
На панели стояли зеваки.
– Жарко! – еще раз крикнул Богемский.
– Жарко, – еще раз ответил Цвибол.
В перерыве Цвибол подошел к Богемскому покурить.
– Что вчера вечером делали? – спросил Богемский.
– Гулял.
– С Катей?
– Да.
– Где?
– Везде.
– Хороший вечер был?
– Да.
– Звезды?
– Да.
– А сегодня?
– Тоже гулять будем.
Вмешивается радио.
Радио. Обильные дожди прошли в Центральной черноземной области.
Богемский. Слышите?
Цвибол. Хорошо, что обильные.
Радио. Метеорологические данные дают основание ожидать выпадения осадков в Московской области в ближайшие дни.
Богемский. Слышите?
Цвибол. Хорошо, что в ближайшие.
Пауза.
Богемский. Может быть, и сегодня даже дождь выпадет.
Цвибол. Пожалуй, выпадет.
Богемский. И звезд не будет.
Цвибол. И вы в кино пойдете с Катей.
Богемский. И вы согласны уступить мне вечер в обществе девушки, которую вы любите, ради того чтобы пошел дождь?
Цвибол. Да.
Пауза.
Богемский. Дождь, который нужен республике и не нужен вашей любви.
Цвибол. Да. Дождь, который нужен республике.
Богемский. Браво! Дайте вашу руку. Я теперь начинаю понимать, что такое классовый подход к действительности.
И действительно, появилась туча.
Сперва появился ее лоб. Широкий лоб.
Это была лобастая туча. Она карабкалась откуда-то снизу. Это был увалень, смотревший исподлобья. Он выпростал огромные лапы, вытянул одну из них над Александровским вокзалом, помедлил, потом, поднявшись над городом до половины, повернулся спиной, оглянулся через плечо и стал валиться на спину.
Ливень продолжался два часа.
Затем был неудачный проблеск.
Затем – умеренный дождь.
Наступил вечер.
Звезд не было.
Дождь то появлялся, то исчезал.
Богемский купил два билета на предпоследний сеанс и стал ждать Катю у памятника Гоголя, как было условлено.
Она не пришла. Он ждал час и еще четверть часа. И потом еще четверть. Блестели лужи. Пахло овощами. В раскрытом окне играли на гитаре. Вспыхивали зарницы.
Он пришел в переулок, подошел к заветному дому. Здесь живет Катя. Он толкнул калитку подошвой. Он прошел по двору, оставляя в грязи следы, глубокие, как калоши. Обойдя флигель, он увидел темное окно. Нет дома.
Он вышел в переулок и стал ходить взад и вперед. Он остановился и стоял, закутавшись в пелерину, черный и пирамидальный, освещенный окнами, – как в иллюстрации.
Они появились из-за угла. Катя и Цвибол. Они шли обнявшись, как два гренадера.
Он вырос перед ними. Они разъединились.
– Вы обманули меня, Катя, – сказал Богемский.
– Нет, – ответила Катя.
– Дождь, – сказал Богемский.
– Дождь, – согласились они.
– Звезд не было, – сказал он.
– Звезды были.
– Неправда. Ни одной звезды.
– Мы видели звезды.
– Какие?
– Все.
– Арктур, – сказал Цвибол.
– Бетельгейзе, – сказала Катя.
– Антарес, – сказал Цвибол.
– Альдебаран, – сказала Катя и засмеялась.
– Мало того, – сказал Цвибол, – мы видели звезды южного неба. Это вам не Альдебаран. Мы видели Южный Крест…
– И Магеллановы Облака, – поддержала Катя.
– Несмотря на дождь, – сказал Цвибол.
– Я понимаю, – промычал Богемский.
– Мы были в планетарии, – сказал Цвибол.
– Техника, – вздохнула Катя.
– Шел дождь, нужный республике, – сказал Цвибол.
– И нам, – окончила Катя.
– И сверкали звезды, нужные нам, – сказал Цвибол.
– И республике, – сказала Катя.
1931
Кое-что из секретных записей попутчика Занда
Как страстно я мечтал о силе.
Я очень часто смотрю на себя в зеркало. Работая, я каждую минуту вскакиваю и подбегаю к зеркалу. Я вперяюсь в зеркало и смотрю на себя. Что я хочу увидеть в зеркале? Привычка какая-то, неизвестно как выработавшаяся. Что же… Не утешаться ли мне тем, что у всех писателей были свои странные привычки, проявлявшиеся в часы творчества: гнилые яблоки Шиллера или что-то в этом роде, холодные ножные ванны у кого-то из великих. Вот и утешаюсь: у Шиллера – яблоки, у попутчика Занда – зеркало. Противно.
Есть мужчины, у которых никогда не появляется соображение посмотреть на себя в зеркало. Они находят его внезапно. А я стараюсь заглянуть даже в зеркальный шкаф, который грузят на платформу. Поднимаюсь на носки, заглядываю, – это зеркало улетает, – стремительно возносится дом, фонарь, – я успеваю поймать свое улетающее в синеву лицо.
Нет более чистых зеркал, чем те, которые выносит на улицу мебельщик.
Когда думаешь о том, что ты писатель и живешь в эпоху, когда восходит новый класс, и когда начинаешь проверять себя, осматриваться, взвешивать то, что сделал, – становится ясным, что твоя деятельность, которая в иные минуты кажется тебе такой значительной, на самом деле чрезвычайно ничтожна в сравнении с тем, как величественно все то, что образует историю этих лет и дней.
В окне книжного магазина выставлена некая гравюра. Она приводит меня в трепет.
Она изображает давку.
Это давка у дверей театра.
Воздетые руки, перекошенные шляпы, мальчики, бегущие по первому плану. А над толпой…
А над толпой возвышается человек в кружевах – худой, захлестнутый плащом некто, и толпа тянется к нему со всех сторон. Где-то мелькают кучера с бичами, фонари, запятки. Знаете ли вы, что это такое?
Это восходящий класс приветствует своего поэта.
Это Шиллер. Народ приветствует его после первого представления «Коварства и любви». Мать высоко подняла дитя и показывает ему поэта. Слава. Он написал «Коварство и любовь». Он создал мещанскую драму. Он поэт восходящего класса…
Ведь я тоже писатель…
Как же я могу не мечтать о своем «Коварстве и любви» – о новой драме, которая потрясла бы пролетариат так же, как некогда драма Шиллера потрясла бюргеров? Как же я могу не мечтать о силе? Страстно, до воя, до слез, не жаждать силы, которая должна быть в писателе, когда восходит новый класс?
Бенвенуто Челлини пишет:
«Хоть и движимый благородной завистью, желая создать еще какое-нибудь произведение, которое настигло бы и еще превзошло произведения искусника Луканьоло, я все же отнюдь не отстранился от своего прекрасного ювелирного искусства; таким образом, и то и другое приносило мне большую пользу и еще большую честь; и в том и в другом я постоянно делал вещи, не похожие на чужие. Жил в это время в Риме некий искуснейший перуджинец по имени Лаутицио, который работал в одном только художестве и в нем был единственным на свете. Дело в том, что в Риме у каждого кардинала имеется печать, на которой выбит его титул; печати эти делаются величиной с руку ребенка лет двенадцати, и, как я сказал выше, на ней вырезается титул кардинала, с каковым соединяются всяческие фигуры; платят за такую печать хорошей работы по ста и по ста с лишним скудо. Также и к этому искуснику я питал благородную зависть, хотя это искусство весьма обособленно от прочих искусств, которые связаны с золотых дел мастерством, потому что этот Лаутицио, занимаясь этим искусством печати, ничего другого делать не умел. Я принялся изучать и это искусство, хотя и находил его чрезвычайно трудным; никогда не уставая от труда, который оно мне задавало, я беспрерывно старался преуспевать и учиться. Еще был в Риме другой превосходнейший искусник, каковой был миланец и звался мессер Карадоссо, этот человек выделывал исключительно чеканные медальки из пластин и многое другое: он сделал несколько „паче“, исполненных полурельефом, и несколько Христов в пядень, сделанных из тончайших золотых пластин, так хорошо исполненных, что я считал его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел, и ему я завидовал больше, чем кому-либо другому».
Так пишет Бенвенуто Челлини («Жизнь Бенвенуто Челлини», «Академия», 1931, стр. 114–115, выделено мной).
Был такой американец по имени Джек Лондон, который был бродяга, и плавал на шхунах, и охотился, и часто выдерживал бои с многими, нападавшими на него; и так как он бродяжничал в поисках заработка и имея целью увидеть как можно больше разных людей, то ему пришлось жить на тропических островах, где бывали с ним разные приключения. Этот Джек Лондон писал рассказы, каковых никто не хотел печатать, и потом стали печатать, и он стал писать все больше и больше, в каковых рассказах описывал все то, что видел и придумывал, и потому что он сам был смелый и много пережил опасностей и унижений, из которых всегда выходил победителем, то другие люди, прочитавшие то, что он писал, сами хотели быть смелыми и деятельными. Он написал большое множество превосходнейших рассказов и романов, так хорошо исполненных, что я считаю его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел; и я к нему питаю благородную зависть.
Тем более что я живу в стране, где люди приходят на дикие места, чтобы строить на них новые города и электрические станции, и проводить железные дороги, и поворачивать реки, и эти люди показывают удивительнейшую смелость и деятельность, как тогда происходило подобное в Америке; от такого соображения моя зависть усиливается еще более, потому что я мог бы писать такие же превосходные вещи, если даже сама жизнь, создавая такие обстоятельства, способствует мне в этом.
Был еще такой мастер Бальзак, он писал целый день и целую ночь и когда писал, то раздирал на груди сорочку, и выл, и писал до тех пор, пока не валился без сил. Каковой Бальзак был подобен мяснику и был жирный, потный, грязный и имел бычью шею. О нем известно, что он сказал, что если был Наполеон, достигший величайшей славы в государственных и военных делах, то он, Бальзак, будет Наполеоном в литературе; он разделил Париж на круги, в каковых кругах помещались люди, занимающиеся разными делами: ювелиры, ростовщики, банкиры, парикмахеры, генералы, лавочники, священники, продажные женщины, артисты, искатели приключений, художники; он их скрестил между собою, потому что все они составляли одно буржуазное общество и имели одну цель – приобрести как можно больше денег, и написал о них огромное количество романов, создав человеческую комедию. Сказанный Бальзак так хорошо изобразил их всех, что по его произведениям можно представить себе полную картину этой жизни, как будто он был волшебник, видящий, как живут все, кто его окружает, чего кто хочет и о чем думает. Этому Бальзаку я тоже завидую.
Был также такой Пушкин, который писал эпические поэмы и шуточные стихи и послания, и был поэт трагический, и, кроме того, писал повести, и критические статьи, и песни, и был редактор. Ему можно завидовать более, чем кому-либо другому, потому что он, тогда ему было 24 года, написал трагедию «Борис Годунов». Он был картежник и веселый человек, и в такой молодости, как двадцать четыре года, создал произведение – сказанную трагедию, – которая достигает такого совершенства, которого ни до него, ни после него не бывало. Этому человеку, искуснейшему во всех видах поэзии, принадлежит изречение, что нужно быть в просвещении с веком наравне. Каковое изречение он на себе доказал, потому что когда он умер молодым, то после него осталась библиотека в пять тысяч книг, где каждая книга была им прочтена с превеликой внимательностью, ибо на каждой странице этих пяти тысяч книг имелись пометки, сделанные его рукой. Это тем удивительнее потому, что он мог прожить, как все аристократы, каковым он был, веселясь, играя в карты и прожигая жизнь.
Был еще писатель, граф, по имени Лев Толстой. Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать какие-нибудь другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы померяться силами и не победить их. Он выбрал себе самых могущественных противников и только тех, перед которыми все человечество простиралось ниц: Наполеона, Смерть, Христианство, Искусство и самое Жизнь, потому что написал «Крейцерову сонату», где призывал людей к отказу от размножения, то есть от самой жизни. Этот человек в семьдесят пять лет научился ездить на велосипеде. Ему завидовать нельзя, потому что он был, как бывают явления природы – звезды или водопады, и нельзя стремиться стать водопадом, или звездой, или радугой, или способностью магнитной стрелки всегда лететь на север.
Я всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, что скромных художников не бывает. И если они кажутся скромными, то притворяются и лгут, и как бы своей зависти ни скрывали за стиснутыми зубами – все равно прорывается ее шипение. Каковое убеждение чрезвычайно твердо во мне – и никак не угнетает меня, а, наоборот, направляет мою мысль на спокойное рассуждение о том, что зависть и честолюбие суть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего, и что это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол.
И тем более теперь, когда совершаются такие великие дела, когда все вокруг носит знак огромности и, например, слово «гигант» стало повседневным, – то тем более теперь, если я художник, то ничего нет в том дурного, что я хочу равняться на художников-гигантов, потому что стоящая передо мной задача изобразить рождение нового человечества – есть задача гигантская.
Я видел сильного человека. Он вышел в сад. Болтались отстегнутые помочи. Он был толстенький. Он оглядывался на болтающиеся помочи и подхватывал их, потом, забыв, выпускал снова. На нем была хорошая сорочка в синюю прозрачную полоску. Он экипировался, когда ездил весной на конгресс в Дрезден (Колотилов, химик).
Я наблюдал с террасы. Зачем он в сад вышел, неодетый? Что у него за дело в саду? Он не допил кофе. Вот толстенький! Чудачок – он чудачок! Оказывается, у него никакого дела в саду нет. Он просто резвится. Вдруг побежал вприпрыжку, остановился, ковыряет ножкой в гравии.
Куст вздрогнул. Птица. Он слушает. Полез руками в куст. Нету птицы. Вот черт возьми! Смотрит. Болтаются синие помочи. Вольготно спадают штанины. Опять вздрогнул куст. Он присел. Может, ящерица? Толстенький. Нету ящерицы. Помочи стелются по земле. Они шелестнули. Он испугался. Оглянулся. Вскочил. Думал: ящерица! Интересно: птицы, ящерицы! Пошел – лицом на террасу. Меня не видит. Беспорядочное лицо, рыжие усы, веснушки. Тут и лысина и тут же волосатость. Хорошая сорочка. Застегнута на запонку, но воротничка нет. Хорошая золотая запонка. Животик, пухлые руки, рыжие. Вдруг – наконец-то! – нашел! нашел! – не птица, нет, – не ящерица, – другое, – но тоже интересное! не ящерица, но вроде, – нагнулся, – смотрите: какая прелесть! Гусеница!
Он оторвал лист и превратил его в лопатку. Гусеница ползет по земле. Он принял ее на лопатку и поднял. И побежал.
Стол накрыт белоснежной скатертью, солнечный мост соединяет стол с окном, блестит кофейник и круглые перильца подстаканников.
Он кладет лист на скатерть.
Одна сторона листа мохнатая, другая – гладкая, лаковая. И на зеленом лаке лежит желто-красная, жирная, пальцеобразная гусеница. Она огромного веса и цепкости. Колотилов тычет ей пальцем в бок. Потом поддевает ее на спичку и кричит:
– Лапки! Ой, лапки! Смотрите: какие лапки! Будем наблюдать! Будем наблюдать! Давайте наблюдать!
Сильного хватает на все. Сила в любви к жизни.
Колотилов – мировой ученый. Вот он в саду нашел гусеницу, никак не относящуюся к его науке. И гусенице он отдал всю силу своего великолепного внимания. И показал мне такие высоты восхищения, каких достигают только дети, впервые попавшие в цирк.
Колотилов любит жизнь.
Я считаю, например, что главное в жизни – искусство. Оно обнимает мою жизнь, как небо. А Колотилов утверждает, что жизнь огромна и что искусство есть только часть жизни. Так же, как и его наука.
Я ночевал у него, – и стояла в доме нестрашная тишина, опирающаяся на будильник, который слышал все, и не спал, и держал за раздутыми щеками струю звука, как мальчик держит готовую брызнуть воду. Нестрашная тишина спокойного сна, когда человек спит всю ночь в позе, в которой заснул, – тишина, опирающаяся на широкое трехстворчатое окно, где подоконник чист и ничем не завален и где видны фонари и мир техники вдали на железной дороге – мир, не угасающий всю ночь.
Потом всходило солнце, пели птицы и становились с разлету на подоконник обеими лапками сразу, как будто их кто-то ставил.
Трещала вода, вылитая из шланга.
Я выглянул – это автомобиль принимал ванну. И я пошел по дому и увидел Колотилова в стеклянной комнате.
Я остановился на пороге. Здесь была домашняя его лаборатория.
В эту минуту я понял все. Эта задранная к солнцу голова с розовеющей рыжей облезлостью, этот один прищуренный, как у стрелка, глаз, а другой широко раскрытый и впускающий в себя луч солнца, – этот луч солнца, проходящий через стеклянную трубку, прежде чем попасть в глаз наблюдателя, – эта стеклянная трубка, которую держит наблюдатель между собой и солнцем, между рекордным аппаратом внимания – глазом ученого – и солнцем, которое есть сама жизнь, – это нечто розовое в трубке – еще не газ и уже не жидкость, – все это вместе сложилось в моем сознании в сверкающий вывод:
– Силен тот, чье внимание устремлено в мир внешний.
Для него, для исследователя, для химика – этот внешний мир: стеклянная трубка с реактивом, опыт, материя. А для меня, для писателя, этот внешний мир: эпос.
Да, да – эпос!
Изображать события, характеры, страсти, – быть вовне.
Страсти?
Как же я могу изображать чужую страсть, не привив себе бактерию такой же страсти?
Если я хочу изобразить алчность или другое, – или резвость, или сострадание, – я ведь должен расшевелить в себе, вытянуть, выпрямить росток этой страсти. Росток, если она во мне уже не цветет! И, шевеля его, я приведу в движение все дурное – все сплетения души. И значит, вновь – возврат внимания в себя, в мир внутренний. Так вот в чем дело! Сама профессия моя – профессия писателя – такова, что внимание не может принадлежать только внешнему миру.
– Колотилов, сделайте меня кем-нибудь при себе! Я не хочу быть писателем! Я буду перемывать трубки! Потом будем искать в саду гусениц, пить кофе, крепко спать! Быть человеком искусства, художником – большое несчастье. Ни успех, ни деньги, ни так называемое удовлетворение не искупают вечного беспокойства, оторванности от обыкновенных радостей жизни, от садов, и гусениц, и птиц, и купающихся автомобилей – не искупают ужаса той постоянной устремленности в себя, которая в конце концов приводит к мысли о смерти, и страху смерти, и желанию поскорей избавиться от этого страха – то есть к пуле в лоб. (Кстати, и Джек Лондон – см. выше – тоже, говорят, покончил с собою.)
– Вы боитесь смерти? – спрашивает Колотилов. – Чудак. Ведь смерть есть тоже часть жизни. Ведь умирает-то живой?
Мама подарила мне галстук. Пошла в комиссионный магазин. Долго выбирала. Чудесный галстук.
Мы с мамой вертимся перед зеркалом. Мама помогает мне завязывать галстук.
– Ах, мама, – говорю я, – смотри – я похож на тебя. Попутчик Занд похож на свою маму, Екатерину Николаевну Занд, жену музыканта.
Зеркало! Зеркало!
Разве может быть сильным человек, похожий на маму?
Блестит рояль.
Мама садится к роялю и играет Шопена.
Это какое-то возражение на мою жалобу.
– Никогда не смотреть в зеркало! Никогда! Уйти от жалкой инфантильной привычки присматриваться к себе! Это свойство слабых. Ребенок в ванне рассматривает свои ручки, ножки, тельце…
Все, говорящее о слабости, я хочу вычеркнуть из своего сознания. Я хочу совершенно перестроиться. И торжественно клянусь тебе, что перестроюсь.
Она предлагает мне изнеженность Шопена.
Что это, вальс? Или плющ? Или плащ?
Она слагает мне его портрет.
Этот лоб просит ладони. И какая-то ладонь уже приближается к нему. И в последний миг он откидывается в страхе. Кто это тянется к нему? Он хочет увидеть эту приближающуюся к нему невидимую ладонь, и потому его глаза чуть подняты и скошены. Это простуды, компрессы – это «опять кашель», это «нельзя выходить в сырую погоду». Он раздражался на портных, и писал письма своему другу, и друга, польского инсургента – человека, носившего римское имя Тит, – осыпал нежными обращениями, как будто сам был девушка и писал к девушке. Это не была нежность мужчин, целующихся при неожиданной встрече, – он был недоразвит и уязвим, и нежность его слов исходила из инфантильной любви к себе и страха за себя.
– Я хочу быть дураком, мама, – говорю я. – Какое счастье, какая большая жизненная удача – быть дураком! Иди сюда, мама. Смотри: галстук. Это хорошо: прекрасный галстук, и он очень хорошо завязан. И хорошо отпустить бачки… вот здесь, небольшие бархатистые бачки, и быть смуглым. И быть высоким с развернутыми плечами. И совершить какую-нибудь среднюю подлость: подделать доверенность. И никаких не иметь кругозоров.
О Базилевиче. Базилевич большевик, редактор. Ему сорок пять лет. Он человек заурядной наружности, носит пальто с барашковым воротником – обыкновенное черное драповое пальто, теплый шарф, шапку-ушанку, галоши. У него имеется жена. Она добра, приветлива, ничем не замечательна.
Я пришел к нему вечером. Его не было. Он пришел позже, в девятом часу.
– Страшный мороз, – сказал он.
Войдя с мороза, человек казался огромным. Через секунду, как только закрылась дверь, он уже уменьшился до нормальных размеров.
– Безобразие, – сказала жена, – подумайте, он уходит утром и весь день без еды. Смотри, какой ты серый. Он ничего не ест целый день. Довольно. Я буду тебе давать утром бутерброды. Великолепно можешь брать с собой в бумажке два бутерброда. А что ты хочешь – чтобы катар желудка сделался?
Базилевич подходит к умывальнику мыть руки. Жена издали накидывает на плечо ему полотенце. Он моет руки и, помыв, в знак окончания встряхивает кистями над чашкой. И вытирает, не снимая полотенца с плеча. Вода громко льется из чашки в ведро. Он оборачивается: не забыл ли кран закрыть?
Пока он занят этим, я говорю ему о том, как трудно быть писателем. О высоких желаниях и мучительной растерянности. И, близоруко в поисках гвоздя водя по стене полотенцем, он говорит:
– Вы должны включиться в жизнь масс.
Казенная фраза. Конечно, это казенная фраза. Она во всех газетах, журналах.
Слиться с массой.
Но он, умный человек, человек, живущий обыкновенной жизнью, где его дела, редактирование, рукописи, корректуры, быт, и жена, которую он любит, и мороз, и галоши, – он произносит эту фразу с живой убежденностью, как и фразу о том, что сегодня страшный мороз.
Значит, если фраза казенная, это еще не значит, что она не есть выражение жизни.
Я восклицаю, что хочу написать новое «Коварство и любовь». Это громкая фраза. Но я произношу ее с живой убежденностью, и эта фраза есть часть моей жизни, где имеются все остальные области, составляющие мою жизнь. Значит, громкая фраза есть тоже выражение жизни. И эти две фразы встречаются. И жена, обыкновенная женщина, присутствует при встрече этих двух фраз и не выражает никакого особенного отношения к этому событию. Значит, мы говорим обыкновенные вещи.
Он не задумывается ни на секунду. Он мгновенно отвечает мне:
– Надо включиться в жизнь масс.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































