Текст книги "Старое предание (Роман из жизни IX века)"
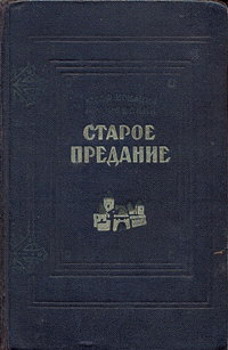
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Юзеф Игнаций Крашевский
Старое предание (Роман из жизни IX века)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Известный польский писатель Юзеф Игнаций Крашевский (1812—1887) вошёл в историю родной литературы как один из талантливейших предшественников блестящей плеяды польских критических реалистов второй половины XIX века – Элизы Ожешко, Генрика Сенкевича, Болеслава Пруса и Марии Конопницкой. В своих многочисленных повестях и романах он отразил противоречия и конфликты эпохи развития капиталистических отношений в недрах разлагающейся феодально-крепостнической системы.
В романах и повестях Крашевского центральное место занял новый герой – крестьянин, ремесленник, мещанин и интеллигент. Никто из современных ему польских прозаиков не содействовал в такой степени развитию у соотечественников интереса к польской книге и вытеснению из обихода низкопробных иностранных романов. Доступность романов Крашевского для самых разнообразных кругов читателей, редкая способность писателя быстро откликаться на самые жгучие вопросы современности, занимательная фабула, яркий, образный язык обеспечили его произведениям огромную популярность.
По своим общественно-политическим взглядам Крашевский примыкал к либерально настроенной шляхетской интеллигенции, отстаивавшей программу буржуазно-демократических преобразований в Польше. Он настойчиво боролся за раскрепощение крестьян, горячо сочувствовал идее национально-освободительного движения, поддерживая связь с известным польским революционером Шимоном Конарским и украинским поэтом Тарасом Шевченко. Патриот и гуманист, он искренне стремился помочь обездоленному народу и благодаря этому сумел подняться до правдивого, реалистического изображения действительности.
Крашевский был не только писателем, но одновременно и публицистом, филологом, историком, фольклористом и общественным деятелем. Он обладал феноменальной трудоспособностью и всесторонней эрудицией. Им создано более двухсот художественных произведений, кроме того написано множество публицистических работ, исторических трудов, посвящённых истории Литвы и прошлому славянских народов.
Литературную деятельность Крашевский начал в тридцатые годы во время пребывания в Виленском университете. В этот период он увлекается поэзией Байрона и Мицкевича; под влиянием Мицкевича он пишет балладу «Монастырь на горе» и сборник лирических стихотворений. В 1833 году он напечатал две исторические повести – «Последний год царствования Сигизмунда III» и «Костёл Свенто-Михальский в Вильно». Критическое изображение прошлого Польши, осуждение жестокости, эгоизма, развращённости ни в чём не знавших меры польских магнатов вызвало со стороны реакционного журнала «Петербургский еженедельник» ожесточённые нападки на молодого писателя.
Во время пребывания в Вильно Крашевский усердно изучает историю и готовится к преподавательской деятельности; он надеялся читать курс польской литературы в Киевском университете, но правительство Николая I не допустило его к чтению лекций за участие в восстании 1830 года.
Первым произведением Крашевского, снискавшим ему всеобщее признание, была повесть «Поэт и мир» (1839) о трагической судьбе, талантливого поэта-мечтателя, осмеянного светским обществом. Однако в историю польской литературы Крашевский вошёл как автор цикла исторических романов и повестей о жизни крепостного крестьянства.
После подавления польского восстания 1830 – 1831 годов противоречия между помещиками и крепостным крестьянством углубились. В 1840 – 1850 годах по стране прокатилась волна крестьянских бунтов. Эти годы ознаменовались оживлением общественно-политической жизни, ростом антикрепостнических настроений среди либерально настроенного дворянства. Демократические круги польского общества видели причину поражения национально-освободительного восстания в том, что остался нерешённым крестьянский вопрос.
Острота, какую приобрёл крестьянский вопрос, а также непосредственное знакомство с жизнью деревни побудили Крашевского создать цикл повестей о крепостных. «На мысль создать картины из народной жизни, – рассказывает писатель, – меня натолкнуло пребывание в деревне и сближение с жителями Омельна, Грудка, Хубина и Киселей в период с 1837 по 1858 год. Я вёл хозяйство, как умел, и одновременно наблюдал» Многие факты я брал непосредственно из жизни. В течение двадцати лет я постоянно разъезжал, общаясь с народом, слушал, наблюдал, побуждал к рассказам. Вот подлинная история происхождения моих повестей».
Повести Крашевского открывают в истории польской литературы новую страницу. Писатель отказался в них от традиционного идиллического изображения безмятежного, довольного судьбой «мужичка», живущего в расписной чистенькой хатке; его герой крестьянин страдает от произвола помещика, он обитает в стране, где жизнь хороша и привольна лишь для господ, а его удел – голод, нищета, изнурительный труд и унизительное бесправие. Повести дают богатый материал для понимания отношений, господствовавших в первой половине XIX века между усадьбой и крепостными, сообщают массу фактических деталей, касающихся жизни крестьян, воссоздают атмосферу, царившую в деревне, где полновластным господином был пан и его подручный – эконом.
«На свете есть, к сожалению, люди, – пишет Крашевский во вступлении к своей повести „Ермола“, – которые утверждают, что бог, создавая крестьянина, определил ему иной удел; нам, однако, кажется, что все на земле равны, имеют одинаковое право на просвещение, благополучие, добродетель и счастье…»
Лучшие повести о крестьянах – «Ульяна», «Повесть о Савке», «Остап Бондарчук» – написаны Крашевским до 1846 – 1848 годов, В них писатель критикует произвол и насилие помещиков, мнящих, будто «говорить по-французски, играть в вист, любить литературу достаточно, чтобы прослыть хорошо воспитанным и цивилизованным человеком», но думать так, пишет Крашевский, значит «не понимать, что такое прогресс, что такое цивилизация» («Воспоминания о Литве, Полесье и Волыни», 1840).
Напуганный крестьянским восстанием 1846 года в Галиции и революционными событиями 1848 года в Европе, Крашевский, будучи идеологом либерального дворянства, перешёл на более умеренные позиции и в повестях, созданных в то время («Ермола», «Ярына», «Болезнь века», «Чудовище»), идеализирует патриархальные отношения в деревне, проводит мысль о возможности счастливой жизни крепостных под опекой «доброго пана».
Этот период, ознаменовавшийся упадком реализма в творчестве Крашевского, длился недолго. Мощный подъем национально-освободительного движения в Польше, предшествовавший восстанию 1863 – 1864 годов, и оживлённая полемика по крестьянскому вопросу, вскрывшая консерватизм шляхты, не оставили Крашевского равнодушным. В своей последней повести о крестьянах – «История колышка в заборе» (1860) – Крашевский выступает как беспощадный обличитель тёмной, невежественной шляхты.
В январе 1863 года, за несколько дней до восстания, по приказу начальника гражданского управления маркиза Велепольского, подозрительно относившегося к деятельности писателя, Крашевский вынужден был навсегда покинуть Королевство Польское и поселиться в Дрездене. Хотя накануне восстания Крашевский не верил в его успех и ратовал за «бескровное» освобождение Польши, тем не менее, когда оно разразилось, он начал горячо поддерживать его в своих литературных произведениях («Дитя Старого города», «Шпион», «Красная пара»).
Живя на чужбине, писатель не порывал связи с родиной, внимательно следил за событиями в Польше, вёл оживлённую переписку с соотечественниками, сотрудничал в журналах под псевдонимом Богдана Болеславиты, делал ежегодные обзоры польской литературы, писал романы на темы из современной жизни. Но, не имея возможности наблюдать непосредственно жизнь родины, он все реже и реже обращается к современной тематике и углубляется в прошлое Польши.
В 1875 году у Крашевского зародился план создания цикла исторических романов, который охватил бы историю Польши с древнейших времён до XIX века.
Крашевский тщательно изучал исторические документы, рукописи, дневники, воспоминания. Создавая занимательный сюжет, он следовал в своих романах исторической правде, мастерски воспроизводил колорит отдалённых эпох. Много произведший посвятил он XVIII веку, периоду упадка шляхетской республики. Но в отличие от реакционного польского романиста Г. Ржевуского, идеализировавшего «золотую шляхетскую вольницу» – Речь Посполитую, он осуждал польских магнатов, видел причину гибели польского государства в феодальной анархии, слабости королевской власти и абсолютном бесправии народа.
К числу лучших исторических романов этого цикла относятся «Старое предание» (1876), «Времена Сигизмунда» (1846), «Графиня Козель» (1873), «Брюль» (1874).
В период национального порабощения польского народа, ассимиляторской политики держав, угнетавших Польшу, историческим романам Крашевского принадлежала особая роль – они знакомили польскую молодёжь с прошлым их родины и воспитывали у неё патриотические чувства.
Задуманный исторический цикл открывался романом «Старое предание», в котором описывались события из жизни польских славян в IX веке.
Во времена Крашевского об этой эпохе имелись лишь скупые, отрывочные свидетельства чужеземных историков и несколько смутных преданий о Краке, Ванде, Пясте и Полеле, записанных польскими летописцами Анонимом Галлом (XII век), Виниентием Кадлу-беком (конец XII – начало XIII века) и Яном Длугошем (XV век). Канвой сюжета для «Старого предания» послужила легенда о Пясте и Попеле, изложенная в истории Длугоша. Легенда гласит о том, как жестокий князь Попель, притеснявший своих подданных, был съеден мышами и как поляне вместо него избрали на вече своим князем бедного колёсника Пяста. В самом заглавии романа Крашевский подчеркнул теснейшую связь своего произведения с древними легендами. Мыши из легенды, использованной Длугошем, превращаются у Крашевского в многолюдный род Мешков, которых, как говорит автор, прозвали Мышками за их плодовитость. Называя их Мешками, он этим как бы подчёркивал преемственную связь вымышленных персонажей с позднейшей исторической личностью – польским, князем X века Мешком I. Крашевский использовал в «Старом предании» и другие легенды. Героиня романа – красавица Дива, мечтающая стать жрицей, напоминает легендарную польскую королеву Ванду. Как и Ванда, Дива пуще всего дорожит своей свободой и отказывается стать женой Домана, а когда тот силой похищает её, ранит его ножом и скрывается в храме богини Нии.
Знание преданий и легенд, знакомство с археологическими раскопками курганов позволили Крашевскому описать подробнейшим образом жизнь полян, их обычаи, нравы, домашнюю утварь и костюмы. Особенно удачно описаны Крашевским жилища полян, и это тем более следует поставить ему в заслугу, что при жизни писателя они не были известны по археологическим раскопкам. Изображённое автором в романе гостеприимство полян, добродушие и честность, уважение членов семьи к своему патриарху, отцовское право распоряжаться детьми, подчинённое положение женщин, приветливое, смешанное с чувством страха отношение к колдунам и пристрастие полян к ворожбе – все это правдиво характеризует быт и языческую культуру древних предков польского народа.
Созданная Крашевским картина общественных отношений, как справедливо отмечают современные польские учёные, в общих чертах соответствует научному представлению об этом периоде, и в этом одно из величайших достоинств «Старого предания».
Писателю удалось подметить первые признаки зарождения государства у полян, разложения родового строя в связи с возникновением торговли, выделением ремесла и развитием домашнего рабства. Крашевский не понимал необходимости отмирания общинно-родового строя, как менее прогрессивного по сравнению с феодальным укладом. Этим отчасти объясняется та идеализация патриархальных отношений, выразителями которых являются в романе богатый кмет Виш и бедняк Пястун. Но решающим моментом для правильного понимания идейной позиции автора является его горячее сочувствие свободолюбивым стремлениям кметов и оправдание их борьбы с княжеским деспотизмом.
Гневное возмущение народа своим князем сливается в романе с борьбою полян против нашествия германских племён, призванных князем Хвостеком на польские земли.
Борьба поляков с экспансией немецких феодалов началась в древнейшую пору. Жестоким притеснениям подвергалось польское население Княжества Познанского и во времена канцлера Бисмарка, проводившего жестокую политику германизации польских земель и онемечивания польского народа. Для Крашевского, как и для других польских писателей той эпохи, обращение к истории борьбы со вторжениями немецких рыцарей было одним из способов противодействия антипольской реакционной политике современного ему юнкерства. Поэтому положительные герои Крашевского – слепой сказитель-гусляр Слован, кмет Виш, бортник Пястун, жрец храма Визун и другие – являются противниками чужеземцев и их обычаев. Отрицательные же персонажи романа – князь Хвостек, княгиня Брунгильда и их слуги – ищут поддержки у германцев в борьбе с восставшим народом.
В тогдашних условиях, когда крупная польская буржуазия и помещики заняли позицию лойяльного отношения к правительствам, угнетавшим Польшу, такая характеристика героев романа звучала резким осуждением господствующих классов Польши.
«Старое предание» всегда пользовалось большой популярностью не только в Польше, но и за её пределами и постоянно привлекало к себе внимание писателей, композиторов, живописцев. Так, польским писателем XIX века Анджеем Щепансиим на сюжет «Старого предания» была написана драма в пяти актах – «Пяст I» (1891); композитором Владиславом Желенским – опера под тем же названием (1906); художниками Э. Андриолли (1878) и А. Гавинским (1909) сделаны иллюстрации к роману.
Советский читатель с интересом прочитает роман популярного польского писателя, описавшего обычаи, быт и верования древнейших славян, рассказавшего об их вольнолюбивых стремлениях и нарисовавшего картину зарождения государства на заре истории польского народа.
И. К. Горский
I

Весеннее утро вставало над чёрной стеной лесов, опоясывающих небосклон. Набухшие почки развернулись за последние два-три дня, и в воздухе носился аромат обрызганных росой листьев и молодой травы. Вдоль ручьёв, ещё не вошедших в берега после весеннего паводка, золотились одуванчики, как великолепное шитьё по зеленому ковру. Торжественная тишина предшествовала восходу солнца, только птицы начинали просыпаться в ветвях и беспокойно срывались с ночевья… Уже слышался щебет и призывный свист пернатой рати. Высоко под облаками, описывая круги, реял седой орёл, высматривая на земле добычу. Порой он повисал в воздухе, неподвижно застыв, а потом опять величаво парил… В лесу что-то зашумело – и смолкло… Из чащи выбежало на поляну стадо диких коз… Поведя вокруг чёрными глазами, они шарахнулись назад… Топот заглох вдали – и снова стало тихо. Затрещали ломающиеся ветви с другой стороны, и с шумом выбежал рогатый лось – он поднял голову, втянул храпом воздух, задумался, почесал рогами хребет и медленно повернул обратно в лес… И снова послышался треск ветвей и грузные шаги.
Среди густого лозняка засветились два глаза – то волк с любопытством осматривался по сторонам; позади него, приложив уши, покатил испуганный заяц, несколько раз прыгнул и припал к земле.
Все безмолвствовало, лишь вдалеке зазвучала утренняя музыка лесов… Весенний ветерок коснулся крылом ветвей – и заиграл оркестр… Каждое дерево играло свою мелодию, и ухо обитателя лесов могло различить лепет молоденьких листочков берёзы, робкую дрожь осины, скрип сухих дубов, шум сосен и жалобный шелест елей.
Шёл ветер, ступая по верхушкам деревьев, и все громче отвечал ему бор, все звонче и все ближе звучала музыка утренней песни.
Над лесом проплывали зардевшиеся тучки, словно девушки, что, пробудившись от сна, убегают, заслышав ход чужого. Серое небо постепенно посинело вверху и позолотилось внизу; ветер разметал по лазури белые облачка. Солнце ударило лучами ввысь… ночь бежала. Остатки теней и мрака таяли в сиянии наступающего дня. Над ручьями и лугами, как жертвенный дым, заклубился прозрачный туман, медленно поднимаясь к небу и растворяясь в воздухе. Косые лучи солнца с любопытством заглядывали в глубину, выслеживая, что выросло за ночь, что зазеленело, расцвело.
Шуму леса стали вторить хоры птиц; поднялся яростный гомон. На свету ожили луга, заросли, чащобы и воздушные тропы – возвращалась жизнь.
В лучах кружились, сновали, вились беспокойные крылатые дети воздуха, что-то щебетали друг другу, тучам и лесам.
Вдали откликнулись кукушки, кузнецы-дятлы уже ковали деревья. – Настал день…
На опушке леса, у пересекавшей его ленивой реки, среди густых деревьев, где ещё пряталась тень, высилась груда ветвей – как будто наспех сложенный шалаш: несколько вбитых в землю колышков, а на них срубленные еловые сучья. Рядом чернел погасший костёр, подёрнутый пеплом, а в нём недогоревшие головешки. Подальше на сочной зеленой траве паслись привязанные к кольям две маленькие неуклюжие лошадки, ещё покрытые зимней густой и мохнатой шерстью.
Какой-то шорох в лесу, видимо, испугал их: почуяв врага, они навострили уши и, раздув ноздри, принялись нетерпеливо рыть копытами землю; одна из них заржала, и эхо разнесло по лесу этот дикий звук, он отдался в лугах и повторился ещё раз уже слабее…
Из-под ветвей показалась голова, заросшая длинными рыжими волосами; два тёмных глаза уставились сперва на лошадей, потом на небо, в шалаше послышалась возня. Раздвигая ветви, вылез человек высокого роста, крепкого сложения и широкоплечий. От долгого лежания и сна члены его онемели, он потянулся, зевнул, встряхнулся, снова поглядел на небо и на лошадей… Завидев его, они стали медленно к нему приближаться. Он чутко насторожился. Ничего не было слышно… только лес шумел, пели птицы да журчал ручей.
У человека был вид дикаря: густые всклокоченные волосы падали на плечи и закрывали космами низкий лоб до самых глаз. Лицо его тоже обросло, лишь бугры щёк, разрумянившихся от холода и сна, выступали из-под усов и бороды, в которой почти не виден был рот. Коричневая суконная одежда из грубой шерсти, прикрывавшая его тело, застёгивалась у шеи на пуговицу. Ноги его были тоже обмотаны сукном, а ступни обернуты шкурой и перевязаны оборами[1]1
Обора – длинные завязки у поршней – обуви, сделанной из одного куска кожи.
[Закрыть]. Короткие рукава его одежды открывали мускулистые волосатые руки, тёмные от загара. Выражение лица его было почти по-звериному хитрое, одновременно дерзкое и осторожное… глаза быстро бегали. Ловкие движения сильного тела не позволяли, определить его возраст, однако был он далеко не молод.
Постояв с минуту, человек подошёл к шалашу и, не произнося ни слова, с силой ударил ногой в стенку. За ветвями что-то быстро задвигалось, оттуда ползком вылез мальчик и проворно вскочил на ноги. Это был подросток лет пятнадцати, крепыш, немного похожий на старшего. Лицо его ещё не опушилось бородой, волосы были коротко подрезаны, а грубая заношенная одежда состояла из полотняных и суконных лоскутьев. Встав, он принялся тереть кулаками глаза, но едва успел прогнать остатки сна со слипавшихся век, как послышался хриплый голос старшего; он говорил на каком-то странном, чужом языке, которого, кроме них двоих, никто не понимал в этой стране:
– Герда, веди коней! Солнце взошло…
Услышав это приказание, подкреплённое лёгким тумаком, мальчик подбежал к лошадям, отвязал верёвку, вскочил на спину одной, а другую повёл в поводу к сухой песчаной отмели в нескольких шагах от шалаша, где можно было спуститься к воде. На песке видны были следы копыт: чьи-то кони уже приходили сюда раньше на водопой. Лошади принялись жадно пить. Малый, сидя верхом, зевал, искоса поглядывая на рыжего, который хлопотал около шалаша, что-то бормоча себе под нос.
Быть может, то была утренняя молитва?
Наконец, лошади напились, вскинули головы и словно задумались, слушая шум леса. Мальчик погнал их гуськом к шалашу. Здесь лежали приготовленные тюки, завёрнутые в сукно и кожу, и старший тотчас принялся навьючивать их на лошадей и приторачивать. Подросток молча помогал ему. На спину лошадям взвалили толстое сукно и шкуры. Когда все было готово, старший снова полез в шалаш и через минуту вышел оттуда вооружённый. За пояс он заткнул грубую, как молот, секиру и короткий нож в кожаных ножнах, через одно плечо закинул лук, через другое – пращу, а короткую палицу с кремнёвым набоем укрепил впереди себя на лошади. Мальчик тоже подобрал с земли своё оружие, нож засунул за пояс и с секирой в руке легко вскочил на коня… Старший ещё раз осмотрел ночлег, проверяя, не забыл ли чего, пощупал, хорошо ли привязаны тюки, и, подведя свою лошадь к пню, ловко вскочил на неё. Они уже собирались трогаться, и старший, озираясь по сторонам, размышлял, по какой пуститься дороге, когда неподалёку из чащи, осторожно раздвигая ветви орешника и калины, тихо и незаметно высунулась чья-то голова.
Два светлых глаза с любопытством, смешанным со страхом, разглядывали всадников. Сквозь листву видны были только выгоревшие волосы, молодое лицо с едва пробивающимся пушком и полуоткрытый от удивления рот, в котором поблёскивали белые зубы.
Между тем всадник посматривал то на солнце, то на течение реки. Вдоль обоих берегов не видно было и следа дороги.
Казалось, он колебался, переправиться ли через реку, пуститься ли по течению, или против него. Лошади, обернувшись к востоку, уже нетерпеливо рвались в путь; старший с минуту подумал, смерил взглядом луг, трясину и лес, потом взглянул на песчаную отмель, где поили лошадей. Уставясь взглядом на воду, как будто измеряя её глубину, он, должно быть, раздумывал, отыщет ли брод. Теперь он мог бы увидеть в кустах голову, следившую за ним, – но она осторожно скрылась, только ветки опустились и затрепетали. Лошади медленно вошли в воду, хотя тут было не глубоко и не топко, погрузились по брюхо, и казалось, сейчас поплывут, но сразу же наткнулись на песчаный порог, от которого рукой было подать до другого берега… Оба путника благополучно переправились, едва промочив ноги.
Другой берег был повыше и суше, и по нему удобнее было ехать, только где-то в зарослях, совсем близко, что-то странно шелестело.
«Верно, зверя вспугнули», – подумал старший.
Вокруг, кроме покинутого ночлега, не было следов человека; нетронутый, как его создал бог, стоял выросший до неба лес; могучие, прямые, как колонны, стволы, с засохшими сучьями внизу, вверху были увенчаны зелёными кронами. Кое-где попадались сломанные бурей деревья; они лежали полуистлевшие, с полуободранной корой, среди погнувшейся от ветра молодой поросли и вековых, замшелых, как будто под старость укутавшихся в шубы, исполинов.
Всадники ехали дальше. Неподалёку на холме что-то белело… Под дубом лежал камень, выдолбленный в виде чаши, над ним бесформенной, грубо отёсанной глыбой высился другой: чья-то неискусная рука вырезала на нём безобразное подобие человеческого лица в надвинутом на лоб колпаке. Заметив у дороги изваяние, старший всадник остановился, опасливо огляделся по сторонам и, отъезжая, с презрением плюнул на него.
В ту же минуту из кустов донёсся странный свист, и жало стрелы впилось в толстую сермягу на груди старшего. Почувствовав боль, он едва успел повернуть голову, ещё не зная, хвататься ли за оружие, или пуститься в бегство, как вскрикнул его сын. Вторая стрела вонзилась малому в ногу. А из лесу послышался смех, дикий, страшный смех, не то звериный вой, не то человеческий вопль. Хохот оборвался, отзвучало эхо, все смолкло… На каменный колпак села сорока, раскинув крылья, застрекотала, вторя смеху… и заметалась, словно тоже грозила ему.
Лошади, встревоженные криком, побежали быстрее, но врага уже не видно было и не слышно. В лесу царила тишина, только деревья торжественно шумели.
Старший всадник ехал крупной рысью, то и дело погоняя лошадь; мальчик, вырвав из ноги стрелу, поспешал за ним, склонившись к шее своего коня. Так они проскакали несколько стадий,[2]2
Стадия – мера длины, равная 1066 м .
[Закрыть] наконец, ничего не слыша и не видя погони, замедлили шаг. Только теперь старший обернулся к мальчику – тот побледнел, прикусил губу и с округлившимися глазами припал к лошади. До этой минуты старшему даже некогда было вытащить стрелу, торчавшую у него в груди. От быстрой езды она согнулась и опустилась вниз, но ещё держалась, впившись в тело. Лишь теперь, отведя коня на поляну, рыжий занялся стрелой: он ловко ухватил её и, крякнув от боли, выдернул, затем с любопытством осмотрел её и сунул в кожаную суму, висевшую у него за плечами.
На жале стрелы, вырезанном из белой кости, виднелась капелька крови.
– Разрази их буря… и гром! – проворчал рыжий. – Где-то в кустах нашёлся глаз, который подсмотрел и отомстил за идола. Тебя в ногу ранили, Герда?
Мальчик, с обезумевшими от ужаса глазами, молча показал на раненую ногу. Стрела легко прошла сквозь холщовый лоскут, и рана оказалась глубокой.
– Ну, это ничего! Одна стрела, да ещё полянская[3]3
Поляне – одно из племён польсиих славян, обитавшее по реке Варте. У автора это племя – предок польского народа.
[Закрыть], – пробормотал старший, – они у них не отравленные. Я боялся, что их там много. А один разбойник не страшен. Увидел у нас оружие и не посмел напасть… Но он может поднять шум, созвать других… Надо бежать… – Рыжий взглянул на солнце. – Ты держись крепче и пусти лошадь за мной… Надо спешить, чтобы они не застигли нас в лесу, покуда мы не доехали к знакомым. После полудня будем на месте.
Мальчик молчал, старший ещё что-то бормотал, смотрел на небо, потом вытянул коня обротью[4]4
Оброть – недоуздок, конская узда.
[Закрыть], и они помчались сквозь чащу, не удаляясь, однако, от реки, указывавшей им путь.
Лес не редел, вокруг было дико, пустынно и глухо. Раз издали они заметили на воде как будто человеческую голову с тёмными прилипшими волосами и две мерно взмахивающие руки. Но когда застучали копыта, голова исчезла, и на поверхности воды видны были только разбегающиеся круги. Они проехали… и голова снова вынырнула из глубины… на чёрных волосах желтел венок из одуванчиков… глаза смотрели им вслед… Чуть подальше вниз по течению нёсся маленький, как скорлупа, челнок, над ним белел парус. Едва послышался топот, парус убрали, а челнок, как уж, скользнул в камыши, пробираясь между лозняком и осокой, на которой закачались макушки. Вспугнутые шумом, стайкой поднялись в воздух дикие утки; вытянув шеи, они вереницей полетели куда-то дальше и с плеском снова упали на воду.
Всадники все скакали вдоль берега – то быстрей, то тише, дважды поили усталых лошадей и, не отдыхая, ехали дальше; солнце поднималось все выше, припекало все сильней. В лесу было свежо и прохладно, но с лугов и песчаных отмелей доносилось горячее дуновение.
Окрестности не менялись – лес по-прежнему шумел над рекой. Кое-где между холмами, в песках, поблёскивало озерко: река то широко разливалась, то сужалась, зажатая в оврагах. Сменялись только деревья – сосны и ели, зеленеющие листвой берёзы, липы и осины или ещё не проснувшиеся дубы, глухие к зову весны.
Кое-где желтоватой грядой лежал песок или тянулась поросшая кустарником трясина, которую им приходилось объезжать. Далеко впереди прокрадывался зверь, с лугов шарахались стада лосей и оленей и бросались к лесу; на опушке они останавливались, снова с любопытством оглядывались и мчались дальше, пока не скрывались из виду. Тогда лошади, испуганные топотом всполошившегося стада, прижав уши, неслись… что было сил.
Герда поминутно ощупывал рану и чувствовал, как кровь, словно тёплый шнурок, вьётся по ноге и, скапливаясь в кожаном поршне, просачивается красными каплями сквозь трещины в подошве.
Однако жаловаться он не смел, а приложить к ране листья или древесную губку, чтобы остановить кровь, не было времени. У старшего на руке тоже показалась кровь, но он нимало не встревожился и вытер пальцы о конскую гриву. Должно быть, края эти были ему знакомы, и он непрестанно озирался, как бы отыскивая место для привала. Однако нескоро, нескоро ещё замедлили они шаг…
Но вот река, протекавшая по низменной равнине, широко разлилась между болот, затянутых ярко-зеленой ряской. С открытого холма путникам видны были луга и топи, среди них мочажинки и множество озерец, опоясанных рощами. Здесь в реку впадало несколько выбегавших из бора ручьёв. Лес, в котором они, наконец, остановились, был выжжен и на большом пространстве засох; чаща молодой поросли выгорела дотла, и теперь взгляд мог проникнуть далеко вглубь и приметить врага.
Тут старший соскочил с коня, бросил его, не глядя, и повалился на тёплый песок, утирая обеими руками пот, выступивший крупными каплями на лбу. Он устал, грудь его высоко вздымалась, лицо, которого он коснулся окровавленными пальцами, было все в крови.
Взглянув на него, мальчик в ужасе вскрикнул.
– Что ты, Герда? Или ты не мужчина? Или мать твоя ошиблась, не надев на тебя юбку и платок? Из-за капли крови так пугаться и поднимать шум?
Тогда мальчик показал на его лицо.
– Я испугался за вас, отец, а не за себя, – сказал он, – хотя у меня поршень полон крови. У вас все лицо окровавлено.
Старший посмотрел на свои руки и, ничего не ответив, засмеялся.
Между тем Герда, усевшись на землю, снял поршень и принялся его отчищать, потом протёр рану и приложил к ней древесную губку. Отец равнодушно поглядывал на него.
Потом молча достал из сумы сушёное мясо, лепёшки и разложил их на земле. Перед тем он сходил к реке, умылся и, зачерпнув пригоршней воды, попил. По его примеру и Герда поплёлся к воде. Молча сели они за еду… Лошади лениво паслись на скудной траве…
Из лесу вылетела сорока… повисла на сухом суку над головой старшего, склонилась к нему и застрекотала… Она казалась рассерженной, хлопала крыльями, подлетала все ближе… что-то кричала, как будто сзывая на помощь других. Подоспела на подмогу вторая, третья… Громко вереща, они то подлетали, то садились возле них. Наконец, рыжий, собравшийся вздремнуть, потерял терпение, натянул тетиву и выстрелил. Однако не подбил он ни одной: сороки с криком улетели; покружившись немного, они вернулись и снова застрекотали над ними. Герда сидел, подперев голову руками: он караулил лошадей. Небо было чистое, лес молчал, только роями вилась в воздухе и жужжала мошкара, ожившая под лучами солнца.
После короткого отдыха путники снова сели на коней. Отец обернулся к сыну.
– Там ни о стрелах, ни о крови, ни о чём ни слова… Лучше всего ничего не говори, будто ты немой. Они называют нас немцами, хотя мы понимаем их язык… Ты слушай, о чём они будут говорить, – это всегда пригодится, – но прикидывайся, будто тебе речь их неведома… Молчать – оно всегда лучше.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































