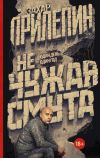Текст книги "Некоторые не попадут в ад"
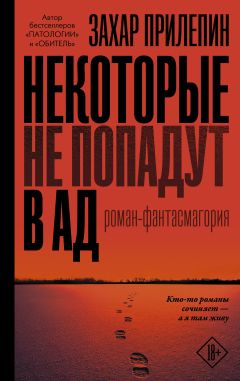
Автор книги: Захар Прилепин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Сделали разговор минут на пятнадцать, меня сфотографировали на передке в Коминтерново – мы тогда стояли там и на Новоазовской косе, – и: я предположить такого не мог.
У меня разрывался на части и рыдал от ужаса телефон (тогда российские операторы ещё ловились в Донецкой народной республике, потом Киев нас отрубил).
Дюжина информагентств молила меня об интервью, о съёмках, о подаренном им дне.
По мне долбили густым огнём все киевские средства массовой информации. Обо мне накатали множество новостей европейские медиа.
В российскую информационную сеть бросили пачку дрожжей и пачку тротила.
В ближайшие сутки тысяча неизвестных мне людей пожелали мне погибели.
Закрутились конспирологические мельницы!
Вдруг выяснилось, что батальон создали кремлёвские думские дьяки – с целью загнать в донецкие степи и перемолоть здесь всё российское отребье, или, как вариант, лучших сыновей нашей земли; зачем перемолоть, я забыл, но там выкладывались весомые доказательства.
Только тогда, в свои сорок, я вдруг с ликованием, плотно замешанном на омерзении, понял: мировые новостные ленты время от времени дают информацию, вообще не имеющую отношения к действительности.
Берётся один элементарный факт – и на него накручиваются километры трактовок, обоснований, допущений, интерпретаций… В моём случае все они – подчёркиваю, все, повторяю, все, – были лживыми.
Всё выглядело как горячечный бред сивой кобылы.
Батальон придумал я сам, ночью, за столом; предложил Захарченко, заманивая его вылазкой на чужую территорию, расширить подведомственный ему силовой блок ещё на один подраздел; подключился Томич – и тот официант с графином. Больше никого в этой истории не было.
Зато с каким упоением я наблюдал картину в российских верхах!
За информацией о моей службе в составе армии Донецкой народной республики средства массовой информации обратились в российское Министерство обороны. «Как так, значит, Россия всё-таки поставляет своих головорезов на Донбасс? А вы говорили: гражданская война! А у вас вот там что».
Минобороны, естественно: «Да мы вообще не знаем, кто это».
Учитывая то, что звонили им из трёхсот различных мировых медиа ежедневно, они там едва ли не внутреннее расследование затеяли: что за такое, где протекло, кто этот тип, за каким ведомством числится? – сейчас император спросит, а мы ни сном, ни духом.
Полетели косяком звонки в Донецкое министерство обороны. А там тоже не знают, кто я такой: полистали документы, – да, служит пятый месяц замполит в одном из батальонов, – а в чём дело-то? Кто где накосячил? Почему такой шум?
Три дня российские чиновники высшего уровня уворачивались от журналистов и от вопросов про некоего Захара, вдруг очутившегося на Донбассе с пистолетом на боку.
Прямо скажу: я сам не в курсе, и, более того, мне этого никто не говорил, но втайне догадываюсь, что ситуацию разрешил пресс-секретарь императора, зашедший к нему на третий день скандала с распечаткой самых шумных мировых новостей, и отдельно спросивший по поводу меня.
Император прочитал новость и пожал плечами: поехал и поехал, его дело.
– И всё?
– А что ещё?
– Да нет, ничего.
– Ну так давайте, что там у нас следующее: как Османская империя себя чувствует, что Персия, Абиссиния, не провалился ли в тартарары Старый Свет, не утянул ли Новый Свет за собой.
Пресс-секретарь вышел на люди и сообщил с улыбкой: вы спрашивали про этого парня на Донбассе – наша позиция такая: поехал и поехал, его дело.
В тот же день все ответственные люди в министерских рангах выдохнули, и на весь мир дали комментарии: поехал и поехал, его дело.
Мне Казак говорит, почему-то шёпотом: «Захар, в другой раз надо как-то подготовиться к таким событиям, – ты видишь, что творится!» Я отвечаю: «Саша, милый, а что будет в другой раз? В другой раз могут быть только мои похороны!» «Тьфу!» – сказал Саша и рассмеялся.
Вечером Захарченко дал свой комментарий: сказал, что батальон создан не мной, а Донецкой народной республикой в рамках пополнения личного состава народной армии; Донбасс давно ценит мою работу и знает меня только с лучшей стороны.
Батя и сам был озадачен. Он догадывался, что я чем-то известен за пределами Донецка, – но не знал, что до такой степени. Меня это устраивало: значит, он ценил меня не за какие-то прежние заслуги – а тем, каким увидел и узнал здесь.
Сам я месяц никаких интервью не давал, всё дожидался, когда это завершится, – но никак не завершалось.
Особенно дикой мне казалась убеждённость комментаторов (в ста случаях из ста – глубоко гражданских людей), что батальон возник – после репортажа о батальоне. Ведь если в медиа ничего об этом не было – значит, ничего этого и не было; явление происходит в момент щелчка фотоаппарата: щёлк – и целый батальон стоит на передовой, даже на двух передовых; щёлк – и все одеты, обуты, накормлены и вооружены.
И майор идёт по снегу с утомлённым лицом. Майор – это я.
Менять номер телефона я не собирался; я просто его вырубал; но, время от времени включая, тут же получал звонок, где вкрадчивый голос девушки, мастерицы переговоров с такого-то телеканала, предлагал мне: «Захар, а давайте наши корреспонденты с вами поживут? Они не станут вам мешать, просто снимут ваш день, неделю, месяц».
Отвечал со стоном: в Донецке много других батальонов – поживите с ними; не надо со мной, я привык жить один, у меня плохой характер, к тому же я много курю.
Полгода я не подпускал к себе ни одного журналиста.
Однако новости сами клубились надо мною: кто-то меня проклинал, кто-то развенчивал, кто-то бился в падучей; иностранные издательства отказывались издавать мои книжки, написанные до войны, – причём даже те издательства, что никогда не издавали меня; отдельные суверенные страны запрещали мне въезд на их территорию – хотя я никогда там не был, и даже не собирался; забавнее всего было со страной нашего несчастного неприятеля, где вдруг заметили, что мои старые романы лидируют у них в списках продаж; не знаю уж, как там справились с проблемой, но как-то справились, наверное.
Прежде у меня были ровные отношения с местными командирами; половину из них я знал.
Теперь многое приобрело странный привкус.
Как-то сидели у Трампа, он обмывал свой орден; меня усадили рядом с одним усатым комбатом, мы нормально говорили, – но с какого-то момента, после одиннадцатой, к примеру, рюмки, он посчитал мне нужным сообщить: «…а я не пиарюсь».
Забыл, к чему он это сказал. Скорей всего, ни к чему.
Я посмотрел на него и смолчал. До этой минуты мы хорошо общались, чего переспрашивать у него всякие глупости.
Ещё пять рюмок он залил в себя и говорит: «…а я не пиарюсь».
Я говорю: «Братан, а ты попиарься, кто тебе не велит?»
Он: «Мне этого не надо».
Я: «Если не надо, зачем ты об этом говоришь?»
Он стал смотреть на меня. Я выловил мокрою метёлку петрушки с большого блюда и начал жевать, глядя на него.
Наконец он ответил: «Я не о тебе».
Я, вытащив петрушку изо рта и держа стебелёк вертикально: «А про кого?»
Он продолжил смотреть на меня.
Я говорю: «Что ты смотришь? Вообрази на миг, что ты решил стать известным. Расскажи мне, как ты это будешь делать? Кто приедет тебя спрашивать о том, что ты думаешь? У тебя есть какая-то важная мысль, которую ты хочешь рассказать миру? Скажи эту мысль мне, я проверю её на вес».
И он – умный оказался, спасибо ему, – нисколько не обиделся.
Выдохнул, и: «Никто не приедет, – сказал неожиданно. – Мысли никакой нет. Ты прав».
На тот вечер мы подружились.
Больше я его не видел. Ничего о нём не знаю. Он не пиарится.
Но мне – мне было проще тогда; за мной стояло что-то большее, чем я сам, – комментарии пресс-секретаря императора, дружба с отцами республики, какие-то зримые и незримые силовые линии; не знаю, говорили ли обо мне что-то за глаза, – но в глаза все улыбались; а если кому-то пришло бы в голову не улыбнуться – я бы подрезал этого человека на жизненном повороте, и поморгал бы задними габаритами, уезжая вперёд: извини, не помню как зовут тебя, но мне надо быстрее…
Томичу в этом смысле приходилось трудней.
Если б не было меня – он жил бы себе и жил, как обычный комбат, среди многих других комбатов, которые жили как жили.
Но он оказался командиром «батальона Захара» (что само по себе было странноватым: командир – он, а батальон – «мой») – и на этот батальон, сколько журналистов ни гоняй, были направлены надоедливые софиты, а всякое наше батальонное видео тут же отправлялось на экспертизу к независимым ни от чего, кроме собственной шизофрении, экспертам: «…что это за окопы? что это за блиндажи!», – тут поневоле завоешь.
У Томича, догадываюсь, был лёгкий невроз – неотвязчивая форма усталости от того, что он должен постоянно что-то доказывать. Остальные – командовали своими батальонами, а он командовал и дополнительно что-то доказывал сразу всем наблюдающим.
За месяцы и годы на Донбассе я видел даже не сосчитаю сколько комбатов. Среди них были сбежавшие на час-другой из детской книжки про героев – пока их не убили, загнав обратно под обложку: небывалые, красивые, покоряющие, – короче, не чета нам с Томичом; были хваткие, крепкие, рабочие командиры – мы могли с ними, если так уместно говорить, «конкурировать»; были, наконец, и те, кто вообще гасился где-то по тылам, их я тоже знал, – но медалей и орденов они иной раз имели как половина генсека Брежнева, – вопрос только в том, что никому до них не было дела.
Линия фронта большая, тыл вообще необъятный – кто там за кем уследит.
Зато слишком многим было дело до того, что происходит у Томича. Он тащил мою известность на себе, как колодку: да, в наш бат везли больше «гуманитарки» – снаряги, сухарей, снадобий, – чем кому бы то ни было, да, к нам всегда была очередь из желающих послужить у нас – в то время, как в половине подразделений в штатке были дыры величиной с кулак на листе А4. Но иной раз, я Томича понимаю, ему хотелось сказать: да пошли вы все нахер! – пусть очередь в бат иссякнет, пусть подарков не подвезут, – только б желание его осадить, подсидеть, спихнуть у некоторых да поиссякло.
Мне проще было не обращать внимания на эту суету – прыгнул в «круизёр», уехал, и вот уже сижу с Батей: никто не подступится, только облизываются, и запоминают на потом, – а Томич оставался с этим наедине; на нём была вся полевая работа: грязная и повседневная, с отягощающими обстоятельствами.
На Донбассе я обнаружил, что военная среда – в некоторых (отдельных, но настойчивых) случаях – обладает, помимо всех тех удивительных черт, о которых не раз говорил и скажу потом, типично женскими чертами; ну, по крайней мере, теми, что традиционно навешивают на женщин: много сплетен, склочничества, пересудов, зависти, откровенного вранья.
Томич хотел всего этого бежать, хотел любого дела. Он каждое утро просил, чтоб я устроил батальону самый опасный участок фронта. И куда б наш батальон ни загоняли, Томич тут же искал возможности врасти в землю: узнать всё и обо всём, разработать планы на все предполагаемые случаи, а также на все случаи исключительные.
Томич работал куда больше меня.
Я гордился Томичом.
Ему было сложно.
* * *
За многие месяцы Пантёха надоела уже; а с другой стороны, как пришла пора её оставлять – дрогнуло сердце.
Эх, Пантёха, дачный наш посёлок, вишни мои черешни.
Помню, как заехали туда, и местный поселковый распорядитель показал мне домик, в который можно заселиться. Коробчонка, пихни плечом – упадёт, зато в два фанерных этажа.
«Хозяин – из бандитов, – шепнули нам. – В Киеве. С инсультом в больнице лежит. Больше не вернётся, наверное».
Так себе бандит, конечно, судя по домику, – но нам много и не надо было.
Испытал тогда новые эмоции.
Я не о том, что мне было странно забраться в чужое жильё и жить там. Батя пообещал нам танковый прорыв, – в случае прорыва от этого посёлка щепки на щепке не осталось бы, – никакие раскаяния совести меня не мучили, и больше не спрашивайте об этом.
Ощущение было – сродни детскому мультфильму, где убежавший из дома пацанчик, собака, кот, ещё какая-то живность приехали в деревню и заняли пустующий дом.
Граф, походя, чуть ли не пальцами, сорвал замок на сарае. Там было всё нам необходимое: лопаты, топоры, молотки, гвозди, гвоздодёры, рубанок, даже плёнки рулон.
Личка вырыла во дворе укрытие, заложила досками, парой бревён, накрыли плёнкой, сверху уложили мешками с песком: получилось что надо.
Ещё в сарае нашлись мангал и огромный чан. В первый же вечер я сгонял на Пантёху – пока не закрылся сельский магазин – за мясом, за специями, за хлебом, за крупой, за овощами. Тайсон был прирождённым поварёнком, он восхитительно готовил, – вечером у нас был ужин всем на зависть.
Но этому предшествовало исследование дома.
Происходящее Графа и Тайсона, особенно Тайсона, по-пацанячьи веселило.
«Брат, – с почти мурлыкающим удовольствием в голосе говорил Тайсон, озираясь в коридоре домика, – да я в тюрьме сидел, я знаю, что где прячется».
Граф прошвырнулся по этажам, вышел: «Да ничего тут нет, Тайсух, только посуда да одеяла с подушками».
Тайсон, едва не подвывая от удовольствия, шарился там – и каждые пять минут являлся с находками. Бинокль. Газовый пистолет. Набор презервативов. Потом домашние альбомы.
Я стал разглядывать: а реально бандит. Симптоматичное лицо.
У бандита оказались специфические наклонности: он любил фотографировать своих девушек в голом виде; они позировали с видимым удовольствием. Я немного посомневался: не слишком ли дурно поступаю, – понятно было, что дурно, – но досмотрел, конечно, лениво оправдывая себя тем, что – а вдруг он сам где-то сфотографирован со стволом, с бандеровским флагом, в компании, например, Яроша, – это дало бы всему происходящему иную подсветку; можно было бы какие-то выводы сделать – впрочем, какие?
Яроша не было на фотках. Девки почти все оказались хороши; с некоторой даже обидой я думал: и чего они нашли в этой звериной, с поломанным носом, роже. То и нашли.
Венчал всё его позёрский снимок с пистолетом Макарова в руке. Значит, пистолет был.
Я показал пацанам и пистолет Макарова на фотке, и девок – на других фотках.
Граф картинки с девками бегло, секунды за три, веером пролистнул и скривился, как будто зуб прихватило.
Тайсон удивился на пистолет, на девок равнодушно хмыкнул, даже пару страниц не отлистал; и тут же пошёл искать ПМ.
Потом я эти альбомы положил на видное место: неужели, думаю, так и не потянутся на голое женское мясо полюбоваться? Не-а, даже не притронулись.
Убрал альбомы в шкаф. Так они там и валялись, никому не нужные.
Граф разобрал и разделил поровну подушки и покрывала; они с Тайсоном определили себя на второй этаж, меня положили на первый – он безопасней.
Я спал всю ночь, если ночь позволяла спать, а они – по очереди: один всегда дежурил внизу, на скамейке у входа.
В первый же вечер я улёгся и почувствовал себя дома. Видимо, у меня тяга к неведомым, затрапезным, чужим, пропахшим чужой жизнью углам.
Подушки я узнал по фотографиям: как минимум три из запечатлённых девок на них спали.
Я должен был испытывать – что там? стыдливость? гадливость? – а я лёжа ел вишню: Граф нарвал, принёс в ковшике; и ещё вымытую пустую тарелку, чтоб я косточки сплёвывал.
Едва темнело, начинались перестрелки; поначалу, пока обживались, мы смотрели на работу соседей: небо общее, в небе много интересного можно рассмотреть.
Граф на слух определял, из чего стреляют, точно по секундам говоря, когда будет взрыв после выхода, – он разбирался в этом лучше меня; в него стреляли из всего, в меня – нет.
Когда бат обжился и мы начали бить со своих позиций – начало прилетать в ответку; в посёлок они старались не попадать, но не всегда получалось.
Пару раз лениво спускались в укрытие, курили там, посмеивались. Вылезали, отряхивались.
Вскоре совсем обвыклись: если накидывали далеко – я спал, разве что берцы не снимал, ну и, естественно, не раздевался. Если ровно в домик не упадёт, а прилёты начнутся хотя бы с других дворов, – Граф точно успеет меня растолкать, выдернуть, выволочь.
Хорошо, когда есть, кому довериться.
По утрам иногда заходили в гости другие бойцы – но, блюдя субординацию, не открывали калитку, а приветствовали с дорожки: доброе утро, отцы! – мы им: доброе!
Притаскивали нам свежей рыбки – у посёлка обнаружился ставок. Рыбку мы жарили.
Поселковый распорядитель заглянул к нам, спрашивает:
– А вы комбат?
– А что?
– Нет, просто спросил.
Граф посмотрел на него так, что я понял: ещё вопрос, и дядьку могут прямо здесь закопать за любопытство.
Распорядитель вернулся через два часа и говорит:
– Я хозяину дома дал поиграть домино, а он не вернул. Отдадите мне? – я кивнул: отдайте; Тайсон нехотя передал. – И шахматы, – вдруг вспомнил распорядитель. – Это мои.
– Диван не давал? А то я вынесу, – сказал Тайсон с угрозой.
По всему было видно, что распорядитель врёт, но шахматы тоже отдали. Мы не играли в шахматы.
Потом у нас пошли трёхсотые – один другого тяжелей, много, я начал считать, сбился; потом один умер в больнице.
Операция прорыва из Пантёхи на Троицкое должна была готовиться в режиме секретности. С другой стороны: ну а как соблюдать этот режим? Мы же не втроём с Томичом и Арабом будем выдвигаться.
Сообщили Домовому, нарисовали ему для разведвзвода задач; на самом деле, численность там – отделение, девять человек, но числится как взвод. Девять человек что-то поняли.
Миномётчикам сообщили – в миномётке было тринадцать человек на четыре миномёта. Значит, миномётчики тоже осознали отдельные вещи.
Девять человек работали с «вундер-вафлями»: им аккуратно поставили задачи, куда они будут в следующий раз запускать свои ракеты.
Начсвязи, зампотыл тоже обо всём по косвенным признакам догадались. Командиров рот прямо оповестили.
К вечеру знало сто человек, на следующий день – весь батальон, на третий – жёны, дети.
На четвёртый – нас срочно сняли с Пантёхи.
Московские смотрящие переиграли нас, работа их такая: мирные соглашения, то-сё. Император велел соглашения исполнять – значит, так тому и быть.
Думаю, разговор был короткий: «Есть информация, что батальон этого самого Захара собрался в Троицкое заходить». – «Уберите их оттуда к чертям!» – «Они Захарченко подчиняются». – «Ну, придумайте причину, чтоб у него не было вопросов».
Приказом Минобороны ДНР нас перевели на более опасный участок линии соприкосновения: триста метров до нашего несчастного неприятеля, каждый день перестрелки. Тут мы делали что хотели, там с нами будут делать что хотят.
Но не будешь же отказываться, – а то растаращат глаза, да как крикнут: «Вы что, струсили?! Да мы Главе доложим!».
Перед отъездом навели порядок в нашем домике, даже подмели. Замки навесили на место, Граф скобы самолично прикрутил, сделал крепче, чем было.
Хозяин, если вернёшься, – у поселкового начальника твои шахматы и домино. Девки в шкафчике. Брюнетка самая красивая. Вряд ли ты сможешь с ней после инсульта.
Один топор мы у тебя забрали. Больше ничего.
Если всё растащили и свалят на нас – не верь. ПМ не нашли. С собой увёз?
* * *
В связи с новым передком озаботились тем, что осталось в багажнике.
На всякий выезд мы закидывали в «круизёр» свои идеально собранные «эрдэшки», запас пожрать, запас б/к: тугие бумажные пачки, такие опрятные, всегда напоминающие что-то школьное, что-то с уроков труда, сами патроны – праздничные, золотые, приятно их перебирать в пальцах, хочется всё время из них выложить какое-то слово, или несколько слов: «Я люблю тебя, Украина», или там «Хохол, сдавайся», – про хохла даже лучше: буква «Х» отлично получится из четырёх патронов; хотя нельзя, конечно, – Тайсон, к примеру, считает себя украинцем; многие в батальоне считали себя украинцами и воевали за Ковпака против Шухевича, за Махно против Петлюры, за Богдана Хмельницкого против Ивана Выговского, наконец, за князя Святослава, русича, праотца нам всем, из чёрного чуба которого шарлатаны, взявшие в осаду мать городов русских, надёргали волос и колдовали на манер старика Хоттабыча: «Русня, русня, чур меня, чур меня!..»
…гранаты, патроны, у каждого, кроме того, было по шесть магазинов, и даже летом – тёплую одежду брали. Всегда при себе были: лопата, верёвка, проволока, «кусачки», множество всего; да, топор вот новый появился – прежние два раздал по ротам, когда обустраивали позиции на Пантёхе.
Заступили на дежурство Шаман и Злой.
Шаману было 48, он всю жизнь жил один, хотя, вру, некоторое время при нём вроде существовала девушка из ВГИКа, режиссёр, но с ней тоже расстался; он переработал в половине сначала милицейских, а потом полицейских спецназов, – но на дядю милицанера или на айн-цвай-полицая так и не стал похож; он был именно что спецназовец: быстрый, хоть и чуть нарочито – в движениях – внимательный, наблюдательный, собранный, и в смысле комплектования запасов – самый прошаренный из нас.
Рюкзак, с которым он приезжал на Донбасс (он приезжал и уезжал сообразно внутренним ритмам; бесконечность конфликта позволяла так себя вести: отбыл на полгода, вернулся, тут то же самое, даже линия соприкосновения на том же месте, разве что похоронили кое-кого, но это дело житейское), весил, казалось, килограмм четыреста, и там наличествовало всё для кругосветного путешествия с заездом на Марс.
Позывной у него был, думаю, данью памяти увлечения всякими такими практиками – сибирскими, африканскими, индийскими; сейчас ничего подобного я за ним не замечал; да и когда б заметил – не огорчился.
Он был, как собственный рюкзак, крепко, укладисто собран из войны, чёрно-белого романтического кино эпохи веры в идеалы, отдельных советских идеологем, вынесенных из пионерии и аккуратно сохранённых, – бумага пожелтела, шрифты незнакомые, но слова понятны, – бесчисленных книжек в жанре научной фантастики (Стругацкие, конечно, – но вообще имена, которыми он жонглировал, были неизвестны мне); да, вспомнил, я как-то спросил у Шамана, любит ли он песни Гребенщикова, – он задумчиво, словно перебирая старые чётки, перечислил десять-двенадцать наиболее важных для него альбомов (надеюсь, вы понимаете, к чему я это); в другой раз я рассказал Шаману вкратце о том, как Гребенщиков поёт в Киеве «…до счастья было рукой подать, но всё испортили сепаратисты», и зал воет от восторга, – Шаман подумал минуту и сказал: «Не знал. Неожиданно. Включи ещё раз “Теперь меня не остановить”, хорошая песня», – мы ехали в машине, мелькали донецкие виды; больше этим вопросом мы не огорчались; Гребенщиков так и пел время от времени в машине, в том числе про сепаратистов, которые вечно всё портят; но втайне я думаю, что Шаман больший буддист, чем некоторые.
Каждое утро в свои выходные Шаман бегал в парке за «Прагой» какое-то неимоверное количество километров – я столько не пробегаю за год, за три года тоже не пробегаю; естественно, он не курил, выпивал – только пиво; чуть захмелев, становился спорщиком, спорил на любую тему; вообще по типу он был педант, перфекционист.
Женщин, которые не смогли с ним жить, я понимаю. Но, понимая это, я думаю: а с кем им ещё жить, как не с Шаманом, – более надёжного, более внимательного, более мужественного человека и вообразить нельзя. И по-своему красивого: глубоко прорезанные морщины на небольшом, тёмном, будто немного пропечённом, лице; он походил на высокоразвитого кроманьонца.
С вида Шаман был строгим, улыбался мало, казался нелюдимым.
Но главное про них я разгадал уже – и про Графа с Тайсоном, и про Шамана со Злым, и даже про Араба: все они, проведшие в зоне антитеррористической операции в качестве террористов месяцы и годы, вышколенные бойцы без страха и упрёка, стреляющие без рассуждений, на самом деле – ласковые дети; в каждом хлопал глазами ребёнок, которому однажды были обещаны тепло, защита, любовь навсегда, справедливость, верность, – а потом ребёнок пополз, пихая ещё мягким лбом возникающие преграды, привстал, цепляясь за всё подряд, побрёл вдоль стеночки, ища равновесие, вдруг оттолкнулся, оказалось, что можно стоять, держась за воздух, и решительно вышел на одиночную прямую, – меж предметов, пороков, порывов, – а обещанного всё не давали, – а разувериться в этом не было сил: зачем тогда полз, шёл, бежал, какой в том был смысл.
Значит, надо было найти, вылепить, отстоять когда-то обещанное, не забыть в себе дитя, защитить его. Дитя хлопает глазами. Оно ждёт чуда.
Злой вообще происходил из многодетной семьи; смеясь своим неподражаемым, очаровательным хохотком, рассказывал, как в раннем детстве хотел ночами спрятаться к матери под бок, – приходил к родителям, говорил маме: «Можно я тут посплю? Мне страшно», – на что мать спокойно отвечала: «Ты меня должен бояться», – семь детей, сами понимаете, если все они так будут ходить – когда жить, когда спать.
Отец его и мать имели высшее образование, но сам Злой учиться не любил.
«Злой, – спросил, – как ты вообще школу закончил?» – в ответ на его признание о том, что когда мы с Шаманом разговариваем, ему кажется, будто мы говорим на иностранном языке.
Злой отвечает: с класса пятого школа гоняла его на соревнования по всем видам спорта, он выступал и за свой возраст, и за старшие классы, и как угодно; привозил медали – ему прощали всё остальное.
Потом вдруг выяснилось, что Злой ещё и отменный организатор: все школьные праздники делал он; вылетали шары, взрывалось конфетти, Снегурочка садилась на колени к волной покрасневшему директору, хор мальчиков-зайчиков из числа самых отъявленных хулиганов запевал свою хоровую, учителя вытирали слёзы…
С началом войны родители Злого вывезли из Луганска всю семью в Россию, в Казань. Он тут же разработал план и, надыбав денег, сбежал обратно на Донбасс; шёл 2014-й.
И полез сразу – шестнадцатилетний пацан вообще без опыта – в самое элитное спецподразделение, где проходка была – жуть; но со второго раза всё сдал, с оружием быстро разобрался, что и как; он вообще состоял наполовину из природной смекалки; на другую половину – из очарования, замешанного с пацанским цинизмом, и, странно, добротой. Так тоже бывает.
Злым его прозвали, когда они взяли в плен наёмника-негра – конечно же, американского, а не африканского; негр справлял нужду, и был пленён. Пока его вели, Злой, видевший живого чернокожего впервые, дал ему штук тридцать не столько болезненных, сколько весёлых и обидных оплеух.
«Вот ты злой», – посмеялись ополченцы. Так и приклеилось.
Заботливей его я, со времён своего детства, никого не знал: Злой всегда сёк, чего у меня не хватает в «эрдэшке», и, не успею подумать, – закупал, находил, укладывал; за ужином вспомню: так, бойцы, то пожгли, это отстреляли, остальное сожрали… – Злой, тихим твёрдым голосом: «Всё лежит, Захар, всё лежит уже»; утром выйду – у меня то берцы на батарее, то перчатки… Иной раз чуть не расплачешься. Или ухмыльнёшься: вот ведь, родятся такие на свет – чтоб меня раньше времени разочарование в человечестве не прибило.
Любимой поговоркой Злого была: «Сложные задачи решаются немедленно, а невыполнимые чуть позже», – произнося это, он всякий раз бесподобным образом хохотал.
Шаман и Злой проявляли себя во всей красе, когда в очередной раз большие люди по секрету мне сообщали: «Захар, телефон выключен?» – «В машине оставил». – «Пятнадцатого октября (февраля, мая, июня) – наступление». – «Наше?» – «Наше».
А то вдруг не наше. Вдруг их наступление, а наше отступление. Тут важно не перепутать.
Довольный донельзя, я шёпотом сообщал своим новость, весть.
Шаман кивал: наконец-то. Злой вскакивал с табуретки и, потирая руки, по-щенячьи переливчато ликовал: «Отлично! Отли-и-ично! Нас-ту-пле-е-е-ение!»
Как будто я всем небывалый праздник пообещал.
Злой сиял и внутренне пританцовывал – ямочки на ещё припухших по-юношески щеках проявлялись; девушки при виде его таяли – а он таял, слыша такие известия.
Самое удивительное, что Злой успел крутануться в Луганске и открыть там свою мойку, – в семнадцать лет! – ему капали понемногу деньги, он вообще мог не воевать, а только ходить из клуба в клуб и подмигивать там, кому надо подмигивать.
– Не, – говорил. – Я не хочу. Неинтересно.
(Зацепил как-то милейшую блондинку, провёл с ней выходные, был очень доволен, провёл ещё выходные, и, вижу, сидит в машине недовольный, – я спрашиваю: «Чего?» – он: «Только ухожу – она мне пишет через пять минут смску: “Я скучаю”, и каждые пятнадцать минут: “Я скучаю, я скучаю, я скучаю”. Что мне ей отвечать? А я не скучаю, я на работу хочу». И больше не пошёл к ней.)
На другое утро после получения известий мы приступали к составлению списков.
– Так, – говорил Шаман деловито, доставая карандаш и блокнот.
О, это был чистейший Жюль Верн. Это была подготовка к приключению, к путешествию, к делу всей жизни.
Помните, как у Жюль Верна? – примерно, кажется, так: инструменты, предназначенные в поездку, были следующие: два барометра, два термометра, два компаса, два хронометра, альт-азимут для наблюдения за далёкими и недоступными предметами, – далее чай, кофе, сахар, соль, крупы поимённо, сухари, солонина, двадцать два галлона спирта.
И ещё на полстраницы перечислений: ваш Жюль был маньяк, господа.
Но дети любят порядок, детям нравится определённость.
У нас было не примерно, а именно так, как у Жюля.
Мы отправлялись закупаться.
Я смотрел, как заполняется багажник. Как ловко Шаман и Злой всё укладывают.
Мы находили канистры – оказывалось: редкость, мало где продаются, – заливали их дизелем («круизёр» был дизельный); должно было хватить до Киева, даже если б пришлось стоять в пробках: мало ли желающих попасть в Киев.
Чай, кофе, сахар, соль, крупы поимённо, сало, сухари и, предмет моей личной заботы, две пластиковых пятилитровых ёмкости домашнего коньяка – жена одного из наших офицеров заготавливала, – чтоб не искать палёную водку, которую всё равно будем искать, чтоб своё ждало в багажнике, ласково поплёскиваясь; консервы ста наименований: при случае могла не только личка перезимовать, скажем, в шахте, но и целый батальон протянуть недельку; проверялись и дозакупались очистители воды, свечи, сухое топливо, фонарики, батарейки всех видов, зажигалки, спички, ложки, кружки, фляжки, вилки, ножи, ножницы, нитки, скотчи, изоленты; носков было столько, словно мы сороконожки, по две пары тактических перчаток, с пальцами и без пальцев, – Шаман, впрочем, без пальцев не признавал, считал пустыми понтами.
Лекарства: если я заболею, я к врачам обращаться не стану, обращусь я к Шаману, не сочтите, что это в бреду, – потому что Шаман был готов переболеть всем, перечисленным в медсправочнике, и затравить любую заразу, не покидая окопа: окопные вши, горячка, «белочка», расстройство психики, желудка, печени, почечная недостаточность, камни в почках, в мочеточнике, куриная слепота, осколочные, колото-резаные, внутренние, внешние, лёгкие, несовместимые с жизнью на земле, с половой жизнью, с интеллектуальной жизнью ранения, насморк, кашель, коклюш, колики, – и так далее вплоть до буквы «я»; скажем, язва: её можно обезболить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?