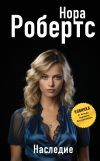Текст книги "Я исповедуюсь"

Автор книги: Жауме Кабре
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Я тоже хочу пойти! – кричит Роза.
– Нет.
– А мне можно?
– Да.
Роза отходит обиженная, потому что Адриа, хотя он и младше, может пойти, а она – нет.
– Это не очень приятное зрелище, дочка, – утешает ее тетя Лео.
А я пошел смотреть, как Пруденси засовывает сначала кулак, а потом и всю руку внутрь коровы по имени Бланка и говорит что-то, а дядя с Щеви записывают это на бумажку. Бланка при этом стоит с совершенно безучастным видом.
– Смотрите, смотрите, смотрите, она сейчас пописает! – возбужденно кричит Адриа.
Мужчины отодвигаются, не переставая говорить о своем, а я внимательно смотрю, потому что наблюдать из партера за тем, как корова опорожняет кишечник или мочевой пузырь, – это одно из наибольших удовольствий, которые доставляла мне Тона. И еще смотреть, как пускает струю Паррот – мул из усадьбы Казик. Это очень здорово – входить в контакт с жизнью напрямую, поэтому я считаю, что дядя поступает с бедняжкой Розой несправедливо. А еще здорово – ловить головастиков в речке, на берегу Клот-де‑Матамонжес. И вернуться с уловом из восьми или десяти жертв в стеклянной банке.
– Бедные животинки!
– Нет, тетя, я буду их кормить каждый день.
– Бедняжки!
– Буду давать им хлеб, честное слово.
– Бедные животинки!
Я хотел посмотреть, как они превратятся в лягушек, но они превратились, конечно же, в мертвых головастиков, потому что мне и в голову не приходило менять им воду в банке и я не знал, чем их кормить. А еще птичьи гнезда под крышей дома. И внезапные грозы. И самое впечатляющее событие – молотьба в усадьбе Казик: тогда уже использовали не цепы, а специальные машины, отделявшие зерно от соломы. Я помню, как летела соломенная труха. И я, Адриа Ардевол, был в Аркадии. Никто не может отнять у меня эти воспоминания. Сейчас я думаю, что тетя Лео и дядя Синто были очень хорошими людьми, доброй закваски, потому что ссора между братьями почти ничего не изменила. С той ссоры прошло много времени. Адриа еще не родился. Я знаю, что тогда произошло, потому что, когда мне исполнилось двадцать лет, я, чтобы не торчать летом в обществе мамы в Барселоне, решил три-четыре недели погостить в Тоне. К тому же я грустил, потому что Сара, с которой мы встречались втайне от наших семей, уезжала с родителями в Кадакес[158]158
Кадакес – город недалеко от Жироны, место отдыха состоятельных людей и художественной элиты во второй половине XX в.
[Закрыть]. И мне было совсем одиноко.
– Что значит «если позволите»? Никогда больше так не говори! – отругала меня тетя Лео по телефону. – Когда ты приедешь?
– Завтра.
– Твоих братьев сейчас нет. Точнее, Щеви есть, но он целыми днями на ферме.
– Представляю.
– Жузеп и Мария из усадьбы Казик умерли этой зимой.
– Ох!
– И Виола умерла от тоски. – Тишина на том конце провода. И, словно утешая, тетя прибавила: – Они были уже очень старые, оба. Жузеп ходил согнувшись в три погибели, бедняга. И собака тоже была очень старая.
– Мне так жаль…
– Привози скрипку.
В общем, я сказал маме, что тетя Лео пригласила меня и я не могу отказаться. Мама не сказала мне ни «нет», ни «да». Мы держались друг от друга на расстоянии и почти не разговаривали. Я проводил дни, учась и читая, она – в магазине. А когда была дома, то в ее взгляде было ясно видно обвинение – что из-за дурацких капризов я оставил блестящую карьеру скрипача-виртуоза.
– Мама, ты слышишь меня?
Было понятно, что в магазине, как всегда, какие-то проблемы, о которых мама не хочет говорить. Поэтому, не глядя на меня, она лишь обронила: привези им что-нибудь.
– Что именно?
– Не знаю. Что-нибудь, сообрази сам.
В первый же день в Тоне, засунув руки в карманы, я отправился в деревню – искать это «что-нибудь» в магазине Бердагера. И увидел ее на главной площади за столиком в заведении Рако. Она пила орчату[159]159
Орчата – популярный в Испании и Каталонии напиток, приготовленный из толченых клубней земляного миндаля (чуфы), воды и сахара.
[Закрыть] и с улыбкой смотрела на меня – словно ждала. Господи, как я испугался! В первые секунды я не узнал ее, но потом – оп! – и вспомнил, кто это. Узнал эту улыбку.
– Ciao! – сказала она мне.
Тут уж не узнать ее было нельзя. Она уже не была ангелом, но сохранила ту же ангельскую улыбку. Сейчас передо мной была зрелая и очень красивая женщина. Она сделала мне знак присаживаться рядом, что я и сделал.
– Мой каталанский все еще lacunoso[160]160
С пробелами (ит.).
[Закрыть].
Я ответил ей, что мы можем говорить по-итальянски. Тогда она спросила: caro Adrià, sai chi sono, vero?[161]161
Дорогой Адриа, ты ведь знаешь, кто я? (ит.)
[Закрыть]
В тот день я не пошел в магазин Бердагера и ничего не купил тете Лео. Сначала мы сидели за столиком – она пила орчату, а Адриа сглатывал слюну. Она без остановки болтала и рассказывала то, чего Адриа не знал или делал вид, что не знает. Мне было что послушать: дома об этом никогда не говорили. Это она на главной площади в Тоне рассказала, что мой ангел и я – брат и сестра.
Я смотрел на нее в замешательстве. Впервые мне сказали это прямо. Она догадалась о моих чувствах.
– È vero[162]162
Это правда (ит.).
[Закрыть], – подтвердила она.
– Прямо как в фильме каком-то. – Я хотел скрыть смущение.
Я не испугался, нет. Я прикинул, что по возрасту она могла бы быть мне матерью, однако была моей единокровной сестрой. Она показала мне свидетельство о рождении (или что-то подобное), где мой отец признавал отцовство некой Даниэлы Амато. То есть ее (согласно паспорту – она и его мне показала). В общем, она меня поджидала со всеми необходимыми документами. Обо всем этом я догадывался, но не знал наверняка, ведь никто мне ничего не говорил. Я, единственный сын по определению, внезапно обрел взрослую сестру, очень взрослую. Я чувствовал себя обманутым – отцом, мамой, Лолой Маленькой с их секретами. И мне было очень жаль, что шериф Карсон ни разу не намекнул мне. Сестра. Я снова принялся ее рассматривать. Она была такая же красавица, как и в тот день, когда предстала передо мной в образе ангела, но теперь это была дама сорока шести лет и моя сестра. Мы не играли с ней длинными тоскливыми воскресными вечерами. Она не ходила с Лолой Маленькой и ее подружками на Рамблу, чтобы хихикать, прикрывая рот ладошкой, каждый раз, когда на них посмотрит какой-нибудь мальчишка.
– Но если тебе столько же, сколько моей маме… – сказал я.
– Немного меньше. – Я заметил, что в ответе просквозила нота раздражения.
Ее звали Даниэла. И она сказала, что ее мама… она рассказала мне прекрасную историю любви. Я не мог представить себе влюбленного отца. Я молчал и только слушал, слушал. Слушал и пытался представить все это. Не помню, как рассказ вышел на отношения двух братьев. Отец, прежде чем поступить в семинарию в Вике, научился как следует и сеять зерно, и обмолачивать, и осматривать мулицу Эстрелью, чтобы знать – забеременела ли она наконец. Дедушка Ардевол учил сыновей правильно запрягать мула и понимать, что если облака темные, но идут от Кольсуспина, то дождя точно не будет долго. Дядя Синто, старший брат и будущий наследник, с большим удовольствием занимался хозяйственными делами по усадьбе. Напротив, наш отец вечно витал где-то в облаках да читал, устроившись где-нибудь в углу, прямо как ты. Родители, несколько разочарованные, отправили его учиться в Вик в семинарию, хотя им, вопреки его явной незаинтересованности, все-таки удалось сделать из сына наполовину крестьянина. Но он рвался учить латынь, греческий и все, что ему преподавали учителя. В семинарии витал дух Вердагера[163]163
Жасинт Вердагер (1845–1902) – один из классиков каталонской литературы. Национальный каталонский поэт, автор эпических поэм «Атлантида» и «Каниго». Был священником, окончил семинарию в Вике.
[Закрыть], и каждые два из трех семинаристов пытались писать стихи. Но наш отец – нет, он хотел посвятить себя изучению философии и теологии.
– Откуда ты все это знаешь?
– Мне рассказывала мама. Наш отец в молодости был большим болтуном. Это уже потом он закрылся, как сложенный зонтик, превратился мумию.
– А что дальше?
– Его послали учиться в Рим, потому что видели, что он очень способный. Там мама от него забеременела, он сбежал, и родилась я.
– Черт возьми! Просто фильм какой-то!
Даниэла, вместо того чтобы обидеться, широко улыбнулась и продолжила рассказ: потом твой отец поругался со своим братом.
– С дядей Синто?
– Иди ты в зад с этой идеей! Не женюсь я на этой девке! – со злобой сказал Феликс, возвращая фотографию.
– Тебе даже делать ничего не придется. У них на ферме все как само идет. Я все разузнал. Так что женись, и ты сможешь и дальше копаться в своих книгах. Какого рожна тебе еще нужно?
– С чего это ты так хочешь видеть меня женатым?
– Меня просили поговорить с тобой родители. Раз ты не стал принимать сан… тогда женись, как все люди.
– Но ты-то сам не женат! Вот и…
– Но я это сделаю. У меня есть на примете…
– Словно речь идет о корове!
– Ты все равно меня не обидишь. Мама знала, что тебя сложно будет убедить.
– Я женюсь тогда, когда мне приспичит. Если вообще женюсь.
– Можно подыскать тебе другую девушку, покрасивее, – сказал Синто, пряча черно-белую фотографию девицы из семейства Пуч.
Тогда наш отец очень сухо сказал, что хочет получить деньгами свою долю наследства, потому что собирается обосноваться в Барселоне. Вот тут и начались крики, оскорбления, обмен ранящими, как камни, словами. Братья смотрели друг на друга с ненавистью, но до рукоприкладства дело не дошло. Феликс Ардевол получил свою долю деньгами, и потом они не общались несколько лет. По настоянию Лео наш отец приехал на ее и Синто свадьбу. Но и после этого они жили каждый сам по себе. Один – покупал землю в кредит и выращивал скот, другой – растрачивал полученные деньги на таинственные вояжи по Европе.
– Что ты имеешь в виду под «таинственными вояжами»?
Даниэла громко втянула последние капли орчаты и ничего не ответила. Адриа пошел к стойке – расплатиться. Вернувшись, он сказал: почему бы нам не прогуляться немножко? А Тори Рако, вытирая тряпкой стол, скорчил физиономию вроде: аппетитная штучка эта француженка, мать ее…
Даниэла стояла перед ним в черных солнцезащитных очках, которые придавали ей вид очень современный и неизбежно иностранный. Так, словно между ними уже установились доверительные отношения, она приблизилась к нему и расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке.
– Scusa[164]164
Извини (ит.).
[Закрыть], – сказала Даниэла.
А Тори Рако думал: и как это, черт возьми, такой желторотый балбес смог подцепить такую француженку, а? Куда катится мир? Даниэла перевела взгляд на цепочку с медальоном:
– Не знала, что ты верующий.
– Тут ничего религиозного.
– Но тут у тебя Божья Матерь Пардакская.
– Это просто память.
– О ком?
– Сам толком не знаю.
Даниэла сдержала улыбку. Повертела медальон между пальцами и уронила на грудь Адриа. Он быстро спрятал его, рассерженный таким грубым вторжением в свою личную жизнь. И сказал: это тебя не касается.
– Это как посмотреть.
Он не понял ее. Они шли молча.
– Очень красивый медальон.
Иаким снял его с шеи, показал ювелиру и сказал: золотой. И цепочка тоже.
– Краденые?
– Нет! Мне его подарила малышка Беттина, моя слепая сестра, чтобы я никогда не чувствовал себя одиноким.
– Тогда зачем ты его продаешь?
– Вы удивлены?
– Конечно. Память о семье…
– Семья… Как же я скучаю по дому, по всем живым и мертвым. По маме, отцу и всем Муреда: Агно, Йенну, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Ильзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и слепой малышке Беттине. Скучаю по природе Пардака…
– Что ж ты не вернешься?
– Потому что еще живы те люди, которые желают мне зла, и семья дала мне знать, что это неблагоразумно…
– А… – сказал ювелир, наклоняя голову, чтобы лучше рассмотреть медальон. Его совершенно не интересовали подробности жизни семейства Муреда из Пардака.
– Я заработал много денег, чтобы помочь братьям.
– Угу.
Ювелир изучал медальон еще некоторое время. Потом вернул его владельцу.
– Пардак – это Предаццо? – спросил он, глядя в глаза Иакиму. Казалось, он внезапно принял какое-то решение.
– Да, люди с равнины называют его Предаццо. Но это Пардак… Вы будете покупать?
Ювелир отрицательно покачал головой.
– Мне нужны деньги.
– Если останешься на зиму у меня, я научу тебя основам ремесла, а как сойдет снег – иди куда хочешь. Только не продавай медальон.
Так Иаким изучил ювелирное дело в доме этого доброго человека. Он узнал, как превращать металл в кольца, медальоны, серьги. На несколько месяцев его тоска утихла. Пока однажды ювелир не спросил его, словно продолжая прерванный разговор:
– Кому ты поручил деньги?
– Какие деньги?
– Которые послал своей семье.
– Одному доверенному человеку.
– Он окситанец?
– Да, а что?
– Нет-нет, ничего…
– Почему вы спрашиваете?
– Просто я слышал, что… ничего.
– Что вы слышали?
– Как зовут того человека?
– Его зовут Блонд из Казильяка. Потому что он блондин.
– Боюсь, ему не удалось дойти…
– Что?
– Его убили. И ограбили.
– Кто?
– Люди с гор.
– Из Моэны?
– Думаю, да.
Тем же утром Иаким попросил благословения у ювелира и с платой за зиму в кармане отправился в дорогу – выяснять, что случилось с деньгами и с бедным Блондом. Он шел очень быстро, подгоняемый яростью и утратив всякое благоразумие. На пятый день он добрался до Моэны, встал на главной площади и заревел: Броча, выходите! Один из семейства Броча услышал этот вопль и послал за двоюродным братом, тот – еще за одним. Так на площади собралось человек десять. Они схватили Иакима и поволокли к реке. В Пардаке криков не услышали. Медальон с Божьей Матерью, покровительницей лесорубов, достался тому Броче, кто первым его сорвал.
– Пардак – это в Трентино, – сказал Адриа.
– Не знаю, – ответила задумчиво Даниэла, – у нас дома говорили, что его привез из Африки мой дядя-моряк. Я никогда его не видела.
Они молча дошли до кладбища и Лурдской часовни. Это была приятная вечерняя прогулка. Они полчаса просидели молча на каменных скамьях в садике возле часовни, а потом Адриа, проникшись доверием к Даниэле, показал себе на грудь и спросил: хочешь забрать?
– Нет. Он твой. Не теряй его!
Заходящее солнце погрузило садик в причудливые тени. Адриа вновь спросил: что ты имела в виду под «таинственными вояжами» моего отца?
Он остановился в небольшом отеле в районе Борго, в пяти минутах ходьбы от собора Святого Петра, возле Пасетто. Это был скромный дешевый отельчик под названием «Браманте». Им управляла железной рукой римская матрона, такая древняя, будто современница императора Августа. Устроившись в скромной комнате на виколо делле Паллине, первым делом он отправился навестить отца Морлена. Завидя его фигуру у входа в галерею монастыря Святой Сабины, отец Морлен несколько секунд внимательно всматривался, пытаясь понять, кто этот человек… неужели…
– Феликс Ардевол! – закричал он наконец. – II mio omonimo! Vero?[165]165
Мой тезка! Верно? (ит.)
[Закрыть]
Феликс Ардевол утвердительно кивнул и, изобразив почтение, облобызал влажную руку священника, жарящегося в своем толстом хабите. Морлен, посмотрев ему в глаза, несколько мгновений колебался, а потом повел его внутрь. Но не в келью и не в галерею вокруг монастырского двора, а в пустынный коридор с белыми стенами и какими-то неинтересными картинами кое-где. Длинный-предлинный коридор с несколькими дверями. По привычке понизив голос, как в старые времена, Морлен спросил: чего ты хочешь? Феликс Ардевол ответил: контакты, всего лишь контакты. Хочу открыть антикварный магазин и думаю, что ты можешь помочь мне достать первоклассные вещи для него. Они прошли несколько метров молча. Забавно: хотя коридор и был абсолютно пуст, ни шаги, ни речь не отдавались эхом от стен. Отец Морлен, видимо, знал об особых свойствах этого места. Наконец он остановился возле скромной картины, изображавшей Благовещение, промокнул лоб и посмотрел Ардеволу прямо в глаза:
– Сейчас, в разгар войны у вас, как тебе удалось пересечь границу?
– Я могу въезжать и выезжать без особых проблем. У меня свои способы и связи.
Отец Морлен сделал жест, которым показал, что не желает вникать в детали. Говорили они долго. Идея Феликса Ардевола была чрезвычайно проста: все больше граждан Германии, Австрии, Польши чувствуют исходящую от Гитлера опасность и ищут способы быстрее сменить обстановку.
– Так, значит, ты ищешь богатых евреев.
– Беглецы – всегда золотое дно для антиквара. Ты даешь мне информацию о тех, кто собирается уезжать в Америку. Остальное – моя забота.
Они дошли до конца коридора. Небольшое окошко выходило в маленький пустынный дворик, украшенный кроваво-красными геранями в горшках. Феликс представил монаха-доминиканца, поливающего эту шеренгу гераней. На противоположной стороне дворика простое квадратное окно, совершенное в своей простоте, выходило на возвышающийся вдалеке купол собора Святого Петра. Феликс смотрел на него и размышлял о том, что ему чрезвычайно нравится и само окно, и вид из него. Потом вернулся к реальности, подумав, что Морлен специально привел его сюда, чтобы показать этот дворик.
– Мне нужно всего три-четыре адреса с необходимой информацией по ним.
– А с чего ты взял, дорогой Ардевол, что у меня есть эта необходимая тебе информация?
– У меня есть источники: я посвящаю своей работе много времени и знаю, кто может помочь с контактами.
Отцу Морлену это не понравилось, но он не подал виду.
– Откуда взялся этот интерес к чужим вещам?
Ардевол чуть было не ответил: моя работа – это моя страсть, потому что, когда я нахожу какую-нибудь интересную вещь, весь мир для меня сужается до этой вещи – будь то статуэтка, рисунок, документ или холст. И в мире полно вещей, которые, если они не окажутся в правильных руках, так и не будут оценены по достоинству. Есть вещи, которые…
– Я стал коллекционером. – И повторил: – Да, я – коллекционер.
– Коллекционер чего?
– Просто коллекционер. – Он распахнул руки, словно святой Доминик на проповеди. – Я ищу прекрасные вещи.
Отец Морлен имел нужную информацию, о да! Если и был в мире человек, который был способен знать все, не покидая стен монастыря Святой Сабины, то это отец Феликс Морлен – друг для друзей и, как говорили, опасный человек для врагов. Ардевол был его другом, и потому им было легко договориться. Сначала Феликс Ардевол мужественно выслушал целую проповедь про тяжелые времена, которые помимо их воли затронули всех и даже, можно сказать, расплющили. Со стороны могло показаться, что они читают литанию[166]166
Литания – длинная молитва, состоящая из коротких повторяющихся воззваний или прошений.
[Закрыть] с четками в руках. Такие времена, постигшие Европу, вынуждают многих смотреть в сторону Америки, и благодаря отцу Морлену Феликс Ардевол получил возможность ездить по предвоенной Европе, спасая от возможных «землетрясений» войны мебель и обстановку. Первым контактом был дом на улице Тифер-Грабен в центре Вены. Это был очень красивый дом: не слишком большой, но вместительный. Ардевол нажал кнопку дверного звонка и обаятельно улыбнулся даме, которая открыла дверь с гримасой недоверия на лице. В тот раз он купил всю обстановку и продал ее вдвое дороже, оставив себе пять самых ценных предметов, причем проделал это, даже не уезжая из Вены, не покидая даже центра города. Такой блестящий результат мог бы вскружить голову, но Феликс Ардевол был человеком хитрым и умным. Поэтому работал он очень осторожно. В Нюрнберге купил коллекцию живописи XVII–XVIII веков: двух Фрагонаров, одного Ватто в неважном состоянии и трех Риго. Думаю, что и наш Миньон с желтыми гардениями – оттуда. В Понтеграделле, возле Феррары, он впервые держал в руках по-настоящему ценный музыкальный инструмент. Это был альт работы Николо Гальяно из Неаполя. Пока шли переговоры о сделке, Ардевол очень жалел, что не может сам сыграть на инструменте. Он хранил молчание, пока продавец – альтист по имени Давид Фьордализо (по полученным из надежных источников сведениям, игравший раньше в Венской филармонии, но вынужденный оставить ее из-за новых законов о чистоте расы и ныне пробавлявшийся игрой в кофейнях Феррары), – сильно нервничая и едва ли не шепотом называл цену: due milioni[167]167
Два миллиона (ит.).
[Закрыть]. Ардевол посмотрел на синьора Аррау, который вот уже час с лупой в руках изучал инструмент, и тот утвердительно опустил веки – да. Феликс Ардевол знал, что сейчас он с недовольным видом вернет альт владельцу и назовет другую цену – абсурдно низкую. Так он и сделал, но опасение потерять этот инструмент было столь велико, что ему пришлось хорошенько подумать, как вести себя дальше. Одно дело – хладнокровно торговаться, а другое – открыть собственный магазин, если он его вообще сможет открыть. В конце концов он купил альт за двести тысяч лир. И отклонил приглашение продавца, у которого тряслись руки, выпить кофе, потому что война учит не смотреть в глаза своим жертвам. Итак, Гальяно. Синьор Аррау сказал ему, что, хотя музыкальные инструменты и не его специализация, эту вещь можно продать в три раза дороже, если быть сдержанным и действовать не торопясь. И если хотите, я познакомлю вас с вашим соотечественником синьором Беренгером – молодым и очень даровитым человеком, который потрясающе точно определяет стоимость вещей. Тем более что, когда закончится война в Испании (а она ведь когда-нибудь должна закончиться), он собирается вернуться обратно.
Следуя прозорливым советам отца Морлена, Феликс Ардевол снял склад в одной деревне недалеко от Цюриха, куда и поместил диваны, канапе, консоли, стулья Чиппендейла, картины Фрагонара и Ватто. И альт Гальяно. Тогда он и подумать не мог, что однажды струнный инструмент, подобный этому, разрушит его жизнь. Но зато он уже ясно понимал, что одно дело – владеть антикварным магазином и совершенно другое – собственной частной коллекцией, составленной из самых лучших вещей, попавших к нему в руки.
Время от времени он возвращался в Рим, в гостиницу «Браманте», и встречался с Морленом. Они говорили о потенциальных клиентах, обсуждали будущее, и Морлен объяснял, что война в Испании не закончится никогда, потому что Европа стоит на пороге страшных потрясений, а потрясения неизбежно связаны с большими неудобствами. Карта мира должна измениться, а самый верный и быстрый способ для этого – бомбы и окопы, говорил он, безмятежно глядя на собеседника.
– Откуда ты все это знаешь?
Ничего лучше я придумать не мог. Мы с Даниэлой поднимались от Барри[168]168
Санта-Мария дел Барри – церковь XII в. в Тоне.
[Закрыть] к замку той дорогой, которой ходили только тогда, когда нужно было идти вместе с пожилыми людьми, избегавшими подъема по крутой тропинке.
– Какой невероятный вид! – сказала она.
Они стояли и наслаждались панорамой долины Вик[169]169
Плана-де‑Вик – долина, расположенная на середине пути между Барселоной и Пиренеями.
[Закрыть]. У Адриа мелькнула мысль об Аркадии.
– Откуда ты знаешь столько про моего отца?
– Потому что это и мой отец. Как называется та гора вдалеке?
– Мунсень.
– Правда, это похоже на presepe?[170]170
Вертеп (ит.).
[Закрыть]
Откуда тебе знать, что у нас дома никогда не бывало вертепа, подумал я. Однако Даниэла была права: Тона походила на рождественский вертеп, как никогда. Адриа кивнул:
– Вон усадьба Жес.
– Да. И усадьба Казик.
Они дошли до Башни мавров[171]171
Башня мавров – главная башня замка в Тоне, датируется IX–X вв.
[Закрыть]. Внутри – запустение и разруха. Снаружи – ветер и красота пейзажа. Адриа сел на краю обрыва, чтобы насладиться видом. И задал вопрос иначе:
– Почему ты мне все это рассказываешь?
Она села рядом и ответила, не глядя на него: потому что мы брат и сестра, потому что нам нужно понимать друг друга, потому что я теперь хозяйка усадьбы Казик.
– Я знаю, мама мне говорила.
– Я думаю снести дом: всю эту застарелую грязь, навоз, запах гнилой соломы. И построить новый.
– Ужас.
– Ты привыкнешь.
– Виола умерла от тоски.
– Кто это – Виола?
– Собака из усадьбы Казик. Бурая такая, с черной мордой и вислыми ушами.
Наверняка Даниэла не поняла, о чем я, но ничего не сказала. Адриа некоторое время молча на нее смотрел.
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
– Чтобы ты знал, кем был наш отец.
– Ты его ненавидишь.
– Наш отец мертв, Адриа.
– Но ты его все равно ненавидишь. Зачем ты приехала в Тону?
– Чтобы поговорить с тобой спокойно, подальше от твоей матери. В частности, поговорить про магазин. Когда он станет твоим, мне бы хотелось войти в долю.
– А со мной-то что толку говорить? Обсуждай это с мамой…
– С твоей матерью невозможно ничего обсуждать. Ты это отлично знаешь.
Солнце вот-вот должно было зайти за Кольсуспин. Я чувствовал внутри себя огромную пустоту. Луна уже появилась на небе. Кажется, начали петь цикады. Бледная луна повисла над Кольсакаброй. Когда магазин станет моим, говоришь?
– По законам жизни он будет твоим. Рано или поздно.
– Иди к черту…
Последнюю фразу я сказал по-каталански. Судя по ее улыбке, она прекрасно поняла – поняла, хоть и не изменилась в лице.
– Я еще много чего должна тебе рассказать. Кстати, какую скрипку ты привез с собой?
– Я не собираюсь много играть. На самом деле я бросил занятия. Привез инструмент только ради тети Лео.
Поскольку подступали сумерки, брат с сестрой начали спускаться. На этот раз они шли по узкой и крутой тропинке: он – широкими шагами, не обращая внимания на крутизну склона, она, хотя и в узкой юбке, поспевала за ним без видимых трудностей. Луна поднялась выше, когда они дошли до рощи возле кладбища.
– Так с какой скрипкой ты приехал?
– С той, что для занятий. А что?
– Насколько я знаю, – продолжал синьор Носеке, стоя посреди улицы, – на этом инструменте не играли сколько-нибудь регулярно. Как и на Мессии Страдивари, понимаете?
– Нет, – ответил Ардевол нетерпеливо.
– Я говорю вам о том, что это придает ей еще большую ценность. Ее след теряется сразу, в год создания, как только она попала в руки Гийома-Франсуа Виала. Возможно, на ней кто-то и играл, но достоверных сведений об этом нет. А теперь она вдруг появляется. Эта скрипка бесценна.
– Вот это я и хотел от вас услышать, caro dottore.
– В самом деле она появилась впервые? – с любопытством спросил сеньор Беренгер.
– Да.
– Я бы не купил ее, сеньор Ардевол. Это очень большие деньги.
– Но она их стоит? – спросил Феликс Ардевол, глядя на Носеке.
– Я бы заплатил не колеблясь. Если б такие деньги у меня были. У нее великолепный звук!
– Мне плевать, какой у нее звук.
– И исключительная символическая ценность.
– А вот это действительно имеет значение.
Они распрощались: начинался дождь. Синьор Носеке получил свой гонорар прямо на улице. Ужасы войны, миллионы погибших и целые города, сметенные с лица земли, научили людей не рассыпаться в любезностях, а принимать решения на месте, даже такие, которые могут повлиять не на одну человеческую жизнь. Перед тем как расстаться, Феликс Ардевол сказал: я последую вашему совету, сеньор Беренгер. Пятьдесят тысяч долларов – действительно огромные деньги. Большое спасибо вам обоим. Увидимся, если сведет судьба. Сеньор Беренгер, прежде чем свернуть за угол, повернулся и посмотрел на сеньора Ардевола. Притворился, что прикуривает сигарету, чтобы лучше его разглядеть. Феликс Ардевол затылком почувствовал его взгляд, но оборачиваться не стал.
– Кто такой синьор Фаленьями?
Он снова был в монастыре Святой Сабины. Снова в коридоре, где можно говорить, не опасаясь эха. Отец Морлен бросил взгляд на часы и энергично начал выставлять Ардевола на улицу.
– Но там же дождь идет, Морлен, черт тебя дери!
Отец Морлен раскрыл здоровый крестьянский зонт, взял Ардевола под руку, и они начали прохаживаться вдоль монастырской стены. Со стороны казалось, что отец-доминиканец утешает и наставляет тоскующего мирянина. Они шагали взад-вперед вдоль фасада монастыря – словно говорили о неверности, о приступах невоздержанности, о таких греховных чувствах, как зависть и гнев; я столько лет не исповедовался, святой отец… прохожие, видевшие их, были впечатлены.
– Консьерж Ufficio della Giustizia e della Расе.
– Это и я так знаю. – Два хлюпающих шага вперед. – Кто он? Ну же! Откуда у него скрипка такой ценности?
– Да, она действительно ценная.
– Ты получишь свой процент за посредничество.
– Я знаю, сколько он просит.
– Не сомневаюсь. Но не знаешь, сколько я ему заплачу.
– Его настоящее имя не Фаленьями. Его фамилия – Циммерманн.
Отец Морлен искоса посмотрел на собеседника. Пройдя еще немного, он не выдержал:
– Ты понятия не имеешь, кто это, да?
– Ясно только, что его настоящее имя и не Циммерманн.
– Будет лучше, если ты по-прежнему будешь называть его Фаленьями. Можешь дать ему четверть от того, что он запросил. Но не вздумай давить на него, потому что…
– Потому что он опасен.
– Да.
По виа дель Корсо пронесся американский джип и обдал их брызгами.
– Вашу мать… – выругался Ардевол, не повышая голоса.
Морлен осуждающе покачал головой.
– Дорогой друг, – сказал он с отстраненной улыбкой, словно разглядывая будущее, – такой характер сослужит тебе дурную службу.
– Что ты хочешь сказать?
– Что тебе придется признать, что ты вовсе не так несгибаем, как думаешь. Тем более в наступающие времена.
– Кто такой этот Циммерманн?
Феликс Морлен взял своего друга под руку. Стук капель, долбящих купол зонтика, не мешал внимательно слушать.
Снаружи, на берегу, стоял жуткий холод. Обильный снегопад все засы́пал и погрузил в молчание. Внутри, глядя на то, как радужно переливается вино в поднятом бокале, он сказал хозяину: «Да, я родился в состоятельной и очень набожной семье, и моральные принципы, в соответствии с которыми я был воспитан, помогают вашему покорному слуге принять на себя ту ношу, которую возлагает на него фюрер через конкретные инструкции рейхсфюрера Гиммлера, и справляться с нелегкой задачей служить родине надежным щитом против внутреннего врага. Это превосходное вино, доктор».
– Благодарю, – ответил доктор Фойгт, которому уже несколько наскучила эта напыщенная болтовня. – Для меня большая честь разделить его с вами в этом импровизированном жилище, – сказал он первое, что пришло в голову. С каждым днем ему все больше надоедали все эти гротескные и совершенно необразованные персонажи.
– Импровизированное, но уютное, – возразил начальник лагеря.
Еще глоток. Снаружи снег уже прикрыл срам земли холодной белой простыней.
Рудольф Хёсс продолжал:
– Для меня приказы священны, как бы они ни были тяжелы. Мы, в СС, должны быть готовы принести себя в жертву ради исполнения долга перед родиной.
Бла-бла-бла…
– Безусловно, оберштурмбаннфюрер Хёсс.
И тогда Хёсс рассказал ему ту патетическую историю про солдата Бруно Не-помню-как-его и, распалившись, принялся кричать, словно Дитмар Кельманн из Berlinertheater[172]172
Берлинский театр – театр, известный своими опереттами.
[Закрыть], а закончил знаменитым «унесите эту падаль!». Насколько доктор Фойгт знал, эту байку уже слышали пара дюжин человек и она всегда заканчивалась таким ором.
– Мои родители – ревностные католики в стране лютеран (если не сказать – кальвинистов) – мечтали вырастить из меня священника. Я провел много времени, размышляя над этой возможностью.
Несчастный завистник.
– Из вас бы получился хороший священник, оберштурмбаннфюрер Хёсс.
– Я думаю, да.
Надутый индюк.
– Я уверен в этом, потому что все, что вы делаете, вы делаете хорошо.
– То, что вы обрисовали сейчас как мою сильную сторону, может и погубить меня. Особенно сейчас, когда нас должен посетить рейхсфюрер Гиммлер.
– Почему же?
– Потому что, как начальник лагеря, я отвечаю за все недостатки системы. Например, последней партии баллонов с газом «Циклон» хватит только на два или максимум три раза. А интенданту в голову не приходит ни сообщить об этом мне, ни заказать новую поставку. И вот я должен просить об одолжениях, выискивать машины, которые, может быть, нужны в другом месте, и стараться не ссориться с интендантом, потому что мы все здесь, в Аушвице[173]173
Аушвиц, Аушвиц-Биркенау – немецкие названия концентрационного лагеря и лагеря смерти Освенцим, использовавшиеся нацистской администрацией.
[Закрыть], живем на грани срыва.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?