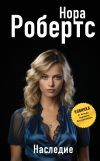Текст книги "Я исповедуюсь"

Автор книги: Жауме Кабре
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Я полагаю, опыт Дахау…
– С психологической точки зрения разница тут огромна. В Дахау сидят заключенные.
– Но они умирают, и умирают в большом количестве.
Этот доктор – просто идиот, думал Хёсс. Придется назвать вещи своими именами.
– Да, штурмбаннфюрер Фойгт, но Дахау – лагерь для заключенных. А Аушвиц-Биркенау задуман, спланирован и приспособлен для полного и окончательного уничтожения крыс. Если бы евреи были людьми, я подумал бы, что мы живем в аду, откуда есть всего одна дверь – в газовую камеру и одна судьба – огонь крематориев или рвы возле леса, где мы сжигаем лишние единицы, потому что не справляемся с объемами материала, которые нам присылают. Я еще не говорил об этом никому за пределами лагеря, доктор.
Да что он себе вообразил, этот идиот?
– Хорошо, что вы больше не держите это в себе, оберлагерфюрер Хёсс.
Хорошо бы сблевать, но не перед этим же надутым индюком-доктором, думал Хёсс.
– Я рассчитываю, что это профессиональная тайна, поскольку рейхсфюрер…
– Разумеется. Ведь вы христианин… А психиатр подобен исповеднику, которым вы могли стать.
– Мои люди должны быть очень сильными, чтобы исполнять доверенную им работу. Не так давно один солдат тридцати лет – не мальчик, понимаете? – расплакался прямо в казарме перед своими товарищами.
– И что же?
– Бруно, Бруно, проснись!
Трудно поверить, но начальник лагеря оберштурмбаннфюрер Рудольф Хёсс за вторым бокалом вина был расположен снова рассказать всю эту историю с начала до конца. После четвертого или пятого бокала взгляд у него остекленел. Он начал молоть какую-то ерунду, а потом сболтнул, что увлечен одной молоденькой еврейкой. Доктор сделал вид, что совершенно не удивлен, однако подумал, что это признание может сослужить ему хорошую службу в трудные дни. Поэтому на следующий день он переговорил с ефрейтором Хеншем, пытаясь узнать, про кого именно вчера обмолвился оберштурмбаннфюрер. Все оказалось просто: про свою служанку. Полученную информацию доктор занес в записную книжку – на всякий случай.
Спустя несколько дней он снова был вынужден копаться в дерьме – заниматься сортировкой товара. Доктор Фойгт, прячась от ветра, наблюдал, как солдаты с механической тупостью отделяют женщин от детей. Вот доктор Будден отобрал десять девочек и мальчиков, как он ему и велел. И тут доктор Фойгт обратил внимание на кашляющую старуху, по лицу которой текли слезы. Он подошел к ней:
– Это что такое?
Он положил руку на футляр для скрипки, но старая ведьма сделала шаг назад и выдернула его у Фойгта. Что вообразила о себе эта мерзавка? Поскольку она вцепилась в футляр мертвой хваткой, Фойгт вынул пистолет. Он приставил дуло к седому затылку и нажал на курок. Посреди всеобщего плача слабого щелчка почти не было слышно. Старая сволочь забрызгала футляр. Доктор приказал Эммануэлю почистить его и немедленно отнести к нему в кабинет. И, убирая пистолет, ушел, провожаемый взглядами людей, напуганных такой жестокостью.
– Вот он, – доложил Эммануэль спустя пару минут, кладя футляр на стол. Это был красивый футляр. Поэтому-то на него и обратил внимание доктор Фойгт. Красивый футляр не может хранить в себе плохой инструмент. А коли инструмент хороший, то ради него можно и Аушвиц перетерпеть.
– Открой замок.
– Каким образом, командир?
– Сам пошевели мозгами. – И внезапно испугался. – Только не сломай!
Эммануэль вскрыл замок при помощи ножа, который явно не входил в список табельного оружия. Фойгт записал это в свою записную книжку – на всякий случай. Потом дал знак оставить его одного и, замерев, открыл крышку. Да, внутри лежала скрипка. С первого же взгляда было понятно, что это, безусловно… так, спокойно. Он взял инструмент и прочел клеймо внутри: Laurentius Storioni Cremonensis me fecit 1764. Кто бы мог подумать!
Эта деревенщина Хёсс заявился к нему около трех, наморщил нос и посмел заявить: вы тут, в лагере, – никто, доктор Фойгт, временный консультант со стороны, кто вы такой, чтобы устраивать публичную экзекуцию в зоне приема и сортировки?
– Она отказывалась подчиниться.
– Что у нее было?
– Скрипка.
– Можно взглянуть?
– Она не имеет никакой ценности, оберштурмбаннфюрер.
– Не важно, я хочу посмотреть.
– Поверьте, она не представляет интереса.
– Это приказ.
Доктор Фойгт открыл дверцу шкафчика с медикаментами и тихо сказал со льстивой улыбкой:
– Пожалуйста, оберштурмбаннфюрер.
Рудольф Хёсс внимательно изучил инструмент, а потом сказал: я, конечно, не музыкант, но даже мне понятно, что это ценная скрипка.
– Мне нужно напомнить вам, что обнаружил ее я, оберштурмбаннфюрер?
Рудольф Хёсс поднял голову, удивленный чрезвычайно сухим тоном доктора Фойгта. Прошло несколько напряженных секунд, полных внутренней борьбы.
– Разве вы не сказали мне, что у нее нет никакой ценности?
– Да, нет. Но она мне нравится.
– Знаете что, доктор Фойгт? Я, пожалуй, ее заберу. В качестве компенсации за…
За что – он не знал. Поэтому дал себе время подумать, пока укладывал инструмент обратно в футляр и закрывал крышку.
– Какая досада! – Хёсс рассматривал футляр на вытянутых руках. – Это кровь, не так ли?
И прислонил его к стене.
– Видимо, придется поменять футляр.
– Я обязательно это сделаю. Потому что инструмент останется у меня.
– Ошибаетесь, друг мой, – у меня!
– Нет, не у вас, оберштурмбаннфюрер.
Рудольф Хёсс протянул руки к футляру, словно собираясь его забрать. Теперь стало совершенно очевидно, что это весьма ценный инструмент. Раз доктор осмелился вести себя так нагло, значит весьма и весьма ценный. Он улыбнулся, однако улыбка сползла с его лица, когда он услышал слова Фойгта, приблизившего к его лицу свой нос картошкой и выдохнувшего:
– Вы ее не заберете, иначе я донесу на вас.
– О чем же? – озадаченно спросил Хёсс.
– О номере шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь.
– Что?
– Елизавета Мейрева.
– Что?
– Номер шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь. Шесть, один, пять, четыре, два, восемь. Елизавета Мейрева. Ваша служанка. Рейхсфюрер Гиммлер приговорит вас к смертной казни, когда узнает, что вы имели сексуальную связь с еврейкой.
Красный как рак, Хёсс с сухим стуком положил скрипку на стол:
– Вы не можете нарушить тайну исповеди, мерзавец!
– Я не священник.
Скрипка осталась у доктора Фойгта, приехавшего в Аушвиц лишь на время, чтобы контролировать ход экспериментов доктора Буддена – этого надменного оберштурмфюрера, который, казалось, однажды проглотил палку от швабры и она так в нем и осталась. И работу еще трех врачей. Эксперименты эти Фойгт рассматривал как наиболее глубокое исследование пределов болевой чувствительности (из тех, что когда-либо проводили или еще проведут). В свою очередь, Хёсс просидел несколько дней в кабинете, пытаясь просчитать, насколько вероятно, что этот ничтожный воришка и педик Ариберт Фойгт, кроме того, еще и стукач.
– Пять тысяч долларов, синьор Фаленьями.
Человек с беспокойным взглядом уставился своими стеклянными глазами на Феликса Ардевола:
– Вы надо мной издеваетесь?
– Нет. Знаете что? Пожалуй, я остановлюсь на трех тысячах, герр Циммерманн.
– Вы сошли с ума!
– Вовсе нет. Либо вы отдаете ее мне за эту цену, либо… Думаю, властям будет интересно узнать, что доктор Ариберт Фойгт, штурмбаннфюрер Фойгт, жив и прячется всего в километре от Ватикана, укрываемый кем-то имеющим в Ватикане достаточно возможностей для этого. Да еще и пытается продать скрипку, украденную в Аушвице.
Синьор Фаленьями вынул маленький дамский пистолет и наставил на гостя. Феликс Ардевол не шевельнулся. Он сделал вид, что подавляет улыбку, и покачал головой, словно очень сильно разочарован:
– Вы тут один. И как вы собираетесь избавиться от моего тела?
– Я буду рад, если мне представится возможность решать эту проблему.
– У вас будут гораздо более серьезные проблемы: если я не спущусь вниз собственными ногами, люди, ждущие меня на улице, знают, что нужно делать. – Он указал на пистолет. – Учитывая это, я снижаю цену до двух тысяч. Вы же знаете, что входите в первую десятку лиц, наиболее разыскиваемых союзниками? – добавил он таким тоном, которым отчитывают непослушного ребенка.
Доктор Фойгт видел, как Ардевол вынул пачку банкнот и положил на стол. Он опустил пистолет и, глядя широко раскрытыми глазами, недоверчиво сказал:
– Тут всего полторы тысячи!
– Не вынуждайте меня терять терпение, штурмбаннфюрер Фойгт!
Так Феликс Ардевол защитил докторскую по части торговых операций. Уже через полчаса они со скрипкой были на улице. Он быстро шел по городу, чувствуя биение сердца и глубокое удовлетворение от хорошо проделанной работы.
– Ты нарушил священные правила в дипломатических отношениях.
– Что, прости?
– Ты повел себя как слон в лавке богемского стекла.
– Не понимаю, о чем ты.
Отец Феликс Морлен с негодованием и на лице, и в голосе процедил:
– Я – никто, чтобы судить людей. И синьор Фаленьями был под моей защитой.
– Да он та еще сволочь!
– Он находился под моей защитой!
– А почему ты защищаешь убийц?
Феликс Морлен захлопнул дверь перед носом у Феликса Ардевола, который так и не понял, отчего тот взбесился.
Феликс Ардевол вышел из Святой Сабины, натянул берет и поднял воротник пальто. Он не подозревал, что больше никогда не увидит этого удивительного доминиканца.
– Не знаю, что и сказать на это.
– Я еще многое могу рассказать о нашем отце.
Стемнело. Они шли по неосвещенным улицам, внимательно глядя под ноги. Возле усадьбы Жес Даниэла поцеловала его в лоб, и Адриа тут же увидел того ангела, которым она была для него когда-то, – только теперь без крыльев и неземного свечения. Потом он пришел в себя и понял, что все лавки уже закрыты, а тете Лео он так ничего и не купил.
20
Лицо, изборожденное трагическими морщинами. Меня поразил взгляд – ясный, прямой, – казалось, он обвиняет меня. Или, быть может, умоляет о прощении. Я угадал в этом взгляде множество пережитых несчастий еще до того, как Сара успела мне что-то рассказать. Все и так было сказано несколькими угольными штрихами на плотной белой бумаге.
– Потрясающий рисунок, – сказал я. – Мне хотелось бы познакомиться с этим человеком.
Я отметил про себя, что Сара ничего не ответила, а только положила сверху нарисованный углем вид Кадакеса. Мы смотрели на него и молчали. Весь дом молчал. Огромная квартира Сары, в которую мы вошли почти тайком, когда дома не было родителей, да и вообще никого не было. Богатый дом. Как и мой. Как тать, как день Господень, войду я в твое жилище.
Я не осмелился спросить, почему мы пришли, когда никого нет. Адриа было приятно увидеть мир, в котором жила девушка, чья задумчивая улыбка и мягкие жесты, каких он больше ни у кого не встречал, с каждым днем все глубже и глубже проникали во все его существо. Комната Сары была больше моей раза в два. Очень красивая комната: на обоях гуси и крестьянский дом, не такой, как усадьба Жес в Тоне, а чище, наряднее, без мух и навоза, похожий на картинку в детской книжке, – детские обои, которые остались до сих пор, хотя сейчас ей уже… Я не знаю, сколько тебе лет, Сара.
– Девятнадцать. А тебе двадцать три.
– Откуда ты знаешь, что мне двадцать три?
– На столько ты выглядишь.
И она накрыла лист с видом Кадакеса новым листом.
– Ты очень хорошо рисуешь. Дай-ка еще посмотреть на тот портрет.
Она снова положила портрет дяди Хаима сверху. Взгляд, морщины, дымка печали.
– Это твой дядя, говоришь?
– Да. Он умер.
– Когда?
– На самом деле это мамин дядя. Я его не знала. Ну то есть я была очень маленькая, когда…
– И как же…
– По фотографии.
– А почему ты решила его нарисовать?
– Чтобы сохранить его историю.
Они стояли в очереди в душевую. Гаврилов, тот самый, который всю дорогу в скотном вагоне пытался согреть двух девочек, оставшихся без родных, повернулся к доктору Эпштейну и сказал: нас ведут на смерть, и доктор Эпштейн тихо, чтобы другие не услышали, прошептал в ответ: это невозможно, вы сошли с ума.
– Нет, доктор, это они сошли с ума! Неужели вы этого не понимаете!
– Всем внутрь. Так, мужчины сюда. Дети могут идти с женщинами, конечно!
– Нет-нет. Аккуратно сложите одежду и запомните номер вешалки, чтобы когда выйдете… Понятно?
– Откуда ты? – спросил дядя Хаим, глядя в глаза дававшему указания.
– Вам запрещается с нами разговаривать.
– Кто вы? Вы ведь тоже евреи?
– Запрещается разговаривать, чтоб тебя! Не усложняй мне жизнь! – И снова всем: – Запомните номер вешалки!
Когда раздетые мужчины медленно потянулись в душевую, где уже толпились голые женщины, офицер СС с тонкими усиками вошел в раздевалку и, сухо кашляя, спросил: среди вас есть врач? Доктор Хаим Эпштейн сделал еще один шаг в сторону душевой, но Гаврилов, стоявший рядом, сказал: доктор, не валяйте дурака, это ваш шанс.
– Помолчи.
Тогда Гаврилов повернулся и показал пальцем на бледную спину Хаима Эпштейна и сказал: er ist ein Arzt, mein Oberleutnant[174]174
Он врач, господин обер-лейтенант (нем.).
[Закрыть]; и герр Эпштейн выругал про себя товарища по несчастью, который продолжал двигаться в сторону душевой с немного повеселевшими глазами и насвистывая себе под нос чардаш Рожавелди[175]175
Марк Рожавелди (Мордехай Розенталь; 1789–1848) – венгерский композитор и скрипач.
[Закрыть].
– Ты врач? – спросил офицер, подойдя к Эпштейну.
– Да, – ответил тот, смирившись со всем, а скорее от всего устав. А ведь ему исполнилось всего пятьдесят.
– Одевайся.
Эпштейн медленно оделся, пока остальные мужчины входили в душевую, направляемые, как пастухами, другими узниками с серыми износившимися взглядами.
Пока этот еврей одевался, офицер нервно расхаживал туда-сюда. Вдруг он закашлялся – может быть, чтобы заглушить сдавленные крики ужаса, доносившиеся из душевой.
– Что такое? Что там творится?
– Всё, пошли, – нетерпеливо сказал офицер, увидев, что Хаим, еще не успевший застегнуть рубаху, натягивает штаны.
Офицер вывел его на улицу, на безжалостный холод Освенцима, и завел в караульню, выгнав оттуда двоих скучавших часовых.
– Послушай меня, – приказал он, сунув Эпштейну в руки стетоскоп.
Эпштейн не сразу понял, чего хочет офицер, уже расстегивавший рубаху. Он не спеша вставил стетоскоп в уши и впервые после Дранси[176]176
Дранси – нацистский концентрационный лагерь в окрестностях Парижа, промежуточный пункт перед отправкой в Освенцим.
[Закрыть] почувствовал себя наделенным какой-то властью.
– Садитесь, – приказал он, снова став врачом.
Офицер сел на лавку караульной. Хаим внимательно выслушал его и, слушая, представлял себе распадающиеся легкие. Потом велел повернуться, выслушал грудь и спину. Затем сказал снова встать, просто чтобы дать еще одно указание офицеру СС. Несколько секунд Хаим думал о том, что, пока он занят с пациентом, его не отправят в эту страшную душевую, откуда доносились крики. Гаврилов был прав.
Он не мог скрыть удовлетворения, когда, глядя больному в глаза, сообщил, что необходим более полный осмотр.
– То есть?
– Осмотр гениталий, пальпация поясничной области.
– Хорошо, хорошо…
– Здесь больно? – спросил он, надавив на почку своими железными пальцами.
– Аккуратнее, черт возьми!
Доктор Эпштейн покачал головой, давая понять, что озабочен.
– Что?
– У вас туберкулез.
– Ты уверен?
– Совершенно. Болезнь зашла довольно далеко.
– А здесь на это всем плевать. Это серьезно?
– Очень.
– И что мне делать? – спросил офицер, вырывая у Хаима стетоскоп.
– Я поместил бы вас в санаторий. Это единственное, что можно сделать.
И, указывая на его пожелтевшие пальцы, добавил:
– И бросьте курить, ради бога.
Офицер позвал часовых и приказал отвести Хаима в душевую, но один из них махнул рукой – в том смысле, что уже все, это была последняя партия. Тогда офицер запахнул шинель и стал спускаться к комендатуре. На полпути он крикнул, заходясь кашлем:
– Отведите его в двадцать шестой барак!
Так он и выжил. Но часто повторял, что это было наказание пострашнее смерти.
– Я даже представить себе не мог такого ужаса.
– Это ты еще не все знаешь.
– Расскажи.
– Нет. Не могу.
– Ну вот!
– Пойдем покажу картины в гостиной.
Сара показала ему картины в гостиной, затем семейные фотографии; она терпеливо объясняла, кто есть кто на этих снимках, но, когда пришло время уходить, потому что кто-нибудь из домашних мог вернуться, она сказала: тебе пора. Но знаешь что? Я тебя немного провожу.
И так состоялось мое незнакомство с твоей семьей.
21
Софисты ни над чем не работали так систематически и усердно, как над развитием ораторского искусства. Сара. В ораторском искусстве софисты видели идеальный инструмент управления людьми. Сара, как вышло, что ты не захотела иметь детей? Благодаря софистам и их риторике публичные речи превратились в литературу, потому что люди начали относиться к ним как к произведениям искусства, достойным записи и хранения. Сара. С этого момента обучение ораторскому искусству становится необходимым для политической деятельности, но надо иметь в виду, что в сферу риторики включалась вся проза, особенно историографическая. Сара, ты для меня загадка. Таким образом, следует понимать, что в четвертом веке в литературе доминировала проза, а не поэзия. Любопытно. Но логично.
– Послушай, дружище, куда ты запропастился? Я тебя везде ищу!
Адриа поднял голову от Нестле[177]177
Вильгельм Нестле (1865–1959) – немецкий философ и филолог.
[Закрыть], открытого на пятнадцатой главе, на Исократе и новом типе образования. Он полностью погрузился в чтение и, как человек, которому трудно сфокусировать взгляд, не сразу сообразил, чье это лицо показалось в конусе света зеленой лампы в университетской библиотеке. Кто-то шикнул на них, и Бернату пришлось понизить голос. Усаживаясь на стул напротив Адриа, он говорил: вообще-то, Адриа уже месяц здесь не показывается; его нет, он вышел; я не знаю, куда он пошел; Адриа? Он целый день где-то ходит. Слушай, дружище… Даже у тебя дома не знают, где тебя носит!..
– Ты же видишь. Я занимаюсь.
– Ну да! Я сам тут часами сижу.
– Ты?
– Да. Знакомлюсь с красивыми девушками.
Адриа непросто было вынырнуть из четвертого века до Рождества Христова, тем более что Бернат требовал его внимания, чтобы высказывать упреки.
– Как дела?
– Что это за девица к тебе прицепилась?
– Кто тебе сказал?
– Да все! Женсана мне ее даже описал: темные прямые волосы, худая, карие глаза, учится в Высшей школе искусств.
– Ну, если ты все уже знаешь…
– Это та, что была в Палау-де‑ла‑Музика, правда? Которая еще назвала тебя Адриа Не-помню-как-дальше?
– Тебя это должно бы радовать, нет?
– Ха, и оказывается, ты в нее влюбился.
– Потише, пожалуйста!
– Простите.
Бернату:
– Давай выйдем.
Они прошлись по галерее внутреннего двора библиотеки, и Адриа впервые рассказал кому-то, что он окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно влюблен в тебя, Сара. Ты только моим ничего не говори.
– Ага, то есть эту тайну даже Лола Маленькая не знает.
– Надеюсь.
– Но ведь рано или поздно…
– Вот когда это «рано или поздно» наступит, тогда и разберемся.
– В сложившихся обстоятельствах я с трудом могу представить, что ты в состоянии поддержать того, кто до сих пор был твоим лучшим другом, а теперь на наших глазах превращается в просто знакомого, потому что свет клином сошелся на этой прелестной девушке по имени… Как ее зовут?
– Мирейя.
– Врешь. Ее зовут Сага Волтес-Эпштейн.
– Тогда зачем спрашивать? И зовут ее Сара.
– А зачем было врать? Что ты от меня скрываешь, а? Разве я не твой друг Бернат, чтоб тебя!
– Слушай, да что с тобой?
– Со мной то, что для тебя, похоже, вся жизнь до Сары не в счет.
Бернат протянул Адриа руку, и тот, слегка удивившись, пожал ее.
– Очень приятно, сеньор Ардевол. Меня зовут Бернат Пленса-и‑Пунсода, и еще пару месяцев назад я был твоим лучшим другом. Можно попросить тебя об аудиенции?
– Вот это да!
– Что?
– Да ты не в себе.
– Нет. Я просто возмущен. Друзья – прежде всего. И точка.
– Одно другому не мешает.
– Ошибаешься.
Не стоит искать у Исократа философскую систему. Исократ берет то, что кажется ему правильным, везде, где находит. Чистый синкретизм и никакой философской системы. Сара. Бернат поглядел на Адриа и встал перед ним, не давая идти вперед:
– О чем ты думаешь?
– Не знаю. В голове так много…
– На влюбленного типа аж смотреть противно.
– Не знаю, влюблен ли я.
– Ты же сам сказал, что окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно влюблен! Минуту назад это объявил!
– Но на самом деле я не знаю, что чувствую. Я никогда не чувствовал… э-э… Не знаю, как сказать.
– Ну, я ж тебе говорю.
– Что говоришь?
– Что ты влюбился.
– Да ты же сам никогда не влюблялся.
– Ты откуда знаешь?
Они сели на скамейку в углу галереи, и Адриа подумал, что софисты, конечно, интересовали Исократа, но только в связи с конкретными вопросами – например, Ксенофан и его идея культурного прогресса (нужно прочитать Ксенофана). А интерес к Филиппу Македонскому возник у философа в результате того, что он открыл важность роли личности в истории. Любопытно.
– Бернат.
Бернат отвернулся, делая вид, что не слышит. Адриа повторил:
– Бернат.
– Что?
– Что с тобой?
– Мне паршиво.
– Почему?
– У меня в июне экзамен, а я совсем, совсем, совсем, совсем не готов…
– Я приду тебя послушать.
– То есть ты не будешь занят этой пленительной особой?
– А хочешь, приходи ко мне, или я к тебе, и поиграем вместе.
– Не хочу отвлекать тебя от ухаживаний за Мирейей твоей мечты.
Словом, афинская школа Исократа предлагала не философию, а, скорее, то, что в Риме назовут humanitas и что мы сейчас могли бы назвать культурой вообще, – все то, на что Платон в своей Академии не обращал внимания. Вот ведь. Вот бы подсмотреть за ними в замочную скважину. И увидеть Сару и ее семью.
– Обещаю, я приду послушать тебя. И если хочешь, она тоже придет.
– Нет. Только друзья.
– Ну ты и свинья!
– Хау.
– Что?
– Сразу видно.
– Что видно?
– Что ты влюбился.
– А ты откуда знаешь?
Вождь арапахо с достоинством промолчал. Может быть, этот молокосос думает, что он сейчас расскажет о своих чувствах и переживаниях?
Карсон сплюнул и выступил вперед:
– Да дураку понятно. Даже твоя мать, скорее всего, догадалась.
– Мать думает только о магазине.
– Ну-ну.
Исократ. Ксенофан. Сара. Бернат. Синкретизм. Экзамен по скрипке. Сара. Филипп Македонский. Сара. Сара. Сара.
Сара. Дни, недели, месяцы мы были рядом, и я уважал древнее молчание, которым ты часто укутывалась, как покрывалом. У тебя был печальный, но удивительно ясный взгляд. Чем дальше, тем больше сил для учебы мне придавала мысль, что после занятий я увижу тебя и растворюсь в твоих глазах. Мы всегда встречались на улице: ели хот-доги на площади Сан-Жауме или гуляли по садам Цитадели[178]178
Цитадель – парк в центре Барселоны.
[Закрыть], наслаждаясь нашим тайным счастьем; но никогда не встречались у тебя или у меня, если только не были уверены, что дома никого нет: наша тайна должна была оставаться тайной для наших семей. Я точно не знал почему, а ты знала. И я отдавался течению дней этого непрерывного счастья, не задавая вопросов.
22
Адриа размышлял о том, что ему хотелось бы написать что-нибудь наподобие Griechische Geistesgeschichte[179]179
«История греческого духа» (нем.), труд философа В. Нестле.
[Закрыть]. Ему это казалось возможным будущим: думать и писать, как Нестле. И даже больше того, потому что это были месяцы инициации – живые, наполненные, героические, неповторимые, эпические, дивные, великолепные. Он думал о Саре и жил ею, и это увеличивало его жажду познания и придавало сил учиться и снова учиться, забывая о ставших уже привычными полицейских гонениях на все, что связано со студентами, которые казались властям поголовно коммунистами, масонами, каталонскими националистами и евреями – то есть представителями четырех великих язв, которые франкизм стремился извести дубинками и пистолетами. Весь этот мрак не существовал ни для тебя, ни для меня: мы учились целыми днями, смотрели в будущее, я смотрел в глубину твоих глаз и говорил: я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара.
– Хау!
– Что?
– Ты повторяешься.
– Я люблю тебя, Сара.
– Я тоже, Адриа.
Nunc et semper[180]180
Ныне и присно (лат.).
[Закрыть]. Адриа легко вздохнул. Был ли он счастлив? Я часто спрашивал себя, счастлив ли я. В те месяцы, ежедневно поджидая Сару на трамвайной остановке, я признавался себе, что да, я счастлив, мне нравится жить, потому что через пару минут из-за угла кондитерской выйдет худенькая девушка с темными прямыми волосами и карими глазами, студентка Высшей школы искусств, в шотландской юбке, которая так ей идет, с улыбкой, от которой теплеет на сердце, и скажет мне: привет, Адриа, и мы не сразу отважимся поцеловаться, ведь прямо посреди улицы, я знаю, все будут смотреть на меня, все будут смотреть на нас, будут показывать на нас и говорить: как вылетевшие из гнезда птенцы, так и вы, тайные влюбленные… День был облачным и серым, но мне он казался сияющим. Десять минут девятого, ничего себе. Мы с ней одинаково пунктуальны. А я жду уже десять минут. Она заболела. Ангина. Ее сбило такси и уехало. Ей на голову с шестого этажа упал цветочный горшок – боже мой, нужно обежать все больницы Барселоны! Вот она наконец! Нет, это какая-то худая женщина с темными прямыми волосами, светлыми глазами и накрашенными губами, на двадцать лет старше, она прошла мимо остановки, и наверняка ее даже зовут не Сара. Он попытался сосредоточиться и думать о другом. Задрал голову. Платаны на проспекте Гран-Виа зеленели свежими листочками, но проезжающим машинам было все равно. А мне – нет! Цикл жизни! Весна… Follas novas[181]181
«Новые листы» (галис.) – название сборника 1880 г. испанской поэтессы Росалии де Кастро (1837–1885).
[Закрыть]. Он снова посмотрел на часы. Невероятно: она опаздывает на двадцать минут! Проехало еще три или четыре трамвая, и он не мог больше противиться странному предчувствию. Сара. ¿Qué pasa ó redor de min? ¿Qué me pasa que eu non sei?[182]182
Что происходит вокруг меня? Что происходит со мной, а я не знаю? (галис.) – первые строки одного из стихотворений Р. де Кастро из сборника «Новые листы».
[Закрыть] Несмотря на предчувствие, Адриа Ардевол прождал два часа на каменной скамье на Гран-Виа, рядом с остановкой трамвая, не отводя глаз от кондитерской на углу, не думая о Griechische Geistesgeschichte, думая только о тысячах несчастий, которые случились с Сарой. Я не знал, что делать. Лежит в постели Сара, лежит дочь короля; врачи приходят к ней, лекарства принося[183]183
Несколько измененные строки народного каталонского романса «Завещание Амелии», в котором рассказывается о том, как мать отравила дочь из ревности.
[Закрыть]. Ждать дольше не было никакого смысла. Но он не знал, что делать. Он не знал, зачем ему жить теперь, когда Сара не пришла. Ноги сами привели его к дому Сары, несмотря на строжайший запрет возлюбленной, но он ведь должен быть там, когда ее будет увозить «скорая помощь». Дверь подъезда была закрыта, внутри консьерж раскладывал письма по почтовым ящикам. Невысокая женщина пылесосила лежащий посредине ковер. Консьерж закончил свое дело и открыл дверь. Донесся недовольный шум пылесоса. Консьерж, в своем смешном фартуке, посмотрел на небо, чтобы понять, соберется ли дождь, или тучу пока пронесет. А может быть, он ждал «скорую помощь»… Ах, дочка моя, дочка, скажи, чем ты больна? Ах, матушка родная, не вам ли лучше знать[184]184
Цитата из «Завещания Амелии».
[Закрыть]. Я не был уверен, какой именно балкон… Консьерж заметил праздного молодого человека, который уже несколько минут рассматривал дом, и окинул его подозрительным взглядом. Адриа сделал вид, что ждет такси – может быть, то самое такси, которое ее сбило. Он сделал несколько шагов вниз по улице. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo á desgracia traidora que ven, e que nunca se sabe ónde ven[185]185
Я боюсь того, что живет, но не видно глазу. Боюсь предательского несчастья: оно придет, но чего коснется – знать нельзя (галис.) – последние строки одного из стихотворений Р. де Кастро из сборника «Новые листы».
[Закрыть]. Sara, ónde estás[186]186
Сара, где ты (галис.).
[Закрыть].
– Сара Волтес?
– А кто ее спрашивает? – Голос элегантный, нарядный, уверенный, благородный.
– Это… Из церкви… Рисунки, с выставки рисунков…
Да что ж такое! Когда собираешься соврать, прежде чем начать, надо все продумать. Нельзя же начать, а потом застыть с открытым ртом, не зная, что сказать, идиот! Из церкви. Рисунки. Просто смешно! Смешно до неприличия. Поэтому естественно, что элегантный, уверенный, благородный голос сказал: я полагаю, вы ошибаетесь, – и трубку повесили – тактично, вежливо, мягко, – а я дал маху, потому что не сумел соответствовать обстоятельствам. Наверняка это была ее мать. Ах, матушка, вы дали мне яд, чтоб отравить. Ах, дочка моя, дочка, грешно так говорить[187]187
Цитата из «Завещания Амелии».
[Закрыть]. Адриа повесил трубку, чувствуя себя посмешищем. В глубине квартиры Лола Маленькая копалась в шкафах, доставая белье, чтобы перестелить постели. На большом столе в отцовском кабинете были разложены книги, но Адриа думал только о бесполезном телефоне, неспособном рассказать ему, где Сара.
Высшая школа искусств! Я никогда там не был. Не знал, где она находится и существует ли вообще. Мы всегда встречались на нейтральной территории, ты на этом настаивала, – в ожидании, когда на нашем горизонте взойдет солнце. Когда я вышел из метро на станции «Жауме Первый», начался дождь, а у меня не было с собой зонта, потому что в Барселоне я никогда не ношу зонта, и мне пришлось по-дурацки поднять ворот пиджака. Я дошел до площади Вероники и встал перед странным неоклассическим зданием, о существовании которого до этого дня даже не подозревал. Я не обнаружил ни следа Сары ни внутри, ни снаружи; ни в коридорах, ни в аудиториях, ни в мастерских. Я дошел до здания Морской биржи, но там ничего не знали ни о школе, ни об искусстве[188]188
Высшая школа искусств Барселоны изначально располагалась в здании Морской биржи.
[Закрыть]. К этому времени я уже насквозь промок, но мне пришло в голову дойти до школы дизайна Массана, и там у входа я увидел ее: она стояла спиной ко мне под темным зонтом и, смеясь, болтала с каким-то парнем. На ней был рыжий платок, который так ей к лицу. Неожиданно она поцеловала этого парня в щеку – для этого ей пришлось встать на носочки, – и Адриа впервые в жизни яростно пронзила ревность, и он почувствовал, что задыхается. Потом тот парень вошел в здание школы, а она повернулась и пошла в мою сторону. Сердце было готово выпрыгнуть у меня из груди, потому что счастье, переполнявшее меня всего несколько часов назад, превратилось в слезы отчаяния. Она не поздоровалась со мной, она не взглянула на меня – это была не Сара. Это была худая девушка с прямыми темными волосами, но глаза у нее были светлые, а главное – это была не Сара. Я мок под дождем и снова был самым счастливым человеком в мире.
– Нет, это… Я ее однокурсник и…
– Ее нет.
– Простите?
– Ее нет.
Ее отец? Я не знаю, есть ли у нее братья, а может быть, с ними, кроме воспоминаний о дяде Хаиме, живет еще какой-нибудь дядюшка.
– То есть… Что вы хотите сказать?
– Она переехала в Париж.
Самый счастливый человек в мире повесил трубку и почувствовал, что у него из глаз сами собой ручьем катятся слезы. Он ничего не понимал; как может быть, чтобы Сара… она же ничего мне не говорила. Так неожиданно, Сара. Ведь еще в пятницу, когда мы в последний раз виделись, мы договорились встретиться на остановке трамвая! Сорок седьмого, да, как всегда с тех пор, как… Что она забыла в Париже? А? Почему она сбежала? Что я ей сделал?
В течение десяти дней кряду, каждое утро ровно в восемь, в дождь и в солнце, Адриа приходил на встречу на трамвайной остановке и желал, чтобы произошло чудо и Сара не уехала в Париж – и чтобы, одним словом, вот и я; или, например, я хотела проверить, правда ли ты меня любишь; или, не знаю, что угодно, может быть, она придет после четвертого трамвая. На одиннадцатый день, придя на остановку, он сказал себе, что сыт по горло трамваями, на которые они никогда не сядут вдвоем. И больше никогда я не был на этой остановке, Сара. Больше никогда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?