Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
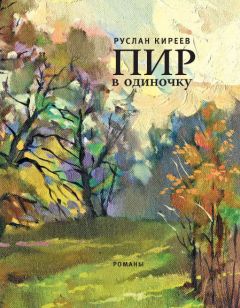
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Как правило, Жилец – а К-ов данный феномен окрестил словом Жилец, что было, по-видимому, не совсем точно, но сам характер явления исключал более определенную формулировку, – Жилец появляется в доме незаметно и долгое время ничем не выдает своего присутствия. Что, совсем уж следов не оставляет? Да нет, оставляет, но обнаружить их весьма непросто, так умело имитирует, конспиратор, повадки и манеры хозяина. Его голос… Его жесты… Его приглушенные вздохи, в которых, если внимательно прислушаться, можно все-таки уловить что-то необычное… Но вот раздается вдруг чье-то покашливанье – явно чужое покашливанье, шаги чьи-то – явно чужие шаги, чужое дыхание… Вот кто-то на цыпочках выходит среди ночи на балкон, где доцветает фасоль – под ногой звонко всхрустывает опавший лист, – и надолго замирает там: дышит под покровом темноты воздухом. Потом прокрадывается на кухню и, не зажигая света, пьет в одиночестве чай: электрический самовар к утру еще не успевает остыть. Между тем творожное печенье с корицей, что лежит в стеклянной, на высокой ножке вазе, тускло отсвечивающей во тьме, поэтому не заметить ее трудно, – творожное печенье остается нетронутым, а это любимое лакомство главы семьи: с противня, бывало, хватал, еще горячее, тут же целехонько все – в отличие от хозяина, таинственный квартирант к еде равнодушен. А жена молчит! Жена видит все, но молчит, и это, как и появление Жильца, симптом тревожный: прежде никаких тайн между супругами не было. Ночи напролет болтали, шикая друг на дружку: тише! тише! – ибо рядом, в той же комнате, их единственной комнате, посапывала в кроватке маленькая дочь. Теперь комнат три, и детей малых нет, выросли, и хватает в общем-то времени, которого в молодости всегда в обрез, но где те споры до утра, те неторопливые беседы и быстрые, захватывающие дух откровения? Садясь за ужин или обед, включают радио – безотказное, неиссякаемое, нестареющее радио, которое говорит за обоих, а хозяева если и раскрывают рот, то чтобы осведомиться, какую погоду обещают на завтра, взять ли белье из прачечной, звонила ли дочь… Имеется в виду старшая дочь, что давно уже живет отдельно, своей семьей и по своим правилам, в которых родители отчаялись что-либо понять, но у них хватает ума не навязывать правил собственных. Младшая тоже вот-вот выпорхнет: по вечерам телефон работает только на нее, а если в молодое нескончаемое чириканье прорывается ненароком полузабытая хрипотца какого-нибудь старинного приятеля, то лишь затем, чтобы поздравить с праздником, с днем рождения поздравить (не всегда; забывать стали) или сообщить очередное траурное известие – вот тут уж не забывают никогда. Уходят дети, опадают, как листья на балконе, друзья – самое время, казалось бы, стать ближе друг к другу, вместе стареть и вместе умирать – ан нет! Появился некто третий, и «этот третий разбил нашу жизнь». На слова эти К-ов наткнулся в дневниках Софьи Андреевны, за которые снова взялся неожиданно для себя лет этак через десять – двенадцать после первого чтения, что, разумеется, не было случайностью: в большой, любовно и тщательно собираемой библиотеке насчитывалось весьма немного книг, которые время от времени перечитывались. Открыл наугад, полистал, и в глаза ударила фраза о «третьем», что вкрался с разрушительными целями в почти полувековое счастливое супружество.
Речь, конечно, шла о Черткове, под злую и коварную власть которого Толстой попал якобы незадолго перед смертью, однако при внимательном и целенаправленном чтении – а это второе чтение было, надо признать, целенаправленным – беспощадно-откровенные, страстные записи толстовской жены давали основание полагать, что грузный – и телом и умом, простодушный Чертков был ипостасью поселившегося в доме призрака. Его, если угодно, приспешником. Стало быть, и там, в яснополянской усадьбе, имел место феномен Жильца, вот только у великих феномен сей проявляется мощно и бурно, сотрясая мир, который и поныне завороженно взирает на крестный путь из Ясной в Астапово, у простых же смертных довольствуется коммунальными рамками. Что ж, атом тоже, как известно, уподобляют звездным структурам, и это не унижает космос, отнюдь…
«С ужасом присматриваюсь к нему», – записывает Софья Андреевна, не подозревая, что вовсе не ко Льву Николаевичу присматривается она, к другому («злое чуждое лицо. Он неузнаваем!») – да, к другому, коему хозяин яснополянской усадьбы уступает мало-помалу законное свое место. «Лев Николаевич наполовину ушел от нас».
Прежде К-ов делился с женой прочитанным, а здесь хоть бы словечком обмолвился, когда же сама спросила, что, дескать, за книга у него, буркнул в ответ что-то нечленораздельное и поспешил уединиться. От кого бежал он? От жены? Или, может быть, от Жильца, которого сам обнаружить не мог, но о вкрадчивом присутствии которого догадывался по ее поведению? То есть отраженно видел: в глазах супруги, которая, почувствовав неладное, быстро отводила взгляд, так что хорошенько не успевал рассмотреть, по увядшему лицу ее со следами бессонницы – неясная тень вдруг мелькала на нем, точно кто-то бесшумно проходил в отдалении (раз К-ов обернулся даже), по замедленной реакции на его слова, будто другого кого слушала, напряженно слушала и ревниво, а его – так, вполуха, и потом, спохватываясь, переспрашивала.
Это раздражало его. Упрямясь, не повторял сказанного, а однажды посоветовал сходить к ушнику. «Я отлично слышу!» – с обидой и даже, почудилось ему, с отчуждением, а в комнате холодком повеяло: тот, другой, подкрался, видать, совсем близко. Вся напряглась – можно представить себе, какие эмоции вызывал у нее этот субъект! – но то было напряжение не только неприязни, но и острого, звериного какого-то внимания. Должна же знать она, что за тип поселился инкогнито в их доме! Это не любопытство было, ни в коем случае, это был страх, причем страх не столько за себя, сколько за мужа, над которым, чуяла она, нависла неведомая и грозная опасность. Не за ней ведь охотятся, за ним, его место норовят занять – место живого еще человека. Вон как примеривается, актеришка! Вот с каким коварством, с каким сладострастием имитирует походку и мимику! Но женщину обманешь разве! Разве обведешь вокруг пальца ту, которая прожила с мужчиной без малого тридцать лет и теперь, что ж, должна безучастно наблюдать, как его, глупого, выживают из собственного дома? Правда, пока лишь из дома, не претендуя, к примеру, на хождение в клуб или по гостям. Это по-прежнему оставалось прерогативой мужа, которой он, впрочем, пользовался все реже и реже. Под разными предлогами отклонял приглашения, да и к себе редко кого звал, хотя в прежние времена обожал шумные застолья. Даже в театр, раньше столь любимый им, выбирался редко, почти не выбирал с я, когда же знакомый драматург или режиссер приглашали на премьеру, отправлял, ссылаясь на нездоровье, жену с дочерью. Жильцу потворствовал, который, понимала супруга, дает себе в ее отсутствие полную волю.
С тяжелым сердцем уходила из дому, а он как бы обещал смиренным своим видом, что все о’кей будет, никаких посторонних, однако, возвращаясь, обнаруживала всякий раз следы чужого хозяйничанья. То пластинка с концертом Шопена лежит не на месте, хотя зачем вдруг понадобился. Шопен немузыкальному ее супругу, то все перекопано в ящике со старыми фотографиями и старыми письмами, куда он отродясь не заглядывал. «Искал что-то?..» Тихо и мирно спросила, с желанием помочь – уж она-то, женщина, лучше знает, где что лежит, но ответ его был как сжатая пружина: «Ничего я не искал!»
Сердце ее нехорошо забилось. Не потому что обманывали, в их доме, знала она, не лгут, – а потому как раз, что говорили правду. Он действительно ничего не искал, но это он не искал, он… «Кто же тогда?» – произнесла она почти машинально, и тут, говоря словами Софьи Андреевны, из него «выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое».
То была первая запись 1910 года – года, который сделает ее вдовой…
«Прости ради бога!» – пробормотал К-ов и медленно огляделся. Секретер со стопками журналов, старый магнитофон на тумбочке, где прежде стояло что-то другое – ах да, аквариум, в котором старшая дочь разводила рыбок, маленький, в некрашеной рамке пейзаж над тахтой, уголок южного города, его, кажется, подарок – ну да, его, вот только чем привлекла его эта блеклая картинка? «Прости… Что-то не то со мной сегодня…» И быстро в кабинет ушел.
Это она называла так: кабинет, он же терпеть не мог этого казенного слова. Лишь днем работал там, ночью же – никогда, а если приспичивало, записывал лежа, зажигая бра в изголовье. А тут вдруг, проснувшись, увидела свет в кабинете. Шорох услышала… Странное звяканье… Откинув одеяло, тихо спустила ноги, нашарила тапочки, бесшумно подкралась к распахнутой двери. И – чуть не вскрикнула. Вытянувшись во весь рост, на тумбочке стоял человек в пижаме, босой, и простирал руку к кашпо с вьюном, что бежал по невидимой леске к стеллажам с книгами… Не вскрикнула, нет, но чем-то все-таки выдала свое присутствие, потому что незнакомец вдруг стремительно обернулся.
Тревожно вглядывалась жмурящимися с темноты глазами в костлявого, бледного, как покойник, старика, на котором была пижама ее мужа, собственноручно выглаженная ею третьего дня. Вот! Уже и пижаму реквизировали…
От порывистости, с какой повернулся, немного воды из кружки выплеснулось, по обоям расползлось бесформенное пятно. Скосив глаза, оба смотрели на стену. «Ничего, – успокоила жена. – Ремонт скоро».
Он опасливо и пытливо глянул на нее и стал медленно слезать с тумбочки. О ремонте давно говорили, но все как-то не доходили руки, и, может быть, подумал он, может быть, так и не дойдут уже. «Днем забываю полить, – молвил с потупленным взором. И прибавил неожиданно: – Не сердись».
Теперь это снова был он, ее муж, нелепый, неуклюжий, в возвращенной пижаме, на которой, заметила она, недостает пуговицы. «Я не сержусь, – сказала она и тоже опустила глаза. – Я… Я все понимаю».
К-ов испугался. Он точно помнит, что испугался, но виду не подал, произнес осторожно: «Что ты понимаешь?»
За плотно зашторенными окнами промчалась далеко по ночной просторной трассе (даже на слух просторной!) шальная какая-то машина. Он ждал. «Понимаю, – ответила она, по-прежнему не подымая глаз, – что ты любишь одиночество».
С чувством облегчения опрокинул он в рот оставшиеся в кружке капли. С незапамятных пор ставил себе на ночь воду, хотя пил редко, почти не пил – то был своеобразный ритуал, один из множества ритуалов, что накапливаются за годы и десятилетия совместной жизни, как накапливаются в костях известковые отложения… Всякая религия, вычитал К-ов, ритуальна по своей сути, но разве, думал он, только религия? А жизнь? Просто жизнь – мыслимо ли представить ее без ритуальной дисциплины, этого известкового скелета, этого остова, на котором, собственно, и держится плоть?
Теперь остов разрушался. Разрушалось то, что, крупинка к крупинке, возводилось в течение многих лет, что срослось, стало единым целым. «Для одиночества, – проговорил он и уточнил, запнувшись: —Для полного одиночества, для настоящего, нужны другие люди».
В глазах жены, теперь уже привыкших к свету, всплыло недоумение. Ему и самому-то поначалу это неожиданное открытие – собственное его открытие – показалось абсурдным. Одиночество и – другие? Экая нелепость! И тем не менее все правильно: другие необходимы. Не здесь, не рядом, а отделенные временем, пространством отделенные, пусть даже весьма значительным, но – необходимы!
Жена слабо улыбнулась. «У нас есть другие…» И покосилась на оскверненную стену.
Медленно, с недобрым предчувствием, повернул беллетрист голову. Пятно все еще расползалось и, расползаясь, теряло, как ни странно, свою бесформенность, обретало исподтишка очертания чего-то знакомого. Маленькое усилие – совсем маленькое! – и К-ов узнал: очертания человеческой фигуры.
Вытянув палец, жена стерла с тумбочки капельки воды…
К утру фигура на обоях побледнела, но виделась все равно отчетливо. Закрывшись в своей комнате, К-ов долго изучал ее. Явно мужской была она, явно стариковской, точно кто-то невидимый прошел сквозь стену.
Сняв с полки дневники Софьи Андреевны, два тяжелых, в темном переплете тома, стал медленно перелистывать. Как и все на свете дневники, даже самые откровенные, они, разумеется, не были адекватны действительности, но при умелом чтении она, действительность, со всеми ее извивами и темными местами, все равно проступала. «Лев Николаевич, муж мой…»
К-ов подчеркнул это место. Муж мой… Выходит, был еще кто-то, другой, присвоивший себе имя Толстого, как в ином случае прошедший сквозь стену присвоил пижаму? Был! Жилец действительно был, и в дневнике на этот счет имелись недвусмысленные свидетельства. «Злой дух… царит в доме».
Это для нее – злой, а для него, всю жизнь мечтавшего хоть мгновенье – одно-единственное мгновенье! – побыть не Львом Толстым и не оттого ли сочинявшего романы? Да, для полного, для роскошного, для комфортабельного – в тоске своей и неизбывности – одиночества непременно другие нужны, тебе подобные, и человеку благодать такая дана. И человеку, и любой на земле твари. А вот Господь Бог лишен ее. Бедный Бог! Ерническая мысль эта мелькнула в мозгу расшалившегося атеиста, а в следующее мгновенье, машинально перевернув несколько страниц, увидел снимок: Софья Андреевна на станции Астапово, в темном, до пят, балахоне, у дома, где умирает Толстой и куда ее не пускают. «Держали силой, запирали двери, истерзали мое сердце».
Спиной к К-ову стоит она, в белом крестьянском платке, прильнув украдкой к окну и загораживая глаза ладонью, чтобы хоть что-то разглядеть во мраке, где свершается таинство, – стоит уже восемь десятилетий и не знает, что вот сейчас, сейчас ужасный Жилец исчезнет бесследно, и ее Левушка вернется к ней навсегда.
Тариф: двести рублей минутаУлетали тем же беспосадочным панамериканским рейсом, что и К-ов два года назад – ровно два! – но К-ов на месяц улетал, меньше, чем на месяц, а Витюня с женой и сыновьями – насовсем. Неожиданностью не было это, так, чтобы полной неожиданностью: разговоры давно велись, но как-то исподволь, в плане гипотезы, теоретической возможности, реализовывать которую отнюдь не обязательно. Жена, правда, была настроена решительно, а это уже кое-что да значило, тем более если настроена решительно такая жена, как Наташа, женщина молчаливая, но деятельная, все на свете принимающая всерьез. И без того маленькая, выглядела рядом с мужем, очень даже оправдывающим фамилию Гора, совсем миниатюрной, почти игрушечной, что не помешало ей произвести на свет двух великолепных молодцев. Старшему семнадцать стукнуло, через год в армию – не это ли и подстегивало с отъездом?
Первой из большого, разветвленного семейного куста вылетела Наташина сестра-близняшка – вылетела, попорхала по свету и приземлилась за океаном. К-ов знал ее мало и, будучи в Нью-Йорке, даже не пытался разыскать, как, впрочем, и других московских знакомых, немногочисленных и не очень близких, которым, понимал, не до него – безвалютного (почти безвалютного), безъязычного (почти безъязычного) бывшего соотечественника. Своими силами обходился, благо заблудиться трудно было, поскольку жил хоть и не в центре, но недалеко от Бродвея, вернее, от того места, где Бродвей то ли начинается, то ли кончается, в сером будничном районе, без небоскребов и световых реклам. Даже овощных лавочек не было поблизости, этих благоухающих свежестью спасительных островков, где ближе к вечеру, когда цены спадали, К-ов покупал бананы – дешевле бананов пищи в Нью-Йорке нет. В Москве они, естественно, перепадали ему редко, для него это был плод запретный, сугубо женское лакомство, детское даже – мудрено ли, что так и не познал до пятидесяти лет, в чем прелесть сих экзотических плодов, при виде которых у дочерей слюнки текли! Вот и жевал их теперь без всякого удовольствия, лишь бы голод утолить, а обмякшую кожуру бросал в урны с черным полиэтиленовым мешком внутри. К десяти, когда возвращался в свой убогий номер, улицы пустели, желтые высокие фонари горели редко и еще реже светились окна, из которых доносилась чужая телевизионная речь. У косо припаркованных вдоль узкого тротуара темных машин прогуливался господин с собакой. С трудом сглатывал К-ов слюну – во рту было приторно от бананов, вязко и скучно. Зато у дочери, когда рассказывал после, зажигались глаза: бананы! на каждом углу! дешевле хлеба… А вот подружка ее, самая близкая, с первого класса не расставались, снисходительно улыбалась и говорила взрослым уверенным голосом: «А ты думала!» – голосом человека, который уже бывал там.
Она и бывала, вот разве что мысленно – пока мысленно! – но с каждым днем фантазия все больше обретала черты реальности. Уже вызов прислали… Уже подали документы на оформление… Дочь говорила об этом сперва с недоверием – Лиза уезжать собирается! – потом с тревогой, а под конец с ужасом и слезами на глазах: не собираются – уезжают, точно уезжают, билеты заказали… Она была в возрасте, когда человек еще не выучился терять, когда он скрепя сердце соглашается, что жизнь может обделить чем-то, – обделить, да, но не отобрать, не вырвать из рук, не резануть по живому… Весь последний день не расставались, а вечером, позвонив, объявила, что будет у Лизы до четырех утра, пока не придет такси. Рвалась в аэропорт ехать, однако в машине, к тайному, удовлетворению К-ова, не хватило места. Он тоже не спал всю ночь и, начиная с четырех, все выглядывал в окошко. Был конец июня, уже рассвело, но на улице – ни одной живой души. Деревья с высоты одиннадцатого этажа казались маленькими и густыми, съежилась песочница, а качели, на которых с утра до вечера каталась ребятня, смотрелись мертвой бутафорией. Птицы и те не щебетали… Для кого же предназначался этот ровный свет, чью жизнь озарял и чей благословлял путь? Ничей, и это придавало всему то особое спокойствие, то равнодушие и простор вечности, какие бренный человек может разве что подглядеть в редкие секунды из тесной своей конуры.
И вдруг все изменилось. Свет, который до сих пор рассеивался в пространстве, как бы в пучок собрался, да и само пространство сжалось, обрело центр, и центром этим была тоненькая девичья фигурка, медленно двигающаяся по пустынной улице. Сырой утренней прохладой обдало высунувшегося наружу отца, как-то внезапно и остро обдало, а она – в летнем платьице, с голыми руками, которые – то одна, то другая – подымались к лицу, чтобы вытереть, понимали наверху, слезы…
Четыре дня оставалось до отъезда Витюни. Вернее, три. Теперь уже – три.
Малодушно боялся К-ов назначенного на субботу прощального вечера. Прощального неминуемого разговора боялся (наверное, неминуемого), который они, перезваниваясь или встречаясь на ходу, с небрежностью откладывали. Еще, дескать, поболтаем! Еще успеем! И вот суббота настала…
Подходя к Витюниной двенадцатиэтажке, такой привычной, такой своей, – неужто никогда больше не побывает здесь! – К-ов думал, что застанет голые стены и немногих близких, самых близких, родственников, однако народу оказалось полон дом, одни уходили, другие приходили, без конца трезвонил телефон, сновали дети, один за одним произносились витиеватые тосты, седая дама просматривала, далеко отстраняя от глаз, пластинки и откладывала те, что собиралась забрать, другая листала сваленные в кучу журналы – словом, припоздалый гость понял, что никаких серьезных разговоров не будет, и с облегчением перевел дух. О его американской поездке зашла речь – отшучиваясь, сморозил что-то про бананы, и чернобородый Витюня с готовностью ощерил длинные порченые зубы. К бананам, само собой, был равнодушен, зато оба любили вареники с картошкой – москвичам блюдо это неведомо (а уж ньюйоркцам, резвился беллетрист, тем более), но в их южном городе его готовили все, и даже в ту достопамятную новогоднюю ночь (сколько лет прошло? Тридцать? Тридцать три?) вареники на столе были.
К-ов тогда в техникуме учился, Витюня – в медицинском институте, познакомили же их городские «Окна сатиры», для которых будущий врач рисовал карикатуры, а будущий романист строчил стихотворные подписи. Люди на рисунках выходили огромными, как их автор, это было смешно, но обидно не было, да и мог ли кого обидеть Витя Гора!
Жил он с матерью и сестрой в маленьком домике на окраине города, тогдашней окраине, теперь это почти центр, стоят многоэтажки, как в Москве (или как в Нью-Йорке), и у мамы благоустроенная квартира. К-ов не бывал в ней, вообще после той новогодней ночи не видел Витюниной матери – для него она так и осталась в комнате с низким потолком и цветами на подоконниках, сухонькая, с палочкой, тихая женщина, которая уже тогда казалась ему старой, хотя было ей, наверное, столько же лет, сколько ему теперь. Словно из будущего явилась, из сегодняшнего как раз времени… В углу стояла разряженная сосна, которую в наших южных краях именуют елкой, на зеленых лапах горело несколько больших, отнюдь не елочных лампочек, а одна, огромная, полыхала за окном, у сложенной из камня-ракушечника летней кухни. Ярко освещала она тесный дворик, виноградную, по-зимнему сквозящую беседку, а заодно улицу за низким забором, всю перерытую, фонаря же – ни единого, вот и палили ночь напролет, дабы случайный прохожий не свернул шею. В этом был весь Витюня, будущий доктор Гора, готовый в любое время суток слушать сердце и мять живот занемогшего приятеля.
Приятелей у него была прорва, кто-то всегда торчал в доме, а тут, в прощальный вечер, дверь и вовсе не закрывалась, люди шли и шли, многие с цветами (как на похороны, подумал беллетрист), благодарили, объяснялись в любви, напутственные произносили речи, он же каждого уговаривал взять что-либо на память. Пластинку… Книгу… А хотите, стул или тахту – с мебелью-то худо нынче! Совал бумажку с нью-йоркским адресом и телефоном – на первых порах будут жить у Наташиной сестры-близняшки. Совал с неловкостью и как бы виновато: понимал, что никто телефоном не воспользуется (тариф – двести рублей минута), не позвонит и не скажет жалобным голосом: что-то, Витюня, грудь покалывает, не глянешь ли?
К-ов тоже получил бумажку, старательно прочитал отпечатанные на компьютере английские слова и, сложив, спрятал во внутренний карман. Впервые за весь вечер одни оказались в комнате, бывшей спальне с еще не подаренной тахтой, и К-ов, вспомнив, что Витюня летал на денек проститься с матерью и сестрой, спросил, как там мать. Совершенно не представлял ее, теперешнюю, как – странное дело! – не представлял тогдашнего, еще безбородого Витюню. Забыл! Вот тихую женщину с палочкой помнил, помнил лампищу за окном, а Витюню – нет. «Ничего, – ответил будущий американец. – Ничего…» Глаза же с расширенными зрачками глядели беспокойно и остро, а на лбу жила вздулась. Сбивчиво, торопливо говорил, что оставил матери деньги на телефон, дозвониться, правда, нелегко, но можно, а вообще она отнеслась ко всему неожиданно спокойно, очень спокойно, очень, – и при этом смотрел на инженера человеческих душ так, как в иные минуты беллетрист К-ов глядел на доктора Гора. Но доктор Гора умел успокоить пациента, знал, какие слова сказать, когда улыбнуться, а когда нахмуриться, он был отличным целителем, доктор Гора, сочинитель же книг не нашелся, что ответить. К счастью, подлетел младший сын, затеребил отца, затрещал, потянул куда-то, и Витюня медленно поднялся. Он был редкостный папаша, мальчишки делали с ним, что хотели – и так всегда, с раннего детства, – ползали по нему (человек-гора!), а он лениво менял позу, чтоб им удобней было, и ни на миг не прерывал застольной беседы. Неповоротливый, тяжелый на подъем (человек-гора!) – сколько же сил потребовалось миниатюрной Наташе, чтобы сдвинуть этакую махину с места! И не просто сдвинуть, а транспортировать – страшно подумать! – за океан. Она и сейчас хоть бы на минутку присела, ходила туда-сюда с тарелками и чашками, молчаливая, как всегда, собранная, вот разве что небольшие цепкие глаза светились особенным каким-то блеском.
Когда К-ов собрался уходить, хозяин снимал бра – кто-то, видать, согласился взять на память, – да так с отверткой и вышел на лестничную площадку. Обнялись, неловко чмокнули друг дружку, Витюня бородой пощекотал, что-то, бодрясь, сказали со смешком, и один в грязной, исцарапанной кабине поехал вниз, а другой, ссутулившись, пошел довыворачивать шурупы.
На улице горели тусклые фонари, у тротуара машины темнели, а в отдалении прогуливался с собакой одинокий господин. Внезапно К-ов ощутил во рту вкус банана – приторный, вязкий вкус, и вдруг понял, точно вспыхнула в ночи та новогодняя лампа, почему спокойна была Витюнина мать. Ни единой слезинки не обронила, прощаясь – уже оттуда прощаясь, уже мертвая (Витюня, целуя, почувствовал жуткий холодок, не мог не почувствовать), – но это она не обронила, старая мать, это он не обронил, входя в лифт, земляк, друг юности, а та, что медленно шла в платьице по утреннему холодку, подымала и подымала к лицу тонкие руки. Все правильно… Чем суше наши глаза, чем незрячей и мертвее, тем горше, спасая нас, плачут за нас другие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































